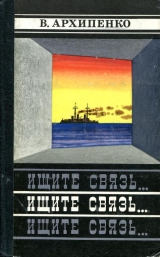
Текст книги "Ищите связь..."
Автор книги: Владимир Архипенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
Эссен, слушавший министра не перебивая, мрачнел с каждой секундой. Невидящим взглядом он уставился в карту, словно глядел сквозь нее вдаль. Лицо его побагровело, седоватая бородка несколько раз дернулась, ибо Николай Оттович непроизвольно для себя сделал несколько жевательных движений челюстью (приобретенная еще в детстве привычка). Вялой рукой достал из кармана носовой платок, вытер лоб и лысину и так же машинально засунул платок обратно.
Успевший оправиться от нервного потрясения, вызванного сообщением Белецкого, Григорович смотрел на сослуживца и друга с сочувствием. Он понимал, какая сумятица чувств обуревала его сейчас. Прежде всего командующий морскими силами Балтийского моря нес личную ответственность за все, что может случиться на судах. Но дело было не только в этом. Эссен никогда не боялся ответственности и не уклонялся от нее. Сейчас в нем были потрясены его лучшие чувства. Он любил морское дело до самозабвения, был ревностным служакой, ценил превыше всего порядок и дисциплину.
Григорович хорошо знал, что в отличие от большинства немецких дворян, составлявших значительную часть офицерства русского военного флота, Эссен служил царскому дому не за страх, а за совесть. Николай Оттович всегда от души переживал, если встречался с малейшим беспорядком на корабле, с малейшим нарушением дисциплины. За недолгое время командования флотом он сумел добиться многого – укрепил начальствующий состав, резко поднял уровень обучения нижних чинов. Его предшественники заботились больше о парадной стороне дела, упирая на строевую подготовку и то главным образом на берегу. Корабли в ту пору месяцами стояли у причалов. При Эссене они стали плавать, проводить маневрирование, стрелять, ставить мины – словом, делать все то, что положено им делать. Впервые за долгие годы разваленный еще до Цусимы и потрепанный Цусимой российский флот стал приобретать черты боеспособности. Сравнительно небольшие силы Балтийского моря на глазах превращались в крепкое ядро будущего флота.
Теперь все это могло полететь к черту. Вместо стройности, дисциплины, порядка – кровавая анархия бунтовщиков, распад флота, выведение его на долгие годы из боевой готовности…
– Нет, Иван Константинович, – стряхнув с себя оцепенение, хрипло сказал Эссен, – не могу поверить во все это… Не могу! Чтобы целый отряд судов подготовить к восстанию, а мы ничегошеньки об этом не знали! Не могу поверить, хоть убей. Да и потом, какого дьявола жандармы, если у них действительно есть сведения и даже списки, молчали до сих пор? Им-то в первую очередь надо заботиться о своевременной ликвидации крамолы. Гром меня разрази, тут что-то не то! Уж не провокация ли жандармская здесь? Ты же знаешь их привычку раздувать опасность, чтобы потом лавры пожинать…
– Думал я и о такой возможности, Николай Оттович, думал. Но вся беда в том, что охранное отделение сейчас нас за горло держит. Каковы бы ни были его действительные намерения, наш ответ сейчас может быть только один: немедленно дать согласие на аресты. У нас нет возможности поступить иначе после того, как Белецкий официально уведомил о том, что послезавтра на кораблях начнется бунт… Конечно, давая свое согласие, мы тем самым косвенно признаем, что сами прошляпили. А что делать, коли в самом деле прошляпили? Есть у меня смутное подозрение о том, что и жандармы что-то прозевали, слишком поздно получили информацию. Но, с другой стороны – откуда у них могут быть готовые списки? На это же время надо! А потом, Николай Оттович, боюсь я, что это не провокация. Слишком взвинчен был Белецкий, мне показалось, даже напуган… И коли разговор о восстании серьезен, то сам понимаешь, есть от чего испугаться. Ты помнишь, как «Потемкин» всему одесскому гарнизону свою волю диктовал – и казаки и солдаты ничего поделать не могли. С корабельными пушками не шутят… Ты представь себе, что не все корабли, а хотя бы «Слава» и «Цесаревич», захваченные бунтовщиками, к столице прорвутся…
– Не могу я такого себе представить! – стукнул ладонью по столу Эссен.
– Не можешь… Я бы вот тоже не хотел бы, а приходится с такой возможностью считаться… Давай-ка, Николай Оттович, присядь за стол, возьми себя в руки и попробуем вместе план действий набросать. Время не терпит…
– И вот еще что, – уже спокойнее сказал Эссен, – не могут «Слава» и «Цесаревич» в Неву войти… и «Рюрик» с «Олегом» не войдут – осадка не позволит.
– Это, дорогой, слишком слабое утешение для нас, моряков, – махнул рукой Григорович. – Большим кораблям и не к чему в Неву входить – достаточно встать в Морском канале у 114-го пикета. Оттуда весь Петербург под огнем держать можно.
Дощатый дом стариков Крауховых стоял на краю утонувшего в грязи рабочего поселка. На незамещенной улице земля совсем раскисла, и прохожих лишь частично выручали лежавшие поперек луж почерневшие доски. Проходя мимо покосившихся хибар с подслеповатыми окнами, Думанов старался ступать как можно осторожнее, но все равно, когда он добрался до места, ботинки его были сплошь залеплены грязью. Перед домом, который он узнал без труда по описанию Сергея, была замощена обломками битого кирпича и хорошо утрамбована небольшая площадка, маленькое крылечко тщательно вымыто. Думанов ощутил неловкость оттого, что ему придется ступить на чистые доски своими ботинками, но потом он заметил лежащую перед дверью рогожу, шагнул на нее и постучался. Открыла дверь маленькая старушка. Услышав, что он от Сергея, она всплеснула руками.
– От Сереженьки? Вот радость-то бог послал! Да заходи же ты, милый человек, скорее…
Войдя в небольшие сени, Думанов начал разуваться.
– Да уж ты напрасно это, мил человек, оботри ноги и проходи! – заволновалась хозяйка. – Зачем ботинки снимаешь – пол-то ведь холодный!
– Нет, мамаша, и не уговаривайте! – твердо сказал Думанов. – У вас тут такая чистота, что грешно в обуви…
Он прошел в носках в комнату и увидел отца Сергея – жилистого худощавого старика с седыми волосами и аккуратно расчесанной седой бородой. Он сидел на лавке за столом и чем-то вроде кривого ножа ковырял деревяшку. Думанов разглядел, что это деревянная ложка. Кучка уже готовых лежала на краю стола.
Когда гость рассказал все, что знал о Сергее, о его службе и как мог ответил на вопросы, старший Краухов, убирая инструменты в ящик, пояснил:
– Это я тут на свободе промыслом занялся. Еще в деревне мальчишкой научился ложки резать. Вот теперь и пригодилось. Нам ведь пособий и пенсий, как господам чиновникам, не выдают. Сыны и дочки, конечно, помогают чем могут, да у них свои семьи, ребятишек кормить надо… Вот я и занялся. Нарежу ложек, шкуркой да стеклышком отшлифую, лачком покрою, а потом на Сенной рынок в воскресенье отвожу. Платят опять же мало, но на ситники хватает, а когда и шкалик себе позволить можно… да и нос в табаке… Только что-то трудновато работать в последнее время стало. Однако чего это я заболтался? Соловья, известно, баснями не кормят. Давай-ка, мать, накрывай на стол чем бог послал, а я пока в печку дровишек подкину, чайничек поставлю…
Пока старики возились, Думанов оглядел комнату. Была она довольно большой, но пустоватой. Приткнутый к стенке некрашеный стол с двумя лавками по бокам, лавка у противоположной стены, большая, крытая лоскутным одеялом кровать с грудой подушек в сатиновых наволочках, сундук да полка – вот и вся ее обстановка. На окнах – пестрые ситцевые занавески. В углу аккуратно прилажена икона с лампадкой под ней, а в простенке – несколько фотографий. Комната напоминала Думанову избу, в которой ему доводилось жить во время ссылки.
Перехватив взгляд гостя, старший Краухов сказал:
– Это все, что ты видишь, своими руками сделано, да и сам дом тоже. Я ведь в молодости и столяром и плотником неплохим вроде был. Зарабатывал крепко в то время. А сейчас вот в пушечной мастерской дежурю, пропуска на вход и выход проверяю. Ну да ладно – давай садись поближе. Пока старуха с картошкой возится, мы с тобой под корочку за знакомство по стопке хлопнем. Шкалик я на пасху берег, да ведь с приездом гостя полагается…
– Спасибо, но только я не пью, – улыбнулся Думанов.
– Это как? – поразился тот. – Ты же сам говоришь, что токарь. А рабочему человеку разве ж в наше время без водки мыслимо? Так совсем и не потребляешь?
– Совсем.
– Ну-ну! – покачал головой Краухов. – Дела!
От печки подала голос жена, сказала с укоризной:
– А ты бы сам тоже не пил! Сам же только что говорил, что сердце щемит…
– Так это за работой, а сейчас-то что? Гость в доме – стало быть, праздник. Я уж за его здоровье пригублю немного, а остальное, как намечали, на пасху оставим. А то, что ты, мил человек, не пьешь – так это и хорошо. Ты на мои слова внимания не обращай. Это в мое время рабочий человек как свинья напивался, поди, кажную получку. А нынче многие рабочие достоинство блюдут. И, по правде сказать, мои сыновья тоже особенно этим не балуются. А Терентий, который в ссылке, тот и вовсе вроде тебя трезвенник. Одними книжками душу веселит. А я уж за твое здоровье стопочку выпью.
– Спасибо! – сказал Думанов.
Хозяйка поставила на стол горячую картошку «в мундирах», селедку, постное масло в блюдечке да ржаной хлеб, присела сама.
Беден был этот стол, но как радушны, как внимательны к гостю были хозяева! Мать Сергея заботливо подкладывала кусочки селедки, самые крупные и гладкие картофелины, положила в его стакан чая большущий кусок колотого сахара. Тимофей не любил сладкого, но сейчас не признался бы в этом ни за что. Он обычно стеснялся, когда оказывался в центре внимания, тут видно было, что хозяева от души хотят сделать ему приятное, и чувствовал себя свободно. Нервное напряжение минувшего дня постепенно сошло, уступило место расслабленности и покою.
Ему нравилась манера старшего Краухова разговаривать. Он после выпитой стопки по-хорошему захмелел, немного петушился, задорно тряс седой бородой. Жена одергивала его, но без раздражения, а с доброй усмешкой. А старик вдруг вспомнил, как собирались в прежние времена «стенка» на «стенку», какие были кулачные бойцы и как сам он когда-то на невском льду сшиб с ног первого заводилу противников. Слушая его рассказ, Думанов невольно вспомнил Сергея и понял, откуда у парня лихой нрав – видно, в батю пошел.
А мать, подождав, когда старый Краухов выговорится, опять свела разговор к делам сына, снова стала расспрашивать о подробностях его матросского житья, сетовала, что мало пишет. Ее очень обрадовало, что сына переводят служить в Кронштадт – все же это близко от Питера. Глядишь, как-нибудь сумеет и домой вырваться хоть на часок. Может, даже и скоро…
Думанов знал, что стоявшие в Кронштадте линейные корабли скоро уйдут в учебное плавание, и поэтому вырваться домой Сергею вряд ли придется, но он не стал говорить об этом, чтобы не расстраивать стариков. Вот если удастся выступление, если матросы в назначенный срок смогут захватить корабли – тогда Сергея ждать недолго. Но о намеченном восстании Думанов не имел права даже заикнуться.
После ужина гостю постелили на полу матрас, дали теплое ватное одеяло, и он неожиданно для себя заснул крепким сном и проснулся только в восемь часов утра, когда старик Краухов ушел уже на дежурство. Думанов быстро оделся, ополоснул у висевшего в сенях рукомойника лицо, выпил предложенный ему матерью Сергея чай с хлебом и, прощаясь, сказал, что если и придет ночевать, то, наверное, уже поздно вечером, так что к ужину его ждать не надо. Может и так случиться, что ему сегодня же срочно придется выехать обратно в Гельсингфорс.
Собственно говоря, связному Гельсингфорсского комитета задерживаться в столице незачем было. Коль скоро в конспиративной квартире по адресу, указанному вчера Шуркановым, ему удастся свидеться с представителем Петербургского комитета и передать ему всю информацию, тогда какой смысл оставаться здесь. Он вполне успеет вернуться к сроку намеченного восстания. Но, конечно же, условную телеграмму для Шотмана надо отправить сразу же после встречи на конспиративной квартире.
Хотя Петербурга Думанов совсем не знал, однако, проинструктированный накануне Шуркановым, нашел нужную ему улицу и дом без труда. Дом был четырехэтажный, с облупленным фасадом и единственным подъездом. Перед тем как войти в него, он по привычке подпольщика оглянулся и увидел идущих следом двоих людей. Что-то в их обличье мгновенно насторожило его. Лучше пока пройти мимо подъезда и, только убедившись, что это не слежка, вернуться сюда снова. Он пошел вперед, не ускоряя шага. Наверное, подумал Думанов, это все же не филеры, уж слишком открыто они шли за ним. Но тут из-за угла, к которому он направлялся, вышли еще двое, чем-то похожие на тех, что были сзади, не спеша двинулись навстречу ему.
И тогда сердце у него захолонуло – это уже было похоже на ловушку. На узкой безлюдной и незнакомой улице деваться ему было просто некуда.
В это мгновение Думанов поравнялся с подворотней и остро ощутил, что, может быть, именно здесь единственный для него шанс спастись. Не раздумывая, стремительно кинулся в подворотню, выскочил во двор. И тут под ноги ему кинулся человек. Думанов перелетел через него, попытался вскочить, но на него уже навалился, подмял под себя здоровенный дворник.
Думанов не отличался силой, но сейчас, пронизанный отчаянием, злостью, рывком подтянул колени и рванулся так резко, что дворник на мгновение ослабил медвежью хватку. Невероятным усилием Тимофей стряхнул его с себя, ударил ногой в живот, вскакивая, успел увернуться от наседавшего филера, который только что сбил его с ног, и метнулся к каменному высокому забору. За ним уже бежали, топали сапогами влетевшие с улицы преследователи. У забора Думанов напружился, подпрыгнул, успел ухватиться за верх, но руки соскальзывали, и ему никак не удавалось подтянуться.
А преследователи уже подскочили, вцепились в ноги, стащили его на землю, навалились. Думанов еще раз отчаянно рванулся, приподнял их, но на большее уже не было сил, и он обмяк, ткнулся лицом в холодную землю, обессиленно затих.
Филеры подняли его, крепко держа за руки, потащили на улицу. Там уже ждал подкативший к арке закрытый тюремный экипаж, куда его грубо втолкнули. Да, вся эта операция была тщательно продумана. Экипаж долго колесил по петербургским улицам. Когда его снова вывели, он заметил неподалеку очертания колокольни с острым шпилем и понял, что привезли его в Петропавловскую крепость.
В небольшом помещении, куда его сначала привели, начались знакомые тюремные формальности – его тщательно обыскали, отобрали все карманные вещи, сфотографировали в профиль и анфас, потом, макая поочередно пальцы в черную краску, сделали оттиски на специальном бланке. Он механически выполнял все распоряжения, но мысли были заняты другим – что могло случиться и что могут знать о нем в охранке?
После выполнения всех процедур Думанова отвели в соседнюю комнату, где стояли ничем не покрытый деревянный стол и два табурета. Здесь его оставили одного, но через несколько минут вошел высокого роста и плотного сложения человек. У него было одутловатое лицо, большие навыкате глаза, глядевшие живо и, пожалуй, даже весело.
Вошедший сел за стол, предложил сесть Думанову, достал из кармана коробку папирос, протянул арестованному. На мгновение Тимофей поколебался, но потом все те закурил. А человек пододвинул к нему блюдечко, заменявшее пепельницу, спросил небрежно:
– Надеюсь, ты понимаешь, почему тебя арестовали?
– Не имею понятия! – ответил Думанов. – Ошибка, наверное.
– Ах, вот как…
– И к тому же на каком основании меня называют на «ты»?
– Ух, ты какой, голубчик, – человек за столом присвистнул. – Не желаешь, стало быть, фамильярности. А на каком, собственно, основании не желаешь? Людям твоего сословия отродясь «тыкали», а к тому же я статский генерал, между прочим… Но опять же, между прочим, это никакого отношения к делу не имеет… Ладно, в интересах того же дела, которому служат отнюдь не одни бурбоны, могу просьбу уважить. Итак, возвращаюсь к вопросу: вы понимаете, почему вас арестовали?
– Нет, не имею понятия! – теми же словами ответил Думанов.
– Что же, придется объяснить. Мудрец в древности очень метко заметил, что тайна, в которую посвящено более одного человека, перестает быть тайной. От этого изречения мы и будем танцевать. Представим себе такую ситуацию: в один город из другого города прибывает человек, которому нужно связаться с кем-то, объясняет ему причины срочности встречи. Тайна уже становится достоянием троих. А затем она переходит как бы по цепочке – к четвертому, пятому, шестому… Одно звено цепочки – это наш человек. От него сведения попадают ко мне… Ну как, теперь разумеете, в чем дело?
– Пока не очень, – ответил Думанов, хотя из рассказа все стало предельно ясным – в каком-то звене сведения просочились к провокатору.
Правда, охранка могла узнать о причине его приезда лишь в общих чертах. Деталей она знать никак не могла. Значит, надо выстоять.
Полный чиновник, словно угадав его мысли, развел руками, с улыбкой сказал:
– Только, ради всевышнего, вы уж нас за дилетантов, то бишь за любителей, не считайте. У нас здесь специалисты работают… Вот представьте себе: узнаём мы о приезде гонца из Гельсингфорса в Петербургский комитет, везет он вести о восстании на кораблях, но его неожиданно хватают. Он надеется, что полиция всего не знает, начинает юлить, скрывает все. Но ведь лишнее это. Подумайте, голубчик, о такой ситуации: мы уже несколько месяцев ведем слежку в Гельсингфорсе, заметьте – и за вами, и за вашими товарищами. Узнаём, что готовится серьезное выступление, а потому усиливаем наблюдение опять же за вами и за вашими товарищами, ну, например, за Тайми…
Чиновник бросил в блюдечко окурок, молча закурил вторую папиросу. Молчал и Думанов, хотя мысли его лихорадочно метались. Выходит – имя Тайми им известно. А может быть, и других? Но кого именно? Неужто всех? Но если это так, то почему его схватили, не дав связаться с членами Петербургского комитета? Им же выгоднее было его проследить… Ловчит, подлец!
Но собеседник будто опять угадал его мысли.
– Вас, наверное, удивляет, почему мы арестовали вас, не дав связаться с членами Петербургского комитета? Могу сказать вполне откровенно, ибо по ряду причин имею редкую возможность на откровенность. Нам они известны все до единого. Мы их не трогаем чисто по тактическим соображениям. Вас же арестовали только потому, что наступило время ликвидации всей гельсингфорсской социал-демократической группы, которую вы изволите называть ревкомом. Именно мне поручено произвести этот арест, имеющий место произойти завтра утром. Перед отъездом же мне хотелось поговорить с вами, хотя в известной мере это чисто формальный момент, ибо и без того в результате наблюдения известны имена всех ваших сотоварищей.
– Так о чем же тогда говорить?
– Э-э, голубчик! Для полиции любая подробность будет нелишней. А потом есть у меня относительно вас одна идейка… Но об этом мы позже. Сейчас мне хочется только одного: чтобы вы четко уяснили для себя свое собственное положение… С вами я буду предельно откровенен и жду того же от вас.
Чиновник сказал Думанову, что за участие в революционной организации, ставящей себе целью подготовку вооруженного восстания, направленного на свержение существующего строя, обеспечено, как минимум, лет пять каторжных работ. Условия на каторге известно какие – каторга она и есть… Без туберкулеза, желудочных болезней, ревматизма оттуда редко кто выходит, если вообще выходит. Одно только может облегчить Думанову его участь – чистосердечное, добровольное признание во всем, указание имен, адресов, явок, каналов связи с кораблями, мест подпольных собраний и так далее и тому подобное. В случае такого признания Думанов может отделаться совсем легко – кратковременной ссылкой, а то и вовсе могут его оправдать. Причем не надо будет никаких протоколов подписывать, ничего письменно излагать, а всего-навсего рассказать сейчас с глазу на глаз все, что он знает, – и дело с концом.
Говорил чиновник доброжелательно, как будто даже с сочувствием, а когда Тимофей наотрез отказался сказать хоть слово, сокрушенно покачал головой.
Он посоветовал Думанову поразмыслить пока в одиночестве, ибо им придется вернуться к разговору день-два спустя, нажал кнопку звонка, вызвал часового и приказал увести арестованного.
Его переодели в тюремную одежку – серую суконную куртку, такие же штаны, войлочные туфли и отвели в одиночную камеру Трубецкого бастиона. В таких камерах ему сидеть еще не доводилось. По первому взгляду она показалась непомерно просторной – он даже вымерил ее шагами. Их оказалось десять в длину и пять в ширину. Потолок высокий, сводчатый. Пространства и воздуха здесь на одного человека вполне хватало. И все же в нем постепенно нарастало какое-то давящее ощущение. Все здесь было одинаково серым – пол, потолок, стены, одеяло на привинченной к полу железной койке. Серый свет из высоко расположенного окошка, перекрещенного толстыми железными прутьями, едва освещал камеру, в углах ее плавал полумрак. Тусклость, лежащая на всем, давила на сознание. Угнетала и мертвая тишина. Не слышно даже, как ходят надзиратели за дверью – там в коридоре лежали половики, а служащие тюрьмы носили мягкую обувь. Бесшумно отодвигалась снаружи заслонка «глазка», когда хотели понаблюдать за ним. Ну да черт с ними, пусть наблюдают сколько хотят, нервничать от этого он не станет. Нервы еще пригодятся ему на допросах. Главное сейчас – это сосредоточиться и обдумать, какую еще каверзу ему могут устроить и откуда только им стало известно так много?
Думанов мучительно думал о том, что могло произойти в Гельсингфорсе и как там его товарищи? Думал о предателе, донесшем в охранку о приезде связного Гельсингфорсского комитета. Шурканов ли, не ведая, передал сведения в руки провокатору либо кто-то другой? Кому по цепочке попали они в руки?
В душе нарастала тревога. Ведь арестовали его накануне назначенного срока восстания. Толстый, с рачьими глазами чиновник, который его допрашивал, прямо сказал, что известен срок выступления, известны имена. Но даже если это правда, не могли они узнать все. А значит, будут допрашивать его снова и снова.
Он ходил по камере из угла в угол. Потом надзиратель молча принес скудный тюремный обед, так же молча забрал после еды оловянную посуду. Разговаривать с ним не полагалось – об этом предупредили еще в канцелярии. Есть не хотелось, но Думанов заставил себя. Неизвестно, сколько еще придется просидеть, и надо было беречь силы.
…Ночью Думанов проснулся от ощущения давящей тишины. Он несколько минут лежал прислушиваясь. Но ни один звук не доносился сюда снаружи, ни один шорох не слышался из тюремного коридора. И если бы не знать, что за стенами в таких же оштукатуренных камерах, на таких же металлических койках не спят другие арестанты, то вполне можно подумать, что ты один замурован здесь в затхлой каменной полости Трубецкого бастиона.
Он приподнялся, сел, опершись спиной о холодную стену, и почти тотчас же ощутил на себе чужой взгляд. Искоса глянул на темную дверь и в слабом свете мерцавшей под потолком лампы заметил, что «глазок» снаружи отодвинут. Видимо, до ушей дежурного надзирателя долетел слабый скрип железной койки, и тот поспешил проверить, чем занят арестант. Ну и черт с ним – пусть смотрит сколько влезет, у него служба такая. Думанов сидел не шевелясь и через какое-то время скорее почувствовал, нежели услыхал, что «глазок» на двери снова закрылся.
Но Тимофей уже и не думал о притаившемся снаружи надзирателе. Перед мысленным взором вновь встало бритое холеное лицо говорившего с ним следователя. По манере держаться, неторопливым движениям рук, уверенному взгляду сразу видать барина. Да он и сам сказал, что ходит в генеральском чине. Скорее всего статский или даже тайный советник при министерстве.
Едва Думанов вспомнил о Гельсингфорсе, об оставшихся там товарищах, как вновь навалилось на него ощущение тревоги и сжалось сердце. Неужели жандармам и в самом деле известно все и они успеют произвести аресты, помешать восстанию? Следователь как раз на это напирал, но что-то в его объяснении было не так. Но что именно? Во всяком случае, если бы пронюхали обо всем раньше, то давно бы уже проявили себя. Ясно, что сведения о вооруженном выступлении поступили к ним совсем недавно, а точнее сказать, уже после приезда Думанова в Петербург.
Следователь, собственно, и не скрывал этого. Он совершенно ясно объяснил механику дела: когда сведения от связного Гельсингфорсского комитета передавались по цепочке людей, они попали в руки оказавшегося среди них сотрудника охранки.
Первым в цепочке (остальные ее звенья Тимофей пока не знал) был Шурканов. И об этом надо любыми способами постараться передать оставшимся на свободе товарищам. Пусть начинают расследование с него, проверяя звено за звеном, пока не выйдут на провокатора. Конечно, они и без него поймут, что внезапный провал произошел сразу же после отъезда Думанова в Петербург, и неизбежно придут к мысли о провокаторе. Однако никто из них пока не знает, в чьи руки передал Думанов по приезде сведения о восстании. И прежде всего Шотман, ничего не подозревая о разговоре с Шуркановым, обратится к Полетаеву, к которому он посылал связного.
И тогда окажется, вдруг подумал Тимофей, что Полетаев и в глаза не видел никакого Думанова. И что посланный связной непонятным образом исчез, не передав сведений тому, кому должен был передать. А вслед за его исчезновением начались аресты. А это значит, неумолимо продолжал он свое рассуждение, что подозрение товарищей прежде всего падет на него самого.
Когда следователь сказал сегодня о том, что в цепочке, по которой передавались сведения, могло быть человек шесть, он наверняка старался запутать арестованного, понадежнее укрыть своего осведомителя. Чем больше рассуждал об этом Тимофей, тем яснее становилось, что цепочка от Шурканова к кому-то из членов Петербургского комитета не могла быть многозвенчатой. Скорее всего следовало предположить, что Шурканов связывается с комитетом с помощью одного человека. А если это так, то круг поисков значительно суживался…
Да… да… Может быть, это и так, но сейчас прежде всего товарищи из Гельсингфорса: они могут быть арестованы, подготовленное моряками восстание под угрозой.








