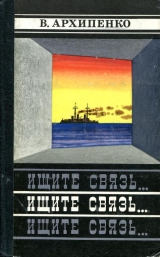
Текст книги "Ищите связь..."
Автор книги: Владимир Архипенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц)
Горский теперь носил фамилию Шотман. Подпольщик, расспросив матроса о его службе, посоветовал ему в удобный час подойти к комендору Афонину, передать ему условные слова и в дальнейшем во всем слушаться его.
Краухов был просто поражен тогда. В жизни не пришло бы ему в голову, что тихий, на редкость дисциплинированный и исполнительный Афонин может оказаться подпольщиком, и не простым даже, а одним из руководителей.
Так он наконец связался с подпольщиками, стал бывать на нелегальных собраниях, а совсем недавно был посвящен в тайну, от которой зависела не только его собственная судьба, но и судьба всей эскадры.
И надо же было в такой момент попасть под перевод в Кронштадт, да еще и не имея возможности предупредить об этом товарищей на берегу!
Когда матрос второй статьи Краухов навел прожектор на город, он не подозревал, что луч на мгновенье зальет светом комнату, в которой сидит человек, имеющий к его, крауховской, жизни самое прямое отношение.
Но надо сказать, что человек этот, одетый в синюю жандармскую форму, был слишком углублен в бумаги и не осознал даже, что его кабинет был на миг высвечен лучом прожектора.
Настенные часы в коридоре пробили четверть одиннадцатого, когда он поставил точку, тяжелым пресс-папье промокнул чернила и с удовольствием взглянул на большой лист бумаги, исписанный убористым, аккуратным почерком. Откинувшись на спинку стула, он еще раз перечитал заключительную фразу:
«Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что сейчас на кораблях флота сравнительно спокойное состояние и тенденции к усилению революционного брожения среди нижних чинов не наблюдается».
Завтра он передаст этот рапорт начальнику управления полковнику Утгофу, который, как это было и раньше, отдаст перепечатать писарю, не внеся никаких поправок.
Конечно, обидно, что подпись будет не его, Шабельского, но что поделать – служба. Придет время, когда и он станет поручать подчиненным писание бумаг, а сам будет лишь ставить под ними несколько небрежную, но достаточно четкую подпись. А пока хорошо и то, что начальство довольно им, явно выделяет его среди других сотрудников управления. Не случайно же именно ему доверено писание рапортов полковнику фон Коттену – новому начальнику Петербургского охранного отделения. Предшественникам Коттена хватало и того, что в сведениях с мест давалось состояние дел на текущий момент, но этот хитрый немец – ставленник самого министра двора барона Фредерикса – требовал, чтобы каждый рапорт содержал в себе и элемент некоторого предвидения. Полковник любил повторять, что настоящий жандарм должен уметь заглядывать вперед событий.
Шабельский засунул рапорт в картонную папку и запер ее в новенький, поблескивающий красной эмалью несгораемый шкаф. Этот добротный стальной ящик с хитроумным запором тоже был плодом деятельности фон Коттена. По его приказанию новые сейфы закупили не где-нибудь, а у солидной немецкой фирмы. Правда, злые языки поговаривали о том, что начальник охранного отделения тем самым дал возможность подзаработать родственнику своей жены, служащему той самой фирмы. Однако на эти разговоры ротмистру было наплевать, тем более что сейфы действительно были отменного качества.
Надев новенькую шинель с серебристыми погонами и фуражку, Шабельский погасил в кабинете свет, вышел в безлюдный коридор – все сотрудники давным-давно разошлись по домам, и, миновав добрый десяток дверей, завернул в туалет с единственной целью: глянуть лишний раз в зеркало, чтобы еще раз убедиться, как ладно сидит на нем недавно сшитая шинель. С полминуты ротмистр разглядывал свое отражение, радуясь, что шинель и впрямь хороша. Стервец портной Хамлялайнен дерет за шитье втридорога, но дело свое знает. Ротмистр довольно улыбнулся своему двойнику в зеркале, лихо крутнул острые копчики усов и уже совсем в преотличнейшем расположении духа покинул туалет.
Дежурный вахмистр, сидевший у конторки в вестибюле, вскочил при его появлении, но Шабельский, махнув рукой, сказал отеческим топом:
– Сиди, ради бога, голубчик, сиди… Не утруждай себя. У тебя еще вся ночь впереди, а я свое дело закончил и скоро уже почивать буду. Держи ключ от кабинета – и будь здоров.
– Желаю всего наилучшего, господин ротмистр, – отозвался вахмистр, который, хотя ему и разрешили сидеть, стоял вытянувшись в струнку.
Прогулка по вечерним хорошо освещенным и чистым улицам Гельсингфорса доставляла удовольствие – улицы были безлюдны, в окнах редко где горел свет. Эти белобрысые долговязые инородцы (все сотрудники в разговорах между собой называли их чухонцами) ложились спать чрезвычайно рано. Зато, правда, и вставали чуть свет.
Служа в финляндской столице, ротмистр никак не мог привыкнуть к образу жизни местного населения, да, собственно, и не пытался. По отношению к финнам он вел себя точно так же, как все другие представители российской администрации, посланные служить в эту своеобразную страну, упорно именуемую в официальных российских документах великим княжеством финляндским. Чиновники и офицеры выказывали полное пренебрежение к финскому языку, местным традициям и нравам, получая в ответ почти не скрываемое презрение. И не только они сами, но даже их семьи были отделены от местного населения глухой стеной неприязни.
Однако любой чиновник прекрасно знал, что презиравшие их чухонцы с охотой укрывали врагов российского престола. И благо бы только рабочие – те давно спелись со своими русскими собратьями, – а то ведь и порядочные люди в лице коммерсантов и промышленников, охотно прятали от сотрудников охранного отделения всех этих террористов, «бомбистов» и прочих революционеров.
Задумавшись о столь досадных вещах, Шабельский постепенно потерял хорошее настроение. И теперь умытые улицы города уже не казались ему приятными. В их чистоте и прямолинейности чудилось что-то враждебное.
Сворачивая за угол, ротмистр нос к носу столкнулся с долговязым финским полицейским, от неожиданности вздрогнул. А полицейский вместо того, чтобы уступить дорогу офицеру, невозмутимо продолжал двигаться, словно перед ним было пустое место. Шабельский вынужден был торопливо сделать шаг в сторону.
Кровь ударила ему в голову, и ругательства готовы были сорваться с языка, но ротмистр сдержался. Ругаться было бесполезно. Это русский городовой вытягивается и замирает как истукан при виде офицерского мундира. Тому и в морду можно врезать при нужде. А попробуй чухонца-полицейского не то чтобы пальцем тронуть, а хотя бы обругать – хлопот потом не оберешься. Нет, что ни говори, а все-таки прав этот бешеный бессарабский помещик Пуришкевич, который недавно в Государственной думе требовал приструнить зарвавшихся финляндцев, лишить их остатков самоуправления, к черту разогнать сейм и полицию, заставить их уважать законы империи…
Шабельский уже подходил к дому, когда навстречу попался еще один запоздалый прохожий. Они поравнялись возле уличного фонаря, и ротмистр успел разглядеть худощавое лицо с торчащими усами, спокойные усталые глаза, профессионально обратил внимание на то, что пальто и шляпа прохожего изрядно поношены, а из-под пальто видна косоворотка. Не будь ее, можно было бы принять человека за мелкого конторщика, обремененного семьей. Но по косоворотке сразу видно – рабочий. Все это Шабельский отметил в уме машинально. И еще мелькнула мысль, что он где-то видел это лицо. Мелькнула и тут же пропала, уступив место другой: что приготовила сегодня на ужин Ариша – баба, исполнявшая в его семье роль горничной и кухарки одновременно.
Шабельский был уже близко от своего подъезда, и мысль об ужине заслонила все остальные. Почему-то ему показалось, что ждет его тушенная с кореньями и специями баранина, приготовлять которую Ариша умела с отменным мастерством.
Когда он открыл дверь своим ключом, ему вновь представилось лицо прохожего и опять подумалось, что он где-то видел этого человека. Но в прихожую, заслышав щелканье замка, уже вплывала Ксения, привычно заботливая супруга.
– Ах, Стась, ты заставил свою половинушку поволноваться. И ужин совсем простыл. Ариша сделала сегодня твой любимый бигус!
Внутренне поморщившись (он недолюбливал эти «половинушки» и прочую сентиментальщину), Шабельский привычно ткнулся усами в тугую щеку жены и окончательно забыл прохожего.
Человек в поношенном пальто и шляпе тем временем вышел на Хенриксгатан, дождался на остановке трамвая и покатил в сторону парка Тёлё. Маленький аккуратный вагончик был почти пуст.
Ах, если бы Станислав Шабельский не был тогда уставшим и смог бы вспомнить лицо прохожего, то не поедал бы он так спокойно жирный бигус. Встреченный им человек был одним из тех, за кем ротмистру надлежало охотиться денно и нощно. К тому обязывала его профессия жандарма, дававшая ему в жизни достаток, чины и ордена, сулившая солидную пенсию к старости, по требовавшая за все это постоянного бдения, служебного рвения и известного профессионального нюха.
Встретившийся ротмистру прохожий по своему социальному положению был мещанином, то бишь принадлежал к сословию хотя и повыше, чем крестьянское, но тем не менее в глазах официальных властей низкому. А что касается положения имущественного, то тут вообще говорить было не о чем – все его богатство состояло в покрытых мозолями руках.
Именно из таких, как он, состоял костяк российской социал-демократической рабочей партии, которую охранка с полным на то основанием считала единственной из всех существующих в России партий, представлявшей серьезную опасность для самодержавия. Их – непреклонных, неподкупных, самозабвенно верящих в правоту своего дела – охранка боялась куда больше, чем шумливых эсеровских боевиков – «бомбистов».
Подлинное его имя было Эдмунд Сантори. Он был родом из семьи поселившегося в Петербурге финского рабочего и, еще не достигнув совершеннолетия, поступил на Обуховский завод. Там еще юношей получил боевое крещение, участвуя в знаменитой Обуховской обороне, когда забастовавшие рабочие булыжниками отбивались от городовых и казаков. По специальности он был слесарем. Но была у него и вторая профессия, которая не давала никаких материальных благ, но зато совершенно точно сулила неизбежные аресты, тюрьмы, ссылки, а в крайнем случае и виселицу. Это была профессия революционера.
Еще в конце девятнадцатого столетия он связал свою жизнь с социал-демократической рабочей партией, когда ее состав исчислялся только десятками людей, и с тех пор служил своей партии верой и правдой.
На трудном пути подпольщика он успел сменить несколько фамилий, был Бергом, Горским, в последнее время числился по документам Александром Васильевичем Шотманом. Под этим именем он работал в мастерской Свеаборгского порта, начальнику которой и в голову не приходило, что старательный, молчаливый слесарь возглавляет подпольный партийный комитет рабочих Гельсингфорса…
В отличие от Шабельского Шотман обладал превосходной зрительной памятью. Столкнувшись с жандармским офицером под фонарем на Владимирской улице, он мгновенно вспомнил, где и при каких обстоятельствах видел его.
Тогда он жил в Одессе. Вместе с женой снимал комнату в большой квартире доходного дома на Пересыпи. В этой же квартире жили еще несколько семей. Однажды ночью к соседу, Семену Приходько, работавшему на паровой мельнице, перебудив всех жильцов, нагрянули с обыском жандармы. Рабочие мельницы в то время бастовали, Семен входил в стачечный комитет. Возглавлял жандармов грузный полковник, а подручным у него был молодой ротмистр с лихо закрученными усами – тот самый, которого Шотман встретил теперь на улице Гельсингфорса. Обыск был долгим. Уже под утро жандармы увели с собой Приходько. На всю жизнь запомнил Шотман, как молодой ротмистр ткнул согнутым локтем в живот жену Семена, когда она кинулась было, чтобы напоследок обнять мужа…
Пустой вагончик трамвая бойко катил в сторону парка Тёлё. Шотман взглянул сквозь заднее стекло на убегающую вдаль улицу и убедился, что она пуста. Возможность слежки, видимо, исключалась. Впрочем, ее не должно быть. Однако нежданная встреча с жандармом на Владимирской улице невольно заставила насторожиться.
Возле железнодорожных складов, где трамвай затормозил на повороте, Шотман спрыгнул на ходу, сопровождаемый укоризненным взглядом пожилого кондуктора, юркнул в ворота, быстро миновал проходной двор. Теперь перед ним был глухой забор. Он уверенно подошел к нему, нащупал нужную доску, державшуюся лишь на верхнем гвозде, отвел ее в сторону и пролез в образовавшуюся щель. То же самое он проделал на другом конце пустыря, выйдя наружу возле железнодорожного пути. Отошел от лаза метров на полсотни и, прижавшись к доскам там, где темень показалась погуще, постоял несколько минут. Если кто-то шел по его следу, то должен был воспользоваться тем же лазом.
Но все было тихо. Шотман, с трудом различая тропинку под ногами, пошел в сторону железнодорожной сторожки, темневшей неподалеку от полотна. Окна ее, прикрытые плотными ставнями, не пропускали света. Казалось, что обитатели дома спят или отсутствуют. Однако, когда он несколько раз стукнул в дверь, она тотчас без скрипа открылась. Кто-то, невидимый в темноте, взял его за руку, провел сквозь мрак тамбура и отворил вторую дверь. Свет керосиновой лампы заставил его зажмуриться, но секундой позже он разглядел людей, сидевших за покрытым облезлой клеенкой столом.
Кроме встретившего его железнодорожника, здесь находились трое матросов. Всех он знал в лицо, Поздоровавшись с каждым за руку, он тоже присел к столу.
– Заждались тебя, товарищ Шотман, – сказал плечистый светловолосый матрос, – думали уже, что не прядешь… А скоро на корабли возвращаться надо, срок подпирает.
– Знаю, товарищи, но не обессудьте – так уж получилось. По секрету скажу, что приезжал в Гельсингфорс один товарищ из Петербурга, договаривался о распространении новой рабочей газеты. Слышали уже, наверное: название «Правда». С товарищем мы быстро договорились, да вот беда – хвост он за собой привел. Еле-еле помог ему от шпика избавиться… Ну да ладно об этом. Давайте быстрее, что у вас нового.
– А нового у нас, товарищ Шотман, почти ничего и нет, – сказал светловолосый. – Одно только новое: решили матросы восстание до осени не откладывать, а начинать его сейчас.
– Это как понимать «сейчас»? – озабоченно спросил Шотман. – Ты о чем?
– А вот о чем. Ребята на кораблях сказали: «шабаш». Нету им больше мочи издевательства «их благородий» терпеть. Баста, хватит!
– Но ведь, позвольте, товарищи. – Шотман заволновался. – Это анархия получается. С восстанием шутить нельзя, подготовка нужна самая тщательная…
– А нам и не до шуток. Всю эту грамоту мы и без тебя знаем. И опять же за свои ошибки не школьными отметками расплачиваться будем, а собственной шкурой. Я тебе больше скажу: согласен я с тобой, что не совсем момент для восстания подходящий. Но ты и другую сторону дела осознай: кончилось у матросов терпение, все как есть вышло. Ты же лучше нас знаешь о том, что на Ленских приисках произошло. После того как там безоружных рабочих постреляли, нет у матросов больше мочи терпеть. Еще недавно можно было людей удержать, а сейчас никак невозможно… А когда матросы прослышали, как царский министр обещал в Думе, что и впредь нас расстреливать будут, – тут уж озверели ребята, не удержать больше… В общем, решай, товарищ Шотман, как хочешь, но мы меж собой уже порешили. Через пять дней назначен выход кораблей гельсингфорсского отряда в море. В этот выход мы и начнем. Поможете нам – век благодарить будем, а не поможете – зла не попомним…
Никогда еще Александр Васильевич не бывал в таком смятении, как в эти минуты. Более нелепого положения, чем сейчас, невозможно было представить себе: он, который всего себя отдавал революции, вынужден уговаривать матросов повременить, не браться за оружие. И хотя он знал, что доводы его правильны, что они и не могут быть иными, но и ему передалось настроение матросов, и он, стараясь быть внешне спокойным, загорячился, глаза заблестели, на бледных щеках проступили яркие пятна.
Прощаясь с представителями кораблей, Шотман заверил их, что сегодня же ночью сообщит об их решении членам гельсингфорсского комитета и будет советоваться с ними.
…Полчаса спустя он поднял с постели двух товарищей по комитету. Сначала Исидора Воробьева, а потом вместе с ним Адольфа Тайми. У него на квартире они проговорили битых два часа, но так и не пришли ни к какому решению.
– А может быть, все-таки уговорим? – еще раз с надеждой переспросил Воробьев.
– Какое там!.. – Шотман резко махнул рукой. – У матросов так накипело, что того и гляди начнут офицеров за борт бросать. Сами знаете, что у них за житье. У нас хоть от одного хозяина к другому уйти можно, а у них как в тюрьме, никуда не денешься.
– Это уж точно, – кивнул Воробьев. – Но не время начинать сейчас… На смерть пойдут матросы, если без поддержки питерских рабочих выступят.
Воробьев, опустив голову, замолк.
– Без связи с питерцами ничего не выйдет, – поддержал его Тайми. – Начинать надо сразу и здесь и в Питере. Только тогда на успех можно рассчитывать. Да чего я тебе об этом говорю – сам все понимаешь. Неподготовленное восстание ведет к верной гибели…
Шотман, сузив глаза, сказал жестко:
– Возможно, и гибель. Так что же, по-вашему, получается – пусть без нас, сами по себе борются и гибнут? А мы в стороне останемся?
– Да не о том речь… Остановить матросов надо.
– Ладно, хватит! Остановить уже не получится. Матросы так просили передать: или мы с ними, или они без нас! Выступать все равно будут. Мы понимаем, что восстание преждевременно, условия не созрели еще. Но что можно сделать, если массы дошли до крайней степени терпения? Надо смотреть правде в глаза. Решать – быть или не быть восстанию, мы уже не можем – без нас все решено. Теперь о другом подумать надо: беремся ли мы за оружие вместе с матросами?
Тайми вскочил со стула, рубанул ладонью воздух.
– Если вопрос только так стоит, тогда нет никакого вопроса! Пойдем с массами. Я только одного хотел, когда об отсрочке говорил, – чтобы все удачнее вышло. А на баррикады первый пойду!
– Ты погоди горячку пороть, – прервал его рассудительный Воробьев, – коли восстание неизбежно, так давайте все-таки прикинем, как нам в этих условиях обеспечить максимальную помощь и поддержку питерских товарищей. Сколько у нас дней в запасе? Четыре? За это время еще многое можно сделать! Прежде всего надо немедленно кому-то в Питер ехать.
БУДНИ ТИМОФЕЯ ДУМАНОВА
«Наши матросы, имея стоянку в финляндских водах, спускаясь на берег, весьма часто встречают распропагандированных рабочих, которые ведут их, часто обманным образом, на разные революционные собрания…
Таким образом, находясь в Финляндии, матросы попадают в революционные очаги, и это, видимо, будет продолжаться до тех пор, пока наше правительство будет безразличными глазами смотреть на все происходящее в Финляндии, где наши матросы и солдаты делаются, как в данном случае, жертвами той агитации и того подпольного движения, которое вот уже столько лет ведется в Финляндии».
(«Новое время», 30 апреля 1912 г.)
С Тимофеем Думановым Шотман познакомился незадолго до нового – 1912 года. В тот вечер вместе с женой они только что поужинали. Катя ушла в кухоньку мыть посуду, а он разложил перед собой на столе петербургские газеты. Была среди них и единственная легальная рабочая газета «Звезда», которую он читал не только от первой и до последней строки, но и старался почерпнуть кое-что между строк.
Как раз в тот момент, когда он взялся за «Звезду», в дверь энергично постучали. Шотман невольно вздрогнул – стук в квартиру подпольщика мог таить разное… Но, даже зная, что в самый нежданный момент к нему могут нагрянуть жандармы, он никогда не колебался перед дверью, не справлялся о том, кто стучит. И на этот раз, как всегда, Шотман сразу повернул ключ.
На лестничной площадке стоял незнакомый человек – высокий, сутуловатый, в пальто и шапке, облепленных не успевшим растаять снегом.
– Александр Васильевич? – справился незнакомец глуховатым голосом. – А я к вам от тети Марты. Она просила передать теплые вещи.
Это были условные слова, с которыми прибывали товарищи из-за границы. Когда гость вошел в крохотную прихожую, он прежде всего извинился с застенчивой улыбкой за мокрое пальто и обувь, и Шотман почувствовал, что перед ним человек стеснительный и деликатный. Позднее он имел много случаев убедиться в том, что первое впечатление оказалось верным.
Приезжий решительно отказался от предложенного ему ужина, но сказал, что с удовольствием выпил бы горячего чаю. По тому, как он пил, было видно, что человек изрядно продрог. Да и мудрено было не продрогнуть – Шотман успел заметить, что у него потертое пальтишко и совсем легкая, не по финской зиме, шапка.
На вопрос, как он доехал, гость сказал, что вполне благополучно. На шведской границе его документы сомнений не вызвали, и слежки за собой он не обнаружил. В Гельсингфорс он приехал из Парижа и имеет задание на время осесть здесь и ждать дальнейших распоряжений.
Пока Думанов рассказывал, Александр Васильевич ловил себя на мысли, что никак не может определить его возраст. Судя по резким морщинам на худом лице, поседевшим волосам, неторопливой, спокойной манере держать себя, ему можно было дать под пятьдесят, но, когда лицо освещала мягкая улыбка, казалось, что ему и тридцати нет. Только позже Шотман узнал, что Думанову как раз и есть три десятка – состарила его прежде времени нелегкая жизнь…
Обычно Шотман сходился с людьми непросто, ему нужно было обвыкнуть с незнакомым человеком, не раз послушать его, поглядеть на него в деле, а потом уже как-то сами собой складывались отношения – с одним суховато-деловые, с другим теплые и дружеские. А с Думановым получилось иначе – Александр Васильевич как-то сразу почувствовал расположение к этому усталому, пожалуй, даже измученному, но удивительно спокойному и мягкому человеку. Это чувство рождалось то ли от его доброй улыбки, то ли от глуховатого низкого голоса, в котором проскальзывали застенчивые нотки, а может быть, от выражения глаз, полных благожелательного внимания к собеседнику. Во всяком случае, не прошло и получаса, как Александр Васильевич ощутил, как в нем поднимается волна теплоты и доверия к приезжему и что он чувствует себя с ним, как с давним другом. А к концу разговора он понял, что приехал полезный для комитета работник – бывалый, опытный, да к тому же и много знающий, обученный в партийной школе в Лонжюмо.
Шотман с удовольствием использовал бы его целиком для комитетских дел, которых по мере развертывания работы все больше прибывало, но это было невозможно, и потому, что требовалось легальное прикрытие для жизни в Гельсингфорсе, и потому еще, что нужно было зарабатывать на эту жизнь, заботиться и о хлебе насущном.
Думанова удалось устроить на работу не без труда – зимой в порту царило затишье. Когда начальник мастерских согласился испробовать приезжего, он сделал это скорее для того, чтобы отвязаться от просителей, и для испытания поручил ему проточить сработавшиеся шейки коленчатого вала дизеля. Шотман знал, что начальник мастерской лишь накануне отказался ремонтировать эти шейки, объяснив судовому механику, что в своей мастерской он такую работу выполнить не сможет, разве что на заводе-изготовителе сумеют. Так что дело с коленчатым валом, как понял просивший за нового товарища Шотман, было гиблым. Но, к его удивлению, Думанов согласился попробовать.
Уже по тому, как приезжий уверенно и быстро закрепил вал, наблюдавшие издали рабочие почувствовали, что перед ними опытный токарь. Вся загвоздка в порученной работе была в том, чтобы точно выдержать центровку – без этого не стоило и браться. А выдержать ее можно было только на специальных заводских станках. Однако Думанов протачивал шейки так уверенно, будто всю жизнь только этим и занимался. Только щурившиеся глаза да стиснутые зубы выдавали его напряжение.
Думанов весь ушел в работу и не замечал даже, что рядом сгрудились рабочие. Смотрели молча, обменивались восхищенными взглядами. К концу работы подошел начальник мастерской и тоже стал наблюдать. Потом, он долго, придирчиво проверял вал, развел руками и сказал:
– Не знаю, братец, как это у тебя получилось, но то, что получилось, – это непреложный факт. На работу ты принят. Виртуоза грех терять.
Товарищам по работе новичок пришелся по душе не только потому, что был всеми признанным мастером токарного дела, но прежде всего оттого, что всегда и во всем готов был бескорыстно помочь людям – разобраться ли в сложном чертеже, выручить ли деньгами, написать ли неграмотному письмо или же подменить на работе занедужившего соседа.
Его ценили еще и за то, что намного лучше других разбирался в событиях. В последнее время русские газеты отводили по полстраницы, а то и больше Государственной думе. Рабочему человеку, читавшему думские отчеты, трудно было понять, куда разные ораторы клонят, – вроде бы все за правду, только каждый по-своему. Но Думанов умел объяснить, какой депутат на чью мельницу воду льет и какая партия кому служит.
Многие поражались, откуда у человека, окончившего всего-то четырехклассное церковноприходское училище, такие знания. Думанов отшучивался, говорил, что читать надо побольше, а водки пить поменьше. Читал он действительно очень много и иногда вечера напролет просиживал в читальном зале Народного дома.
В Гельсингфорсском комитете, куда его ввели по предложению Шотмана, он быстро стал полезным человеком. На нем лежала обязанность обеспечивать доставку и распространение нелегальной литературы, поступающей в Финляндию через шведскую границу, листовок и прокламаций, приходящих из Петербурга. А кроме того, он выполнял множество разовых поручений комитета: выбирал места для нелегальных собраний и обеспечивал их охрану, организовывал явки, выявлял людей, которых можно было бы приобщить к работе комитета, налаживал связи с кораблями, собирал деньги для новой рабочей газеты «Правда», которая вот-вот должна была появиться на свет. Все это он делал спокойно, без суеты, но всегда успевал в срок.
Товарищи видели, что он отдает себя работе целиком, и ценили это. Им нравилась его манера общения, добродушный юмор, благожелательная внимательность к людям, стремление понять чужую точку зрения, даже если он не был согласен с ней. Короче говоря – его не только приняли в свою тесную группу, но и полюбили.
В бессонную долгую ночь на двадцать первое апреля, когда совещание ревкомовцев подходило уже к концу и осталось только решить вопрос – кого именно нужно послать в Петербург для связи, Воробьев назвал фамилию Думанова. Неожиданно для других в названной кандидатуре засомневался Тайми, хотя все знали, что о Думанове он всегда отзывался с теплотой.
– А что тебя, собственно, смущает? – осведомился Воробьев. – Какие сомнения есть?
– Какие? В общем человек он во всем подходящий, но… как бы это сказать? Тут человек-кремень нужен. А Думанов слишком уж деликатный, как барышня. Я бы сказал, уступчивый… Не растеряется ли в случае чего?..
– А почему ты думаешь, что он растеряться может?
– Да слышал я как-то один разговор… – замялся Тайми.
– Ну, раз слышал что-то, так давай выкладывай! – сердито сказал Шотман. – Что там еще у тебя?
– Да дело в общем такое… Это с месяц назад было, когда вместе с матросами мы с нелегального собрания в город возвращались. Был с нами парень один – Сергей Краухов с «Цесаревича».
– Знаю его! – кивнул головой Шотман.
– Так вот Краухов сказал тогда, что во время восстания всех офицеров, как на «Потемкине», за борт покидать придется. Думанов тогда ему отвечает, что неправильно это. Нельзя, говорит, всех скопом топить, потому, мол, и среди них люди разные есть. И потом еще, что без специалистов все равно не обойтись в море. Краухов вспыхнул, рассердился, говорит, что Думанов матросской жизни не хлебал и потому такой добренький. И вообще революцию в белых перчатках не делают. Ну тут и я вступился, матроса поддержал. Если мы уже сейчас о жалости думать начнем… Враги нас не жалеют!
– И это все? – со злостью спросил Шотман.
– Что – все?
– Насчет ненадежности Думанова?
– В общем-то все…
– Тогда я тебе так скажу: глупость Краухов порол. Я этого парня еще с Петербурга знаю. Парень он боевой и смелый, а вот в голове еще ветер гуляет. Его еще учить надо. А вот то, что ты – член комитета – не поддержал правильного мнения Думанова, за это еще с тебя спросить надо! Да только не время об этом сейчас. Думанову я доверяю полностью и верю, что не подведет.
– Я – тоже! – подал голос Воробьев.
– В таком случае и я присоединяюсь… – отступил Тайми.
– И еще учти, кстати: Краухов еще мальчишкой был в революцию, а Думанов в это время на баррикадах Пресни дрался. И совсем не в белых перчатках. Он и пулю там в грудь получил. Чудом жив остался.
– Да ну!
– Вот тебе и «да ну!». Не надо на стороне кремни искать, лучше хорошенько возле себя посмотри…
Человек, о котором говорили Тайми и Шотман, в ранний утренний час был уже на ногах. В последнее время он беспокойно спал, поднимался чуть свет, но товарищам об этом не рассказывал, понимал, что в глазах рабочего человека бессонница – это нечто непонятное, барское. Вот и сегодня, когда проснулся и зажег керосиновую лампу, часовая стрелка на настенных часах-ходиках еще не подошла к пяти. Он не спеша оделся, сполоснул над тазом лицо и руки, стараясь лить воду из кувшина тонкой струей, чтобы не беспокоить соседей.
Дощатые перегородки между комнатами были слишком тонкими, и сквозь них можно было слышать буквально все. Собственно, это был не дом, а сарай, не предназначенный для жилья. Домом он стал после того, как главную базу Балтийского флота перевели из Кронштадта в Гельсингфорс и для портовых мастерских, обслуживающих боевые корабли, пришлось привезти рабочих из России.
Приехавших токарей, слесарей, столяров, литейщиков и их семьи нужно было обеспечить жильем. Вот тогда-то портовая администрация и приобрела в рабочем районе города вместительный сарай, который был в срочном порядке переоборудован под жилье. Но сарай так и остался сараем, хотя в нем поставили перегородки, настлали полы и потолки, прорубили окна в стенах. При сильном ветре деревянное сооружение скрипело, как старый баркас, из щелей немилосердно дуло.
Думанову выделили отдельную маленькую угловую комнатку, где с трудом умещались кровать, столик и две табуретки.
Вечером шумел за стенкой пьяный сосед и бил сына, но быстро угомонился – видимо, завалился спать, и Думанов смог уснуть более или менее спокойно. Однако проснулся чуть свет. Первым делом надо было напоить молоком кошку, доставшуюся ему от прежних, уехавших в Россию жильцов.








