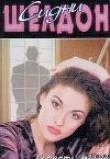Текст книги "Человек должен жить"
Автор книги: Владимир Лучосин
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
– Я решил, что ты не придешь, – сказал я, смущенный и взволнованный.
– И ошибся в диагнозе, доктор?
– Зови меня Юрой.
– Мне нравится это имя, – ответила она.
– Пойдем куда-нибудь, – сказал я, – подальше от людей.
Она посмотрела мне в глаза. У нее были умные глаза. Немножко кокетства и ни грамма наивности.
– Зачем уходить от людей?
– Хочу видеть только тебя!
– И в толпе, если захочешь, можно видеть лишь одну.
Я не нашелся что возразить. В ларьке я купил две большие плитки шоколада, сунул их в карман пиджака.
Скоро мы были за городом. Справа возвышалась насыпь железнодорожного полотна, слева раскинулся залитый солнцем нескошенный луг. Белые, желтые, фиолетовые и красные цветы. Благоухающая зелень, а за ней ярко-синее озеро.
Вера шла так красиво, как никто до нее не ходил.
Я смотрел на нее сзади, смотрел на чуть распушившиеся волосы, на ее талию, перетянутую белым шелковым пояском, на ее загорелые ноги в легких коричневых тапках. Тысячелетняя история. Идет женщина, как будто летит над землей, а ты жадно смотришь ей вслед, и хочется идти рядом. Два следа рядом – от широких туфель и маленький, с ямочкой от каблучка. Они тянутся рядом. До поры до времени.
Я взял Веру за руку. Она посмотрела мне в глаза, вырвала руку, побежала по тропинке, которая все еще вилась вдоль железнодорожной насыпи. Я побежал, догнал и по-прежнему шел сзади и глядел, как она идет, как слегка морщинится на ней белый шелк. И как выступают на спине пуговицы лифа.
Тропка вильнула влево на луг. Я не знал, куда она выведет, но готов был идти по ней куда угодно. Мы прыгали через кочки, перескакивали через неширокие канавы с черной и ржавой водой. Когда я обернулся, железнодорожной насыпи уже не было. Она исчезла, словно вдруг опустилась, продавив своей тяжестью землю. Лишь кончики телеграфных столбов чуть виднелись на фоне безоблачного неба.
– Посидим, Юра, – сказала Вера и опустилась на траву, натянув на колени платье.
Я расстелил пиджак и сел. Вера была совсем рядом, волосы ее пахли солнцем, медом, весной и еще чем-то удивительным. Я хотел обнять ее, но Вера перехватила мою руку и, улыбаясь, сказала:
– Доктор Юра! – И покачала указательным пальчиком.
Она сидела, вытянув ноги и покусывала травинку. Откусит, подержит в губах и сдунет. Чертовски захотелось ее поцеловать. Но что-то удерживало от этого.

И вдруг я начал говорить, что женюсь на ней, что увезу в Москву, где у меня милая старушка мать и просторная, с окнами на юг, квартира.
– Мама будет очень довольна тобой, я знаю. Она очень скучает сейчас одна.
– В Москву? К матери? Я матери нужна или тебе?
– Конечно, мне!
– А отец у тебя есть?
– Погиб на фронте. У меня только мама. Она на все готова ради меня. Поедем, Верочка. Зимой мы будем жить в Москве, а летом на Кавказе, на берегу моря. Там живет мамин брат, генерал в отставке.
– Ты интересный человек, Юра, – сказала Вера, премило растянув второе слово, – я таких еще не встречала.
Что ж, многие девушки считают меня интересным, и было бы глупо доказывать им обратное.
– Я рад, что я тебе интересен, Вера. Но мне этого мало.
– Ого, Юрочка, ты решительный.
– Через два года я буду врачом. Может быть, знаменитым врачом.
– А я через два года окончу десять классов.
– Поедем в Москву!
Она срывала с ромашки лепесток за лепестком.
– Не любит!
– Не веришь? – спросил я.
– У тебя есть другая. По глазам вижу. Я по глазам любое могу узнать.
– Я не люблю ее, она мне противна.
– Кто она?
– Студентка.
– Тоже будет врачом?
– Да, – ответил я. И спросил: – А ты кем будешь?
– Инженером.
По озеру плыла лодка, в ней сидели парень и девушка. Когда я пригляделся, то увидел голубое платье с белым воротничком. Валя. И, конечно, Каша!
Вера посмотрела мне в глаза.
– Ты на студентке женишься. Она будет врачихой. В одной семье два врача. Много общего.
– Я женюсь только на тебе. Так?
– Не знаю. – Лицо Веры было очень грустное. Она смотрела на солнце, которое неярко светило из-за белой тучки. Тучка напоминала кружевной девичий воротничок.
Я протянул Вере шоколад. Она не взяла. Шоколад был мягкий, как масло. Разогрелся на солнце.
Мы возвращались в город грустные, почти мрачные. Я всю дорогу клялся Вере, что люблю ее, люблю больше всей своей жизни. Я взял ее под руку и вел по тропинке.
Прощаясь, мы условились, что встретимся завтра в девять вечера в городском саду возле танцплощадки.
– Букет возьмешь? – Она протянула мне букет.
– Давай. Может быть, зайдем в кафе пообедаем, а?
– Что ты, Юра!
Я взглядом проводил ее до угла улицы и сунул букет в первую попавшуюся урну.
В школе меня ожидал сюрприз. В нашем классе за столом сидела Алла.
Губы накрашены, ресницы подведены, брови выщипаны, оставлена лишь жалкая, тонкая нить.
Мы пошли гулять по городу. Побывали в кино и кафе.
В десять вечера я провожал ее на станцию. На улицах было темно, но я ни разу ее не поцеловал.
– Ты очень изменился, Юрик, – сказала Алла. – Не узнаю тебя.
– Ты хочешь сказать, что я хорошо загорел на практике?
– Как раз я не это имела в виду.
– А что же? – Я смотрел на Аллу. Она была такая неестественная.
– Ты встретил другую, я поняла это еще по письмам. А теперь и увидела.
– Что увидела?
– Все, что нужно было увидеть.
Я не стал расспрашивать о подробностях. В таких случаях не надо спрашивать, а надо говорить, говорить. И я говорил Алле, что люблю ее по-прежнему, что люблю только ее, что ей показалось, будто я изменился по отношению к ней. Я обещал приехать в Москву в следующее воскресенье. Алла сказала, что будет ждать и кое-что припасет к этому дню.
Алла не блещет красотой, но зато умница. Она всегда на лету подхватывала мои идеи. Алла пригодится надолго. А Вера… Надо быть лопухом, чтобы упустить такой кусочек.
Я медленно шел к общежитию. Фортуна наконец-то повернулась ко мне лицом. Выздоровление Василия Петровича, операция Дубовскому, вторая операция – Луговому. Встреча с Верой… Несмотря ни на что, Вера приятна, очень.
Что же из всего этого главное? Столько событий за один день, что и не разберешься сразу. Я знал лишь, что должен окончить практику на «отлично» и пятый и шестой курсы – на «отлично». И государственные экзамены тоже.
Диплом с отличием, поступление в аспирантуру – вот чем я должен жить. И еще Вера.
В общежитии Захаров читал учебник хирургии. Каши еще не было.
– А где наш гуляка? – спросил я, показывая на кровать Каши.
Захаров неожиданно рассердился.
– Ты, Юрка, лучше не задевай Игоря.
Я тоже рассердился.
– Что ты взъелся? В товарищество играете? Силенок не хватает, так вы друг за друга цепляетесь?
Я лет на кровать и открыл журнал.
Захаров тоже взялся за книгу. Он читал насупившись. Я смотрел ему в лицо. Странно, что он не чувствовал моего взгляда.
Мы легли в двенадцать. Захаров закрыл входную дверь, я прикрыл окно. Интересно посмотреть на Кашу, когда он будет возвращаться.
В половине первого ночи кто-то забарабанил в раму. Я еще не спал и подошел к окну: конечно, он! Фонарь во дворе освещал его светло-серый костюм.
– Открой, – попросил Каша.
Я открыл форточку.
– Открой окно!
– И за форточку скажи спасибо.
Я лег на койку и смотрел, как он лез. Форточка была довольно широкая. Он влез без труда. Даже костюм не помял.
Каша ужинал, не зажигая света. Он не хотел тревожить Захарова. Я видел его улыбку. Он смотрел на кровать Захарова – и улыбался.
Пахло луком, копченой селедкой и малосольными огурцами. В его чемодане был целый «Гастроном». Эх, тоже мне врач! Малосольная интеллигенция!
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
РАЗМЫШЛЕНИЯ НИКОЛАЯ ЗАХАРОВА

Здорово получилось! Коршунов доказал делом, что умеет верить в людей. И Гринин был молодцом, несмотря на склонность к позерству. Первую свою операцию он провел отлично. Нужно было видеть парня, чтобы понять, чем стал для него сегодняшний день.
Торжественный, стоял он у белой кафельной стены, вытянув вперед руки в резиновых перчатках. Когда на каталке привезли Дубовского, Гринин приосанился, его взгляд стал строгим.
Началась операция. Он долго не мог найти аппендикс, а найдя, как мальчишка, закричал во все горло: «Нашел!»
Потом Гринина поздравляли так, будто он первый в мире сделал операцию на сердце. Опьяненный успехом, он вышел во двор и стоял под дождем, минут десять, пока не остыл. Я заполнял истории болезней в ординаторской, сидя у окна. Мне хорошо было видно его лицо: красивое, мужественное и в то же время немного глуповатое от удачи.
Юрий умел контролировать себя, но сейчас он был один и, зная, что его никто не видит, просто млел от счастья. Я смотрел на него, радуясь и чуточку завидуя. В двадцать девять лет уже не будешь с такой телячьей нежностью любоваться собой.
Положив локти на истории болезней, я смотрел в окно. Мне хотелось – чертовски хотелось! – чтобы Юрий немедленно пошел в палату к Дубовскому и сосчитал пульс. «Иди, Юрка, ну иди! Это же твой первый человек, которого ты сам оттащил от смерти». Гринин, должно быть, почувствовал мой взгляд. Его нервная организация подходила для таких опытов. Он повернулся к окну, наши глаза встретились, глуповатая улыбка уступила место торжественно-победной.
– Салам, будущий хирургический бог! – крикнул мне Юрий, с удовольствием выделяя слово «будущий». Он легко нагнулся, сорвал с клумбы две маргаритки и, стряхнув с них капельки дождя, воткнул в петлицу халата.
Дурень! Не понимает главного.
Вижу Игорька на его месте. Тот сидел бы сейчас у койки больного, забыв про все остальное. У него просто не осталось бы времени заняться собой. Послеоперационный период только начался, и тому, кто лежит под больничным одеялом, так еще много нужно! Нужен не только опыт врача. Нужна нежность. Нужна готовность сделать вот в это мгновение то, что вдруг предстоит сделать. Нужен поток сочувствия и веры, понуждающий больного бороться за свою жизнь.
Я знавал врачей, которые обходили палату и выполняли все, что профессионально надо было выполнить. Потом они уходили, и в палате не прибавлялось жизненных сил. Игорек застрахован от этой разрушающей врачебный талант черствости души. А вот Юрка?
Что-то он не с того бока смотрит на вещи. Хвалили его, что ли, слишком много? Вот и увидел он в операционной только успех, а человека не заметил.
Не было человека на столе, была операция. Случай из практики Ю. С. Гринина. Маргаритка в петлице!
Я думаю, имеется ошибка в самой системе подготовки. В ней у нас слишком мало черной, требующей предельной самоотверженности работы. Кажется, Ефремов придумал для юношей будущего три подвига Геркулеса? Ну, да, об этом он написал в «Туманности Андромеды». Правильно придумал! Помню, когда мы прочитали в артполку, то все спорили, в какой же форме можно провести уже сегодня, у нас, для наших ребят, подобное утверждение нравственных сил и прав. Прямо-таки хоть в ЦК ВЛКСМ пиши!..
Нам тогда, в Тюрингии, посчастливилось видеть подвиг. Тогда-то я и влюбился на всю жизнь в хирургию. Ночью полк подняли по тревоге, и мы, разобрав лопаты, бросились в район обвала. Лес был срезан снежной лавиной. Немецкий поселок смят. Дома, сорванные с фундаментов, разваленные стены, домашние вещи жалко торчат из-под снега. Фары бульдозеров вырывали из темноты одну картину страшнее другой, и солдаты в их лучах искали людей, откапывали и относили к палаткам только что развернутого госпиталя. Одного немца мы с ефрейтором Ивановым нашли в глубокой, засыпанной снегом яме. Я ухватил немца под мышки, попытался поднять – он пронзительно закричал. Раздробленная стопа придавлена огромным валуном, она держалась на нескольких жилах. «Берегись, лейтенант!» – вдруг крикнул сверху Иванов.
Валун подался! Не знаю, какое, но очень точное чувство отметило еще незаметное глазу движение. Взмахом ножа отсечена стопа, и через мгновение мы с раненым были наверху. Скрежетнув по льду откоса, валун сполз в яму. Я посмотрел на Иванова. К белым щекам его стали приливать живые краски. «А на вас совсем лица нет, товарищ лейтенант! – сказал он. – Треба перекурить».
Мы, артиллеристы, все сбились с ног в ту ночь. Еще труднее было медицинским работникам. Их было мало, а нуждающихся в неотложной помощи было много, каждый врач и сестра должны были работать за десятерых. Всю ночь, весь день и, как оказалось, еще целую ночь. Вот это, в сущности, и был подвиг.
Когда под утро спасательные работы закончились, солдаты кучками толпились близ госпиталя, спрашивая сестер: «Как мой-то немец? Жив?», «А моего уже оперировали?» – и получали ответ: «Какой твой? Тут все наши». Потом на пороге появился майор Шарин, главный хирург.
– Эй! – крикнул он. – Товарищи! Кто тут есть со средним образованием – прошу сюда!
Я стоял близко и успел с другими подбежать к нему.
– Пошли, будете помогать!
Каждому дали работу. Мне показали, как мыть и беречь руки, надели белый халат. Пока оттирал щеткой с мылом ладони, майор стоял рядом и смотрел.
– Учились отлично, лейтенант?
– Не очень, товарищ майор.
– Сейчас, дорогой, проверим. Зрелость узнается по способности быстро освоиться в новом деле. Вы замените на несколько часов операционную сестру. Пока что требуют от вас одного – внимательности.
На одноногом столике, накрытом простыней, разложены инструменты. Он их называл, а я повторял вслед за ним названия, неожиданно красивые, более подходящие к цветам, нежели к этим металлическим штучкам: «пеан», «кохер»… Повторял и с ужасом думал, что вот сейчас майор будет резать человеческое тело, а я все перепутаю и наделаю ему беды.
– Рекомендую не смотреть на операционное поле, лейтенант. Вы медицински неграмотны, все равно ничего не поймете. Забудете и то, что узнали. Подавайте, что попрошу, и чур – не обижаться.
Все следующие часы я старался следовать этому совету. Но не смотреть совсем я не мог. Его руки подобно магниту притягивали взор. Они совершали чудеса. До той поры я преклонялся перед людьми, умеющими делать красивые и удобные для людей вещи, я мечтал стать одним из них. Может быть, столяром, как отец, может, думалось, хватит пороху и на другое – скажем, инженер по деревообработке. Неплохо, совсем неплохо! И вот в ту ночь я увидел, как работает человек, отстаивающий у смерти другого человека. Другого, третьего, четвертого, пятого…
Услышав голос майора, я подавал инструмент. Иногда совал мимо руки хирурга, иногда хватался не за то, что требовалось, и он, ругаясь, поправлял меня.
Потом прибыли заблудившиеся в метели медицинские сестры, и моя работа окончилась. Полк уходил в свой городок. Местные власти благодарили солдат за помощь. Майор Шарин, пожимая руку, сказал:
– Ну, спасибо за помощь, товарищ… медбрат. Не обижаетесь?
– Что вы, товарищ майор!
– Язык мой – враг мой. Невоздержан. Вам много лишних слов досталось?
– Семь «болванов», товарищ майор…
– Всего семь, лейтенант? Тогда считайте, что вы с честью выдержали первое испытание.
– Готов хоть семь лет ходить в болванах, лишь бы стать таким хирургом, как вы, – вырвалось у меня.
– О, романтическое увлечение хирургией! Любовь с первого взгляда?
– Мне кажется, тут другое…
– Проверьте себя, лейтенант. Случайный человек в медицине не менее опасен, чем на офицерском посту. Я вас как кутенка сунул в операционную, и вы несколько ошалели. Конечно, ситуация необычная… бедствие, тяжелые травмы… двенадцать операций… благополучный исход. Красиво, ничего не скажешь. Однако проверьте.
– Да как же? Как проверить себя? Легко с высоты вашего опыта прикидывать, а мне?
– Пожалуй, я обескуражу вас своим советом. Право, я бы ради интереса взял вас в госпиталь, но, сами знаете, в армии свои нормы, и офицеру не положено клозеты чистить. А как станете штатским, идите прямой дорогой в любую больницу и нанимайтесь санитаром. И проситесь в самую трудную палату. Поработаете и, если уверуете, что это ваша стезя, валяйте с чистым сердцем в медицинский институт.
Я и теперь не могу забыть этого памятного разговора. Спасибо, майор! Я старался проверить себя как умел. Срок хождения в «болванах» близится к концу. Скоро буду хирургом – теперь-то я уж твердо знаю! – и могу спокойнее думать и говорить об этом.
– Все трудишься? – прервал мои мысли голос Нины.
– Нет, дурака валяю, – ответил я, скосив глаза на окно, за которым домлевал наш Юрий.
Нина выглянула наружу, помахала ему рукой, потом села на диван и спросила:
– Почему ты на него сердитый? Он же сегодня именинник. Неужели завидуешь, Коля?
Ох, уж мне этот «детский сад»! Нина славная девушка, мы с ней немного дружили, и бывало, что я не чувствовал разницу в летах. Женщины взрослеют скорее мужчин, и десять лет не были помехой нашему товариществу. Но сейчас я не мог говорить с ней ни про Гринина, ни про майора, ни про то, что Юру, кажется, надо бы послать на годик в санитары.
– Не передумала? – спросил я. – Пойдем на лодочную?
Нина оживилась, дважды качнулась на пружинах дивана. Если бы ей было чуточку больше, ну хотя бы двадцать пять лет, она так, наверно, не сделала бы. Но пока это ей шло. И она знала, что это ей идет, и с удовольствием любовалась собой, своей игрой в ребячество. Она ответила:
– Покататься я всегда готова. В девять?
В коридоре послышался раздраженный голос Золотова: «Где Нина Федоровна? Сейчас же найдите мне Нину Федоровну! Безобразие!»
– Опять скажет: «амурничаете»! – продолжая свою игру, прошептала Нина, потом встала и нарочито медленно, красиво покачивая плечами, пошла на зов заведующего.
Едва Нина исчезла, в ординаторскую влетел Золотов. Взглянул на меня и сел на зачехленный белой тканью диван, на то самое место, где только что сидела Нина. Мною овладело озорное чувство. «Ну-ка, старик, качнись… раз-два». Золотов сидел с каменным лицом, положив ладонь левой руки на колено и далеко отставив локоть. Тут шла другая игра.
Заполняя очередную историю болезни, я время от времени украдкой поглядывал на него. Белый как лунь и черные широкие брови. Под ними в крутом изгибе карие выразительные глаза. Бронзовый волевой профиль кавказского склада. Строен и нетучен, несмотря на свои годы. Красив!
Многим красив этот человек. И обликом, и повадкой, и профессиональным мастерством. Даже своей диковатой волей, уже принесшей нам столько разочарований. Что же ему мешает понять молодежь? В сущности, мы требуем немногого: чтоб нам дали дело. Вот и все.
Золотов по-прежнему сидел в напряженной позе, как бы собирая себя в пружину. Потом вытащил из кармана конфету, развернул бумажку, откусил. Шоколадные конфеты его слабость. Он прибегает к ним в минуты душевных волнений. Они успокаивают его, как других успокаивают валерьяновые капли.
Вошел Коршунов. Глаза его возбужденно горели.
– Вы меня звали? Слушаю вас. – Коршунов бросил взгляд на пустой стул, но не сел.
Золотов устало опустил веки, несколько минут сидел неподвижно, словно засыпая, и вдруг неожиданно и резко стал бросать фразу за фразой:
– Василий Петрович, какое вы имели право допустить к операции студента? Почему не поставили в известность меня? Вы ставите в весьма щекотливое положение главврача. Кто будет отвечать перед законом, если что-нибудь случится?
– Я буду, – ответил Коршунов. – Я ответственности не боюсь, наоборот – прошу о ней. За что вы мне выговариваете? За то, что Гринин успешно оперировал? Невероятно! Эти ребята хорошо разбираются в теории и посланы сюда, чтобы мы дали им практические навыки. Мы обязаны это делать.
– Не учите меня, Василий Петрович! – почти закричал Золотов. – Я не позволю действовать через мою голову!
Коршунов смотрел на Золотова, на его высокий лоб.
– Не понимаю вас, Борис Наумович, – сказал он, – вы сами кончили ординатуру у Спасокукоцкого. Другие тоже должны расти и совершенствоваться.
– Не читайте мне нравоучений! Молоды для этого. Хотите совершенствоваться – поезжайте в ЦПУ[1]1
Центральный институт усовершенствования врачей.
[Закрыть], там всему научат. И как мозоли удалять научат, вам не мешало бы поучиться!
– Я уже подал заявление. Надеюсь, что пошлют.
– И уезжайте. Скорее уезжайте. Можете уехать вообще. Здесь вы только мешаете! – И Золотов пулей вылетел из ординаторской.
На Коршунова было жалко смотреть. Он весь дрожал от стыда и негодования, в нем все кипело, искало выхода. Любого выхода, лишь бы выплеснуться.
– Нет! Это невыносимо. – Он выхватил из кармана авторучку. – Сейчас же пишу. Пусть увольняет…
– Да что вы, Василий Петрович! Одумайтесь.
– Чтобы я хоть день еще работал у него!
– А у кого вы работаете – у Золотова или у советской власти?
Коршунов сидел, крепко сжав губы. В глазах мелькнула искорка.
– Ты славный парень, Николай, – сказал он, перейдя на «ты». – Извини, я оказался мелочным… Хотел бы я знать, кому он служит.
– Не перехлестывай, Василий Петрович. Он тоже ей служит, только с завихрениями.
– Меня что бесит в Золотове? – сказал Коршунов. – Что он имеет опыт, огромный опыт, но не желает быть наставником, он хочет быть только хозяином. Он поэтому и сына родного не стал бы учить. Золотов! Золотишко, а не золото, как приглядишься! – Коршунов опустился на стул у раскрытого окна.
Под окном ординаторской неторопливо шел по тропинке Чуднов, посматривая на вишневый сад, на разрушенную кое-где черепичную крышу больницы. Его догнал Золотов.
– Михаил Илларионович… Глубоко принципиальный вопрос! Без моего ведома Василий Петрович разрешил студенту оперировать.
– Операция, кажется, окончилась благополучно? – Чуднов улыбнулся.
– Еще рано говорить о благополучии, – Золотов нахмурился. – Посмотрим, как будет проходить послеоперационный период.
– Что ж, посмотрим… Юрий Семенович очень способный студент. Не так ли? Прирожденный хирург. Я бы на вашем месте одобрил инициативу Василия Петровича.
– Не узнаю вас, Михаил Илларионович. Вы всегда меня поддерживали и вдруг… – Золотов развел руками.
– Практика студентов у нас впервые, вот наши мнения впервые и не совпали. Так вы считаете, что Юрию Семеновичу нельзя было разрешить самостоятельное оперирование? Подготовлен плохо? А как успевает Николай Иванович?
– Кто?! – брови Золотова прыгнули вверх. – Ах, этот… в кителе?
– Не чудите, дорогой мой. Ну, что это – один «щеголь», другой «китель».
– Ну, может быть, этот немного серьезнее.
– Вы не объективны, Борис Наумович. Они трахеотомию сделали! Я тридцать лет проработал, а не смог бы.
– Не знаю, как это у них получилось, – сказал Золотов и сплюнул. – Чистая случайность.
– Элемент случайности, вероятно, был, – сказал Чуднов, – но не в том, что они спасли мальчонку.
– В чем же, интересно? – спросил Золотов.
– А в том как раз, что к нам попали такие замечательные ребята.
– Вы, безусловно, имеете право на собственное мнение, – сказал Золотов, носком тапочки перекатывая камушек. – Хочу оттенить лишь одно: если что-либо случится, отвечать в первую очередь придется главному врачу.
– Почему же должно что-то случиться? – Чуднов добродушно улыбнулся. – Хотите попугать меня? Так я, слава богу, всякое видел на своем веку.
– Пугают маленьких детей, – сказал Золотов. Спокойная, размеренная речь Чуднова выводила его из себя. Он нервничал и не находил нужных слов. – Аппендектомия и грыжесечение – не такое простое вмешательство… смертность может быть очень высокой, если… Покойный Спасокукоцкий не раз говорил, что…
Концы фраз я не улавливал.
– Дорогой Борис Наумович, – ласково сказал Чуднов, – я ни в малейшей степени не собираюсь отбирать у вас, как говорится, ваш хлеб. Ведь я терапевт. А вы хирургический бог. Мы очень ценим вас. Но надо же… Государство тратит колоссальные средства… И мы должны, обязаны и как врачи и как члены партии предоставить молодежи…
– Ах, довольно, Михаил Илларионович. К чему все это? Хорошо. Я подумаю. – Золотов холодно поклонился и пошел по тропинке в ту сторону, откуда пришел. Чуднов смотрел на крышу больницы, морщась то ли от солнца, то ли от назойливых мыслей.
– Антракт! – усмехнулся Коршунов, отходя от окна. – Тебе понравился этот неожиданный спектакль? – Большие черные глаза его в упор смотрели на меня. В них не было усмешки.
– Мы бы не нашли аргументов сильнее, чем у Чуднова. Обычно главврачи идут на поводу у заведующих хирургическими отделениями. А наш, как видишь, не согласен, пытается убедить.
– А я думаю, тут ломать надо, а не уговаривать! – почти выкрикнул Коршунов и передразнил Чуднова: «Мы как врачи и как члены партии обязаны…» Не той пробы золотишко-то. Неужели вы, коммунисты, этого не видите? – Он умолк и, сердито сопя, направился к двери.
Пришлось перехватить его за руку:
– Василий Петрович, куда? Плюнул в лицо и дёру? Теперь нас только дуэль рассудит.
– Право, мне не до смеха. Тебе обидно слушать правду?
– Обидно слышать чепуху от разумного человека. Ты чего прячешься за коммунистов? Хорошо, я коммунист, на мне ответственность до гроба. И за успех практики – за все. Но я здесь неделю, а ты три года… валандаешься.
Коршунов протестующе поднял руку и одарил меня презрительнейшей из улыбок.
– Не играй, Василий Петрович! Тут дело на честную идет. Я это слово обратно не беру. Ты же и полсилы своих способностей не отдаешь делу. Любимому делу! Почему? С Чудновым говорил? В горздраве был? Ну хоть раз-то был?
– Ты, Николай Иванович, плохо знаешь положение молодого врача. Нами затыкают все дыры. Нами никто не интересуется.
– Я смотрю, ты жаловаться здорово умеешь.
– Жаловаться? Что за противные слова выбираешь! Никогда никому не жалуюсь, просто хочу откровенно сказать.
– Вот и говори откровенно: что ты сделал за три года, чтобы добиться полной отдачи своих способностей? С кем воевал?
– Не мог же я… я был связан.
– Чем?
– Не привык хлопотать за себя, это вне моих нравственных правил.
Тьфу!.. Я даже сплюнул от злости. Подумать, сколько в каждом из нас напихано эгоизма, он так и лезет, чуть поворошишь. Лезет и еще прихорашивается.
– Ты, я смотрю, как барышня! Милая барышня, как вы благородно воспитаны…
– Прости, Николай, но это уже хамство.
– Черт с ним, таким рожден, принимай, каков есть, я же считаюсь с твоим благородным происхождением.
– Не дури, – Коршунов рассмеялся и хотел уйти, но я стал у двери.
– Серьезно говоря, Василий Петрович, я обвиняю тебя в пассивности. В удручающей пассивности. И вот итог. Итог трехлетия. У тебя один операционный день, все остальные операции делает он. У тебя была одна палата, а теперь и она отдана Юрке. У Золотова же весь этаж. Со всех концов итог плохой. Надо бы хуже, да некуда. Для отдачи сил – никакого оперативного простора. Наконец, для твоей личной славы….
– Вот уж за чем не гонюсь!
– Мелко плаваешь, поэтому и не гонишься. Кому-кому, а врачу без славы нельзя. Ему нужна громкая слава. Иначе больной-то к знахарке пойдет. Врача все должны знать на полсотни верст окрест. Что ты на меня так смотришь? Ведь это же дважды два – четыре.
– Где ты научился так забавно выворачивать сложившиеся понятия?
– Жизнь учит… начинаешь с прописи, а потом постигаешь удивительную подвижность понятий. Но это уже философия, а нам нужно решить практический вопрос, как покончить с пассивностью и неустроенностью молодых врачей в больнице.
Хотелось раззадорить его, толкнуть к Чуднову. Ведь успех, во многом зависел от Чуднова. А мне – как бы сказать? – мне трудно было критиковать его. С первых дней практики я полюбил Михаила Илларионовича, хотя, наверно, и не совсем так, как Игорь, и не совсем за то, за что полюбил он. Этот огромный старичина был мне глубоко симпатичен. Он целиком отдавал себя делу, бескорыстно выполнял работу за троих, получая обычную для главврачей зарплату. А кто считал, сколько часов уходило у него на партийную и депутатскую работу? Единственный в своем роде, второго похожего врача не было. На таких держатся учреждения. Они как фундамент, как свет. Без них немыслимо.
Словом, целое объяснение в любви. Как же в таких условиях критиковать? Ведь любовь и критика несовместимы. И вдруг, да, вдруг, вот только сейчас, наскакивая на Коршунова, я обнаружил, что Чуднов страшно не прав! Нет, хуже – виновен. Прижившись к Золотову, он проглядел судьбу молодых врачей в больнице. Проглядел, что штатный хирург Коршунов перебивается на положении практиканта и что он совершенно закис в своих переживаниях. И ведь он такой не один в больнице. Главврач не имел права проглядеть такие вещи, он должен был…
В сущности, что должен был бы сделать главврач? Что я бы сделал на его месте? Тут у меня блеснула озорная мысль и сразу сорвался вопрос:
– Послушай, Василий Петрович, а ты смог бы все повернуть? Готов ты стать заведующим отделением вместо… Золотова?
– Ты с ума сошел! – воскликнул он и, вскочив со стула, угрожающе двинулся на меня. – Как ты смеешь обо мне так думать? Не для этого веду разговор!
Опешив, я услышал, как хлопнула дверь, и кинулся вслед за Коршуновым. Как мальчишки, мы выскочили во двор.
– Василий Петрович, разговор не окончен!
– К черту! – Он бежал в сторону морга.
– Да остановись же ты, человек!
– К черту!
Из-за угла больничного корпуса вышел Чуднов, остановился посреди дорожки, широко раскинув руки:
– Стоп!.. Что случилось, Николай Иванович?
– Эх, дурака свалял, Михаил Илларионович! – ответил я, ухватившись, чтобы остановиться, за его ручищу. Я почувствовал, как спокойно напряглись в ней и стали железными мускулы.
– Ну и студент нынче пошел… среди бела дня врачей гоняет. Вы что, и с Коршуновым уже поссорились? Тоже оперировать не дает?
– Что вы! Коршунов наш первый друг, но…
Словом, я выложил все, что узнал, что понял, что увидел с того момента, как мы с Коршуновым стали невольными свидетелями разговора главного врача с Золотовым. Чуднов стоял рядом и курил, жуя мундштук папиросы. «Сердится!» – подумалось мне. Его рука легла на мою спину, и мы стали ходить по дорожке взад-вперед.
– Да-с… значит, так-таки и проглядел… прижился… вырастил – как это вы изволили сказать? – «удельного князька первого этажа»? Ишь, как у вас хлестко получается! Вам бы в журналисты пойти, Николай Иванович!
Чуднов вытащил новую папиросу и, скомкав пустую пачку «Беломора», поискал взглядом, куда бы ее забросить.
– Пройдемтесь, Николай Иванович, еще до того угла. Конечно, надо бы урны чаще поставить денег не хватает. Впрочем, это мелочь. Вы мне, Николай Иванович, много рассказали про нашу больницу. Тот же Коршунов… вот тихоня! Ну, почему он сам не рассказал? Обидно, право, обидно… Много нового, много серьезных вопросов. Их тут, на дорожке, не решишь. Я вас вскоре позову, поговорим в подходящей обстановке.
Чуднов ушел. Я постоял на дорожке и отправился в общежитие, чувствуя себя выпотрошенным. Может быть, старик намерен спустить все это дело на тормозах? Критика выслушана, благосклонно принята, и пусть все идет, как оно шло? Ну, нет! Черта с два! «Я вас вскоре позову». Иногда «вскоре» – день, иногда месяц.
Я в горздраве.
– Вам заведующего? Елкин будет через полчасика. По вопросу студенческой практики? – Секретарь улыбнулась, приоткрыв сталь зубов. – Тогда пройдите в кабинет. Один человек уже ждет.