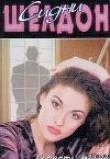Текст книги "Человек должен жить"
Автор книги: Владимир Лучосин
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
Ассистент ушной клиники прибыл через полтора часа после того, как Чуднов ему позвонил. Викторова на носилках опустили на первый этаж.
Началась операция. Ассистировал доктор Бочков.
У хирургов много общего: очки с позолоченной оправой, черные волосы, почти одинаковый высокий рост, того и гляди обознаешься, когда они оба в марлевых масках стоят за операционным столом. Но если хорошо приглядеться, то можно заметить, что морщин у Николаева на лбу больше, кожа на лице не такая гладкая, на висках порядочно седых волос. Движения рук спокойные. А в глазах – мудрость. И краткий содержательный комментарий по ходу операции давал он, а Бочков только слушал. Слушал и благодарно покачивал головой. Ему было приятно, что на него не кричат, что его не оскорбляют. Чувствовалось, что и Николаев испытывает полное удовлетворение: и оттого, что подшефной больнице понадобилось его столичное уменье, и, наверно, оттого, что здесь, как и в институте, он учит неоперившегося птенца.
Сложная операция! Они долбили височную кость. Можно было подумать, что они не врачи, а металлисты или плотники. Из очага заболевания выделилось ложки три желто-зеленого гноя. Без лечения он разлился бы по мозгу и…
– Думаю, что он будет жить, – сказал Николаев после операции.
Я тоже верил, что не умрет теперь Викторов, как не умерли Гриша и мотоциклист Лобов.
Мы беседовали в ординаторской терапевтического отделения, куда Чуднов пригласил Николаева. Ассистент спешил. Чувствовалось, что важное дело, ради которого он прибыл, кончилось и остальное его не интересует.
– Ну так что у вас тут с практикой студентов, Михаил Илларионович? – спросил Николаев, поглядывая на часы.
– Не найдут общий язык с заведующим хирургией, – ответил Чуднов.
– Не понимаю, разве это настолько трудно?
– Товарищ Николаев, – сказал я, – вам ассистировал доктор Бочков. Вам хотелось бы, чтобы мы вышли из института такими же беспомощными?
Николаев вдруг насупился.
– Да, Михаил Илларионович, Бочков слабоват в самом деле. Он не делает никаких операций?.. Почему не воздействуете на заведующего отделением?
– Пробовал – не получается. Я его в ЦИУ пошлю.
– Бочкова? Вот-вот, непременно.
Чуднов улыбнулся одними глазами.
– Что касается практики студентов, то я советую, товарищ Захаров, прилежно выполнять предписания врачей, они знают, как и чему вас учить. И затем: не разбрасывайтесь. И не суйте свой нос куда не следует…
– Вам же говорили! – воскликнул наш чудесный старичина и подмигнул мне.
За окном трижды просигналила машина.
Николаев бросил на спинку стула халат и подал Чуднову руку. Через две минуты красный крестик на стекле «Волги» мелькнул в воротах.
– А я все-таки пошлю его в ЦИУ, – сказал Чуднов. – Пока он будет там, мы здесь наведем порядок, а Борис Наумович, возвратясь и потеряв инерцию косности, его примет. Алена Александровна прямо спросила: «Сумеете Золотова вылечить?» Вот как появилась у нас идея с ЦИУ.
– Скучать будет на курсах, – сказал я. – Он и так все операции делает.
– Думаете, великому умельцу курсы противопоказаны? Ему же там диссертацию профессор поможет закончить. Кандидат наук в больнице! Плохо это или хорошо для всех нас? Вот так-то.
Чуднов, думая о чем-то, ходил по комнате, будто вдруг сразу забыл обо мне. Потом остановился, положил мне на плечо руку и спросил:
– Хотите, расскажу историю Лены Погребнюк?
…Тысяча девятьсот сорок первый год. Девятнадцатилетняя девчонка ушла медсестрой на фронт. Первое ранение под Крюковом, госпиталь – и снова в боях. Десант через Керченский пролив в Крым. Тогда она была сестрой в хирургическом взводе десантной дивизии. Полтора месяца на плацдарме, в отрыве от своих. Каждый метр взрыт немецкими бомбами и снарядами. В операционной работают при коптилках. С потолка падают штукатурка и земля. Осколки врываются через окна. Повторные ранения солдат на операционном столе. Здесь ей перебило руку, а впереди был рейд по тылам врага – дивизия уходила на Митридат, на соединение со своей армией. После войны – институт. Вот как наша Алена Александровна стала врачом, и каким врачом! Она, дорогой мой, свою профессию выстрадала, она свою любовь к ней через огонь пронесла… Это, Николай Иванович, в продолжение нашего разговора о молодых специалистах. Ну, а дальше – «испортили» ей карьеру товарищи: избрали секретарем парторганизации, – и началась ее вторая профессия, уже по партийной линии.
Учитель Дубовский и электрик Луговой быстро поправлялись. За Грининым прочно закрепилась характеристика – прирожденный хирург. Что ж, это можно было понять. Он первым из студентов сделал две полостные операции и сейчас готовился к более сложной. Так говорили сестры и санитарки. Я слушал и только улыбался. Говорят? Пусть!
Настроение у него в последние дни было прямо-таки превосходное. Он не ходил, а плавал по коридорам и палатам, высоко держа пышную голову. Кто его не знал, мог подумать, что это очень важное лицо в больнице. Хотелось подойти и щелкнуть его по носу. Пригни голову, мальчик, шишку набьешь!
Порою было забавно наблюдать за ним.
На днях меня назначили дежурить на «Скорую помощь». Гринин спросил, не буду ли я против, если он подежурит вместе со мной. Я, конечно, не возражал. Гринин попросил Чуднова, и тот разрешил дежурить двоим.
Мы пошли на дежурство.
Светло-голубая машина с красным крестом на боку, казалось, дремала во дворе поликлиники возле старого, покрытого зеленоватой плесенью забора.
В тесной комнатушке с большим окном, выходящим на улицу, за столом сидела совсем молоденькая фельдшерица и весьма оживленно разговаривала по телефону. Это был необязательный и совсем не медицинский разговор. Я раскрыл рот, чтоб сказать об этом, но Гринин схватил меня за руку:
– Подожди, Николай, я скажу… Сестра, разве вы не знаете, что не рекомендуется занимать служебный телефон пустыми разговорами?
– Что?.. Одну минуту, Витя, – сказала фельдшерица в трубку и повернулась к Гринину. Он сидел рядом со мной на кушетке. – Во-первых, я не сестра, а фельдшерица. Во-вторых, я вам не подчиняюсь и прошу мне не указывать. – Черные подведенные ресницы ее дрожали. Она поглядывала на меня, ища в моих глазах сочувствия. Я не вмешивался. Пусть Гринин сам с ней разделается.
– Ваша пустая болтовня может дорого обойтись, – наступал Гринин.
– Что вы сказали, интересный юноша? Дорого обойтись?
– Да! Она может стоить человеку жизни!
– Прошу не указывать, человек с усами. Впрочем, усики вам идут. С ними вы напоминаете мужчину, – фельдшерица взглянула в трубку, словно в зеркало, улыбнулась, представив, наверно, что ее видит тот, с кем она говорила: – Алло, Витенька! Ты меня слушаешь?.. Да так, тут один молокосос ко мне прицепился… Я его, конечно, отшила, как полагается. – Она коротко взглянула на Гринина, проверяя, как он будет реагировать на ее слова, и продолжала разговаривать.
Гринин смотрел на меня, дрожа от ярости.
– Василию Петровичу скажу. Он ей даст на орехи! – Гринин встал, резко одернул халат и уже направился в хирургический кабинет к Коршунову, который сегодня дежурил вместе с нами.
– Повремени, Юра, – сказал я и подошел к столу.
Фельдшерица краем глаза наблюдала за нами.
– Дайте! – сказал я ей и взялся за трубку. Она не отдавала. Я потянул сильнее: – Прошу!
Она опустила трубку, отскочила, словно ее ударили, и истерично закричала:
– Хам! Я на служебном посту, а ты…
Я положил телефонную трубку на рычаг и спросил:
– Может быть, окно открыть, чтобы вас лучше слышали на улице? – И толкнул раму – обе створки распахнулись.
Фельдшерица мгновенно притихла. Сжав толстые накрашенные губы, смотрела на меня, прищурившись, с выражением страха и бессилия. Кривляясь, спросила:
– На что вы еще способны, бывший военный?
– Садись к телефону, Юра, – сказал я.

Гринин сел за стол, а она стояла у раскрытого окна, видимо обдумывая, что бы ей выкинуть. Сначала она сжимала кулаки, потом поковыряла пальцем замазку, повернулась и, бросив мне: «Дуб!», уселась на подоконник.
Я достал из чемоданчика «Последние залпы», раскрыл сотую страницу. Не читалось.
Я оглядел комнатушку. На одной стене – портрет Павлова, на второй – таблица о мерах помощи при отравлениях. Точно такую же таблицу я видел на станции «Скорой помощи» в Москве, где работал зимой полтора месяца. Потом трудно стало совмещать учебу с работой, и я ушел.
В углу стоял стеклянный шкаф с инструментарием, рядом – такой же, с медикаментами.
Вошел Василий Петрович, настороженным взглядом оглядел нас, поводил выпуклыми карими глазами. С наших лиц, наверно, еще не сошло раздражение, потому что Коршунов спросил:
– Что тут у вас?
– Телефон арестовали! – сказала плаксивым голосом фельдшерица.
– Не верьте ей. – Гринин поднял брови. – Она оскорбила нас. Она назвала меня…
– Татьяна Сергеевна любит шутить, – Василий Петрович улыбнулся.
Фельдшерица расцвела. Она мигом соскользнула с подоконника и, подойдя к Гринину, сказала:
– Разрешите, интересный юноша. Освободите место.
Меня покоробило, что ее зовут Татьяной. Я полюбил это имя еще со школьных лет.
Гринин встал со стула. Она села, закинула ногу на ногу.
– Татьяна Сергеевна плохо шутит, – сказал я. – А вернее, не умеет шутить.
– Что вы понимаете в шутках, бывший военный? – фельдшерица улыбнулась, не сводя глаз с Василия Петровича.
– Ну и Татьяна! – сказал я.
– Буду вам Татьяной после загса.
– Боюсь, что и тогда вы не станете Татьяной. Проба не та.
Коршунов двинул черной бровью и улыбнулся.
– Ну, не скучайте и не ссорьтесь… У вас есть что читать?
Мы ответили, что есть. Он ушел в хирургический кабинет. Мы взяли книги и тоже вышли в зал ожидания, опустились на диван и начали читать.
Через час я заглянул в комнату «Скорой помощи». Фельдшерица положила голову на стол рядом с телефонным аппаратом, чтобы услышать вовремя звонок. Человек как человек, когда спит.
Я возвратился к Гринину. Ярко светила над головой лампочка. Гринин читал монографию о хирургии почек. Одолжил у Коршунова.
На «Скорую помощь» долго не звонили. Примерно в час ночи раздался звонок. Фельдшерица сразу же ответила: посоветовала нюхать нашатырный спирт. Видно, кто-то угорел и спрашивал совета.
Гринину читалось плохо. Услышит на улице шаги запоздалого прохожего и ждет, прислушивается, не на скорую ли помощь идет человек. Не дождавшись, выходит на крыльцо. Тишина. Ни души. По звездному небу ползет, словно жук, самолет. Его не видно, лишь светятся бортовые огоньки. Гринин провожает жучков-светлячков взглядом, докуривает папиросу, затаптывает окурок ногой и возвращается в поликлинику.
Снова берется за монографию. Но чувствую: не лежит у него душа к этой книге. Не знаю, может быть, написана тяжелым языком, а может быть, просто еще не дорос парень, и она ему неинтересна.
Василий Петрович выглянул из кабинета.
– Вы бы поспали немного. Завтра рабочий день, отдыхать не придется… В физиокабинет зайдите. Кушеток там полно.
– Спасибо, Василий Петрович, – сказал я.
Мы начали дремать на скамье, как иногда дремлют больные в ожидании приема врача. Не знаю, сколько прошло времени. Из оцепенения меня вывел топот. Гринин вдруг вскочил и побежал к выходу, остановился, левое ухо повернул к раскрытой двери.
– Ты что? – спрашиваю.
– Никуда не уезжал?
– Мальчик, очнись!
– Значит, приснилось. Вот как наяву видел, что эта самая Татьяна приняла срочный вызов. Автобус перевернулся, масса жертв. Ты говоришь: «Пусть этот ребенок поспит». И уходишь.
– Да с чего же я пойду без тебя?
– Ну, знаешь, у всякого свои планы!
Второй раз меня разбудил голос Василия Петровича:
– А зря не пошли в физиокабинет. – Он смотрел на храпевшего Гринина. Увидев, что я открыл глаза, сказал: – Вот ведь как умеет безмятежно спать, а у меня уже не выходит. А у тебя?
– Тоже разучился.
Едва Коршунов скрылся за дверью хирургического кабинета, как зазвенел телефон. Фельдшерица, громко стуча каблуками, пробежала через пустой зал ожидания, забарабанила в дверь. Через минуту она вышла вместе с Василием Петровичем.
– Быстро собирайтесь, – сказал он нам.
Фельдшерица прошла к телефону, а мы выбежали из поликлиники. В руке Василия Петровича – чемоданчик. В нем шприцы, йод, бинты, кордиамин, камфара, валидол. Он сел в кабину справа от шофера, мы – в кузов «коробочки».
Я поднял брезентовую занавеску, прикрывавшую оконце. Ни огонька в домах, ни души на улицах. Шофер гнал машину вовсю.
Улица внезапно оборвалась. Мы въехали в лес. Еще минута – и машина резко остановилась. Нас бросило на стенку кабины. Дьявол, а не шофер. Ему бы камни возить.
– Сюда! Сюда идите!
Комната освещена лампой дневного света. Женщина указывает рукой на кровать. Тень от руки прыгает по стене.
Полный мужчина с красным лицом смотрит на нас. Губы у него с фиолетовым оттенком. Он часто и тяжело дышит. Василий Петрович проверяет пульс, выслушивает фонендоскопом грудь. Потом делает нам знак: «Приступайте».
– Минутку, Николай, – Гринин вежливо оттесняет меня от кровати, занимает ключевую позицию. Спрашивает больного, ощупывает живот.
– Диагноз абсолютно ясен, – говорит он, едва повернув голову ко мне, – острый аппендицит. Необходима экстренная операция. Где можно вымыть руки?
Жена больного с отчаянием смотрит на Василия Петровича.
– Сделайте инъекцию камфары. – Коршунов протягивает Гринину коричневый чемоданчик.
Гринин хочет что-то сказать, но берет чемоданчик, сжимает губы в прямую линию, протирает руки спиртом и молча делает инъекцию.
– Осмотрите. – Василий Петрович кивает мне.
Через семь минут мы уже сидели в хирургическом кабинете поликлиники.
– Все-таки я не согласен, – сказал Гринин. – У больного явный аппендицит!
– Вы тоже нашли аппендицит? – спросил у меня Василий Петрович.
– Упадок сердечной деятельности, – сказал я.
– Сердечный приступ? – Гринин встал с кушетки. – Ну, знаешь, это… это…
Василий Петрович, улыбаясь, глядел на Гринина и вдруг сказал так, будто был старше его не на пять, а на целых двадцать пять лет:
– Юрочка, не дурите!
– Нет, нет!.. Остаюсь при собственном мнении. Конечно, терапевтом я быть не собираюсь, но… – Гринин вытащил портсигар, открыл, сосчитал папиросы, закрыл. Он держал портсигар перед собой и изучал его блестящую поверхность. Интересно, это золото или анодированный металл?
За окном по чистому небу разливалась бледно-розовая заря. Пропело сразу несколько петухов.
Перед уходом из поликлиники Юрий сказал:
– Василий Петрович, ну что это за дежурство? Совсем неинтересно!
– Вам хотелось, чтобы кто-нибудь попал под электровоз?
– Что вы! Вы не так меня поняли.
Когда мы выходили из поликлиники, возле регистратуры уже стояли люди. Они хотели попасть первыми на прием. В кабине санитарной машины сидел наготове шофер и читал учебник физики для восьмого класса. Это уже был не тот шофер, который дежурил с нами ночью. Этот был аккуратно причесан на пробор и носил галстук.
Улицы города оживились. Народ спешил на работу. Проехал фургон с хлебом. Его тащила похожая на слона лошадь. Пробудившись, закричал электровоз. Протяжным гудком отозвалась фабрика.
– Как дежурство, Юра? – спросил Каша, пофыркивая над умывальником.
– Знал бы, не навязывался Николаю. Считай, ночь потеряна. Ни пользы, ни удовольствия.
В этот день я дежурил по больнице, и мне очень не повезло.
Только сел я ужинать, вбегает санитарка Маша из терапевтического отделения, та самая, у которой тридцать три ухажера и которая никак не может выбрать из них достойного жениха.
– Вас Вадим Павлович. Скорее!
Оставив на столе ужин, я бросился за нею.
Вадим Павлович сидел возле больного в седьмой палате. Больной задыхался от удушья. Вадим Павлович собственноручно держал подушку с кислородом. Кивком головы он подозвал меня к себе.
– «Скорая» привезла какого-то пьянчужку, – тихо сказал он. – Я занят. Астматик. Не могу отлучиться. Взгляните, пожалуйста, на привезенного. Если он ничего, пусть везут домой. А если плох, оставьте в больнице.
Машина стояла во дворе, напротив главного входа. Задние двери открыты, на носилках гладко выбритый седенький старичок лет под семьдесят. Возле него фельдшерица в белом халате. Но не та, с которой мы дежурили в последний раз.
– А, доктор! Вот посмотрите, пожалуйста, – обратилась она ко мне. – Пенсионер Новиков. Алкогольное опьянение, а возможно и…
Я не стал выяснять, что думает она в отношении диагноза. Но ее фраза, оборвавшаяся на «и», не осталась незамеченной. Я особенно тщательно осмотрел старика. Измерил пульс, кровяное давление, выслушал сердце и легкие – все как будто бы нормально. Только вот ничего не отвечает, спит. И пахнет водкой.
– Везите домой, – сказал я. – Проспится, и все войдет в норму.
– Значит, не оставите? – спросила фельдшерица.
Мне запомнились ее умные глаза. Может быть, спросить? Но я сказал:
– Нет. Везите домой.
– Тогда вот тут распишитесь. – Она подала бланк.
Я расписался и со спокойной душой направился к Вадиму Павловичу.
Я доложил ему, и он сказал:
– Молодец. Хвалю за оперативность. Вы знаете, не терплю пьяных. И почему не повысят цену на водку раз в пять?
Всю ночь мы проканителились возле больного с бронхиальной астмой. Астматическое состояние удалось снять. Больной начал свободно дышать. Зато сами мы очень устали, глаз не сомкнули. Отоспимся после работы!
Утром мы с Вадимом Павловичем сдали дежурство и разошлись по своим местам.
Я был в своей палате, на обходе, когда прибежал служитель морга, вызвал меня в коридор.
– Вадим Павлович просит вас немедленно зайти.
Прихожу и чувствую, что колени мои задрожали.
На столе для вскрытий лежал гладко выбритый старичок Новиков, которого я вчера смотрел в карете «Скорой помощи».
– В чем дело? – спрашиваю.
Вадим Павлович подводит меня к столу. С минуту смотрю на старичка, потом перевожу взгляд на Вадима Павловича.
– Как же так?
Он пожимает плечами, говорит:
– Что бы ни оказалось на вскрытии, по головке нас не погладят. Минус поставят за поведение. Надо было его, конечно, положить в больницу.
– Но ведь… – начал я.
– Знаю. Никаких объяснений, ученый муж, – перебил Вадим Павлович. – Давайте раньше вскроем.
Через сорок минут причина смерти была ясна: кровоизлияние в мозг.
– Что же теперь? – спросил я.
– Похоронят, и все, – сказал Вадим Павлович. – Ему шестьдесят девять лет. Выпил, сосудик в головном мозгу лопнул – вот вам и кровоизлияние, моментальная смерть. Если бы и в больницу положили, все равно бы умер. От кровоизлияния никуда не уйдешь, когда в шестьдесят девять лет ты напился до потери сознания. Он не отвечал на вопросы?
– Конечно, нет! – ответил я.
– Ну, так чего же?.. Одно плохо – что я сам не посмотрел вслед за вами. Но вы не думайте ничего плохого, товарищ, – сказал Вадим Павлович. – Вашим показаниям я верю как своим собственным.
Я возвратился в отделение в подавленном настроении.
Скоро вся больница узнала о смерти Новикова. И рядом с фамилией умершего упоминался Вадим Павлович и «студент в кителе».
Тяжелое пятно легло на душу.
Случай смерти старика Новикова разбирался на врачебной конференции. Нас, студентов, тоже пригласили. Все шишки, правда, свалились на голову Вадима Павловича. И, как он ни защищался, ему все равно строго указали, что он и сам должен был осмотреть старика, а не передоверять практиканту. Правильно, он, может быть, все равно умер бы, и все-таки дежурный врач обязан был найти несколько минут для осмотра больного. Практикант мог эти несколько минут посидеть у постели астматика.
По моему адресу не было сказано ни слова упрека, наоборот, Чуднов даже похвалил меня за то, что я измерил Новикову кровяное давление в машине, выслушал его сердце и легкие и записал все это в амбулаторной карте. «К вам, Николай Иванович, претензий нет никаких. Сделать больше того, что вы сделали, вы не могли», – сказал Чуднов.
Но разве это меня успокоило? Остаток дня и почти вся ночь прошли в тяжелых размышлениях, от которых я всегда устаю больше, чем от любой другой работы. Я лежал на кровати, не раздеваясь, и слушал через открытое окно ночной город. Он дышал ровно, медленно. И мысли тянулись медленно. «Бездарность. Отправить умирающего отсыпаться…» Невдалеке прогромыхивали поезда, и я по движению звуков определял, идут ли они в Москву или из Москвы. Захотелось уехать. «Устал, Захаров?» – «Нет, не устал. А просто понял: Золотов прав, тысячу раз прав, воробьи мы, и больше ничего».
Самолеты почти беспрерывно бороздили воздух. Казалось, это тракторы сеют рожь. Глухой ровный рокочущий шум. Воробьи… воробьи… Я проснулся от холода и закрыл окно. Было уже утро. Синицы, предвещая еще больший холод, запорхали в кустах перед окнами. Одна постучала клювом в стекло, но, заметив меня, улетела. По двору школы прошли в замасленных спецовках двое рабочих. Каша и Гринин спали. Пусть спят, пока спится. Кто знает, сколько бессонных ночей у них впереди.
Коршунов, видимо, по-настоящему поверил в Гринина. Иначе бы не оставил его старшим в поликлинике. Самого Коршунова срочно вызвали в отделение.
– Юрий Семенович, оставляю вас за себя, – сказал он, уходя. – Вместе с Николаем Ивановичем принимайте больных. Не срывать же нам прием в поликлинике? То, что не сумеете сами, оставьте. Я приду – доделаем общими силами.
– Можете быть спокойны, Василий Петрович! – Гринин сел в кресло Коршунова, простое жесткое кресло, которое часто можно встретить в больницах и поликлиниках. Сел и руки положил на стол. Рукава халата закатаны до локтей. Так он сидел минуты три. Потом, наверно, понял, что поза Коршунова ему не очень-то подходит, вышел из-за стола и принялся за дело.
– Постарайся быстрей принимать, Николай, – сказал он мне на правах старшего.
– Не помню, Юра, чтобы Василий Петрович когда-нибудь нас подгонял.
– Но все же, Николай! Василий Петрович будет доволен, если к его приходу не останется ни одного больного. – Гринин петухом посмотрел на меня.
– Что ты говоришь? – сказал я. – Принимать людей – не дрова рубить. Сам не буду и тебе не советую.
– Ты обижаешься? – Гринин подошел ко мне и взглянул на рану на ноге больного, которую я обрабатывал. – Надо бы побольше срезать ткань, – посоветовал он мне.
– Брось играть в начальники, Юра, – сказал я шепотом. – Яйца курицу не учат.
– Это ты меня яйцом считаешь? – Он выпрямился. – Ну, знаешь… У меня, если хочешь знать, еще никто не умирал! – И он отошел к своему столику, повернулся ко мне спиной.
Больные, сестра Зина и санитарка смотрели на меня с недоумением.
– Новиков умер от кровоизлияния в мозг, – сказал я для всех, – и никто из врачей не виновен в его смерти, в том числе и я.
– О! Ты еще не врач, Николай! И будешь ли врачом – неизвестно. Оседлать науку – это тебе не колхозную кобылку оседлать. Запомни! – Гринин наклонился над рукой больного и что-то рассматривал.
– Советую, Юрка, думать, перед тем как говорить.
Гринин повернул ко мне лицо: гладкая розовая кожа щек, белый без единой морщинки лоб, холеная щеточка усов на узкой верхней губе. Свежесть и молодость. Как говорится, кровь с молоком. Он глядел на меня своими черными красивыми глазами. «Какой странный взгляд! – подумал я. – Так смотрит собака, которая хочет укусить. Не дворняга, нет, а хорошо воспитанный комнатный пес, понимающий, что кусаться допустимо дворняжкам, а не ему. Но укусить хочется, нужно, – вот когда у собаки бывает такой взгляд».
И он-таки укусил.
– Хватит, студент в кителе! Считаю замечания неуместными, – сказал он.
Он сказал это спокойно, холодным золотовским тоном, но не удержался и пустился в объяснения:
– Я знаю, ты обижаешься, что не тебя оставили старшим, хотя ты бывший солдат и тебе скоро тридцать лет. Но ты у Василия Петровича спроси, почему он так решил. Я не напрашивался в старшие.
Мне стало жалко его, этого парня, в сущности ведь неплохого. Родись он пораньше да попади в наш огневой взвод, мы, наверно, сделали бы из него человека.
Я вспомнил дежурство на «Скорой помощи», когда Юра испугался, что я уехал без него на вызов. Неужели он видит во мне конкурента? Вот дурень!
– Работаете? – раздался в дверях голос Чуднова. – Сейчас придет Вадим Павлович. Он вам поможет. Хочу приобщить его к хирургии. До зарезу нужен еще один хирург.
Он вышел, а вскоре морговский врач уже был в нашем кабинете и снимал пиджак. Он надел халат Коршунова и, посмотрев на себя, улыбнулся. Халат был широковат.
– Как идут дела? – обратился ко всем сразу.
– Потихоньку, – ответил я.
Вадим Павлович листал амбулаторные карты, читал записи врачей. Мы с Юрой продолжали прием, как будто ничего не произошло. В сущности, ничего и не произошло. Ну, повздорили два воробья…
– На что жалуетесь? – спросил я больного.
Он жаловался на боли в стопе. Дома он нечаянно наступил на торчавшую иголку.
Мы сходили в рентгеновский кабинет. Игла была хорошо заметна. Она состояла из двух кусочков. Я пометил карандашом то место, где она находилась.
– Придется сделать небольшой разрез, – сказал я. – Сделаю без боли. Согласны?
– Конечно. Я же ходить не могу.
– Зина, дайте, пожалуйста, новокаин, – сказал я сестре.
А Вадим Павлович по-прежнему с благодушным видом листал амбулаторные карты. Скучно ему, что ли, среди живых? Хоть бы Юрию помог, видит же, что у мальчика что-то не ладится. Я уже отпустил четвертого больного, а Гринин все еще возился с первым.
– Вадим Павлович!
Он поставил палец на строчку и настороженно поднял на меня глаза:
– Да? Все в порядке, коллега?
– Полная норма, – ответил я и подошел к Юрию. – Можно тебя на минутку?
Гринин спешил что-то закончить. Он повернулся с неожиданной готовностью.
– Меня торопил, а сам, интересный юноша?
Он принял шутку:
– Видишь ли, бывший военный, тут не так просто… – Краски сошли с его лица, посерьезневшего и растерянного, хотя Юра старался, чтобы растерянность была не видна.
Юноша лет двадцати трех сидел на кушетке с вытянутой рукой. На кисти лежали пропитавшиеся кровью салфетки. Пинцет в руке Гринина дрожал. Напорол парень.
– Можно посмотреть? – спросил я.
– Собственно, смотреть тут нечего, – сказал Гринин. – Но если уж так хочешь – пожалуйста! – Он несмело ухватил пинцетом салфетку, но поднять не успел: вошел Коршунов.
– Как тут они без меня? – спросил Коршунов у Вадима Павловича.
– И спрашивать нечего! Сплошная эрудиция! Гиппократы! Ну, я пошел. – Вадим Павлович моментально снял халат, надел пиджак и удалился.
– Василий Петрович, – неестественно громко сказал Гринин, – я хотел с вами посоветоваться.
Коршунов склонился над пораненной рукой.
– Что произошло? – спросил он у больного.
– Пилой шарахнуло.
– Подвигайте пальцами.
Больной сделал усилие, весь напрягся, а пальцы не двигались.
– Понимаете почему? – спросил у нас Коршунов.
– Конечно! – воскликнул Гринин и отвернулся от меня.
– Откуда прибыли? – спросил Коршунов. – Кто оперировал?
– Ларионов Александр Спиридоныч, – ответил больной.
– Где направление?
– Я без направления. Уговорил регистраторшу записать. Пальцы-то мертвые. Хоть бы левая, а то ведь правая рука, товарищи.
– Одну минутку, больной. – Коршунов отвел нас к стеклянному шкафчику с инструментами и сказал: – Ларионов не сшил сухожилия. Понимаете? Пила разорвала сухожилия, а этот сапожник зашил только кожу… Юрий Семенович, что вы успели сделать?
– Разрезал швы на коже и хотел сшивать сухожилия, – ответил Гринин.
– Приступайте!
Пока Гринин работал, Коршунов ни на секунду не отошел от него. Минут через двадцать я подошел к ним.
Окровавленная, но не очень ладонь. Аккуратно сшитые лоскутки кожи.
Чисто сработано, Юрка, ничего не скажешь!
– Прекрасно, Юрий Семенович! – сказал Коршунов, глядя, как больной пошевелил пальцами. – Прекрасно. Рука будет жить.
Мы продолжали прием. Дело шло к концу. Но в половине шестого в коридоре послышался топот ног, шум.
– Узнайте, пожалуйста, что там такое, – попросил Коршунов Зину.
Она вышла и минуты через две возвратилась в кабинет.
– С фабрики человек двадцать. А запись окончена. Они шумят. «К самому, – говорят, – Чуднову пойдем, если не примете». Давайте примем. Им только на осмотр. Это ведь быстро.
– Скажите регистратуре, чтобы записали. И предупредите, чтобы в коридоре была полная тишина.
Зина навела порядок, и мы начали принимать работниц фабрики. Это было какое-то наваждение, не иначе. Одна жаловалась, что у нее болит горло, другая – что болит живот, третья – что в груди нащупала яблоко, четвертая – что в ухе стреляет, и все пришли с готовым диагнозом – рак.
Я осматривал каждую женщину очень внимательно и не находил никакого рака. Женщины не верили и обращались к Коршунову. Он смотрел. И тоже не находил никаких болезней.
Мы сидели до восьми вечера, приняли не двадцать, а дополнительно пятьдесят человек. И лишь у предпоследнего нашего пациента, бухгалтера фабрики, Гринин обнаружил в животе уплотнение величиной с кулак. Коршунов тоже его осмотрел и посоветовал бухгалтеру сходить в рентгеновский кабинет и в лабораторию для исследования желудочного сока. Предполагался рак желудка.
– Вначале в лабораторию сходите, – сказал ему Василий Петрович и обратился к нам: – Из-за чего этот переполох? Ничего подобного прежде не бывало!
Выручила молодая работница со смешливо вздернутым носиком. На вид ей было не больше семнадцати. Она уже разделась до пояса и стояла, поправляя прическу и посмеиваясь. Еще издали я заметил у нее на губе небольшую темную корочку.
– Что это у тебя на губе? Тоже небось рак? – спросил я.
– Нет! Муж крепко поцеловал.
– Похоже, – согласился я. – А не скажешь ли, почему это вы полетели все в поликлинику?
– Врач попутал. Пришел из больницы с лекцией. Незнакомый, чудной. Напугал до смерти. Всю ночь многие не спали. После смены побежали сюда.
– Незнакомый врач? – спросил Коршунов. – Странно!
– Маленький такой, низенький, широкий в плечах. Волосы как перекисью водорода вымыты, нос горбатый. От каждого вопроса краснеет – умора!
– Так это же Пшенкин! – воскликнул пренебрежительно Гринин.
– Кто? – переспросил Василий Петрович.
– Наш Игорь, – сказал я. – Игорь Александрович Каша.
– Вот-вот! Сестра перед лекцией вроде бы Гречкой его назвала, – сказала работница. – Сколько к вам завтра народу прибежит! Пропасть! Спасибо, что ничего не нашли. До свидания, доктора!
Она вышла, и Коршунов рассмеялся от души.
– Вот вам и сила слова… Придется нам туда выйти, в здравпункт, там и осмотрим людей. С Чудновым согласую… – Он стал вдруг серьезным. – А у этого старичка бухгалтера, думаю, рак. Все-таки рак. И, значит, лекция вашего товарища, несмотря на некоторые недочеты, принесла пользу. Вы тоже готовьтесь к лекциям, друзья! Обскакал нас, хирургов, Чуднов!
Рабочий день окончился. Мы зашли за Игорем в терапевтический кабинет.
– Игорек, ты переполошил всю фабрику своей лекцией, – сказал я.
– Заставь медведя богу молиться… – процедил Гринин.