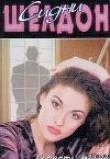Текст книги "Человек должен жить"
Автор книги: Владимир Лучосин
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
– У нас на приеме было пятьдесят твоих слушателей! – сказал я.
– Пригнал к нам стадо баранов! – сказал Гринин.
– Ничего не понимаю! – Каша смущенно оглядывал нас, залившись румянцем. Он начал снимать халат, когда мы вошли, не успел его снять и стоял, опустив руки, с халатом, повисшим на бедрах, как юбка.
– Ну и вид у тебя, Пшенкин! – Юрий вытащил блестящий портсигар. – Представляю, каков ты был на сцене. Вперед не трепись, не зная дела. Лектор должен учитывать психологию масс. Масса подобна стаду.
– Какое стадо? Какая сцена? Николай, о чем он говорит?
– Пойдем, Игорек, я тебе все объясню, – сказал я, стаскивая с его рук обвисший халат. – Самое главное – ты помог человеку. Он слушал твою лекцию и пришел к нам. Теперь его будут лечить. А все остальное, что наговорил Юрка, бред. Юрка – бредовый парень.
– Как ты сказал? – Гринин подскочил ко мне, и его бледные пальцы сжались в смешные кулачки.
– Хочу посмотреть на твоих дружков.
– Могу устроить! Только вернемся в Москву!.. Постой-постой, а зачем?
– Интересуюсь… друзьями друга.
– «Друг»! Я чихал на тебя! Понял?
Ну вот, диагноз определился. Остается вылечить. Если б это было так же легко, как в книгах.
Диагноз поставлен, а кто подскажет рецепты? Что привело Юрку к такой болезни? Ничего не знаю. Игорь не прибавил ни штриха. А вылечить, в сущности, можно каждого. Главное, докопаться до истоков. Главное, не быть нейтральным. Чтоб человек и хотел порой закрыть глаза, а у него не получалось бы. Ничего не знаю об истории болезни. А сентябрь так далек.
У бухгалтера фабрики действительно оказался рак желудка. Василий Петрович сказал об этом жене больного, а самому бухгалтеру, улыбаясь и шутя, сообщил, что у него лишь безобидная язвочка, которую вообще-то лучше бы удалить. Болит, не болит, а удалить полезно. Бухгалтер не возражал.
Юра потерял покой. Он умолял Коршунова разрешить ему сделать операцию. Он ходил за ним по пятам. Василий Петрович спросил, делал ли он раньше такие крупные операции. Гринин сказал, что не делал. И добавил: «Но ведь надо же когда-то начинать!»
Василий Петрович сказал:
– Операция весьма сложная, Юрий Семенович. Сможете ли? Ну? Положа руку на сердце? Сможете?
– Кажется, вы правы, Василий Петрович. – Гринин стоял перед ним несколько смущенный. Но всем своим видом он как бы говорил: «Все равно я свое возьму». Право, он выглядел молодцом в этот момент.
Десять минут спустя, проходя по коридору, я видел сквозь стеклянную дверь, как Юра, картинно отставив ногу, стоял возле тети Дуси, курил папиросу и рисовал в воздухе какие-то фигуры. И говорил, говорил, говорил… Об операциях. Гардеробщица слушала и тоже говорила. И, ясное дело, восхищалась.
Опять мне стало жалко этого парня. Способный, а растрачивается по пустякам. Человек, конечно, должен иметь пробивную силу. Должен уметь прокладывать дорогу своей мечте. Все дело в том, куда ты идешь.
Я лежал на своей кровати, крайней у двери, и смотрел на Кашу и Гринина, игравших в шахматы. В чемодане у Игоря нашелся ключ, который подошел к учительской. Там он раздобыл шахматы, и по вечерам ребята азартно сражались. Гринину не везло. Он начинал партии блестяще, но где-нибудь в середине давал маху, а Каша тотчас засекал его промах, добивался перелома, затем и победы. Страдальческими глазами смотрел Гринин на Кашу, когда тот объявлял ему мат. А Каша, выиграв, визжал от радости, и тем громче, чем меньше это нравилось Гринину.
Я лежал на кровати и с удовольствием смотрел на них.
Десять лет назад я уже оканчивал среднюю школу, а Каша, Гринин, их ровесники и ровесницы ходили в детский сад. Теперь у мальчишек усы, а девушки – невесты. Да, детский сад стал взрослым. И нередко они затыкают нас, стариков, за пояс. Ничего не поделаешь. Жизнь идет вперед, и каждое новое поколение становится чем-то выше своих предшественников.
Мы встретились на первом курсе института. Встретились как равные. И постепенно привыкли друг к другу. Они хотели быть чуточку старше, а мы чуточку помоложе. В общем в институте у нас выходило неплохо. А здесь, на практике, я опять почувствовал разницу в возрасте.
Приходят и уходят поколения, исполнив свое дело на земле, а сама планета только молодеет. В пустыни побежала вода, новые города поднялись над тайгой, на целине заколосилась пшеница. Сделать осталось немало. Нам делать. И я хочу знать свою шеренгу и свой взвод.
Игра у ребят была в разгаре. Лежать было хорошо. Приятно бывает полежать и примерить, что к чему. Судя по тишине, преимущество пока было на стороне Гринина. Каша навис над шахматным полем боя, прикусив язык. Лицо выражало хитрость и ожидание. Ему очень хотелось, чтобы Юрий сделал глупость. Но Гринин не торопился, он точно рассчитывал комбинацию.

Хватит, Юрка, рассчитывать! Ставь смелее коня на «эф-четыре» и ответь честно, сумеешь ли ты на другом поле, на поле жизни сделать единственно верный ход? Игорек – тот сумеет, уверен. А ты?.. Что случилось с тобой в ту ночь? С такими способностями и вдруг бросить умирающего ребенка. Ты бросил бы, если б был один. Доказательств у меня не было. Но бывает ведь, когда чувство знает больше рассудка.
…Сейчас Игорь поднимет визг, потому что Гринин взялся не за коня, а за ладью. Ошибка, Юрий! Ты что-то делаешь много ошибок за последнее время, и все из-за того, что не понимаешь простой истины: один за всех, все за одного. Хорошее правило, парень! Отцов учила революция, старших братьев – пятилетки и фронт, а мое поколение училось жизни на заводах, колхозных полях и в армии.
Юрий взглянул на меня и будто понял мою мысль. Иногда мысль человека, ну, просто написана на его лице. Он поставил ладью обратно и двинул коня на «эф-четыре», откинулся на спинку стула и снисходительно посматривал на Кашу. А тот, помрачнев, недовольно выпятив нижнюю губу, уставился на шахматную доску. Не вышло? Думай, поросенок, думай. Дурака обставить нетрудно, умного сумей победить. А у твоего противника есть голова на плечах. Только забита трухой. Много всякой трухи у него в извилинах. Однажды он попрекнул меня кителем. «Для тебя, – говорит, – китель офицера – это вид на жительство в первых рядах». Не так, не так сказано. Не вид на жительство, а путевка в жизнь. И дала путевку армия, научив правильно служить людям, открыв мне самую гуманную профессию на земле.
Тогда, в горкоме, Алена Александровна сказала, что ее поколению армия дала путевку в большую жизнь. А я в годы войны был всего-навсего школьником и не мог пройти той дорогой испытаний, которой прошла она. Но армия и меня научила многому, и прежде всего упорству. Демобилизовавшись, я решил испытать себя.
Окончив первый курс, я приехал домой, в свое родное село. Обнял мать. Покурил с отцом на крылечке. На другой день пошел в районную больницу, как советовал майор Шарин. Вытягиваюсь перед главным врачом и говорю: «Разрешите обратиться! Павел Юрьевич, возьмите медбратом». – «Без диплома? Нельзя! Вот санитаром возьму – пожалуйста. Пойдешь?» Вижу, прячет улыбку в седые усы, уверен, что не пойду. Да почему же не пойти? «Конечно, пойду». – «В какое хочешь отделение?» – «Только в хирургическое!» – «Понятно. – Павел Юрьевич меряет меня взглядом, улыбается. – Что ж, можно и в хирургическое, там как раз Маня в отпуск просится, а замены нет. Выходи завтра же на работу». – «Слушаюсь!»
Все лето я был в санитарах, мыл полы в своей палате, часть коридора, ну, и мужская уборная мне досталась. Таскал утки, прибирал в тумбочках. Бывало, мужики поддевали: «Баба, а не человек. Может, парень, ты и родить умеешь?»
Уберу свою территорию – и в операционную. Часами стоял и смотрел за работой хирурга, под осень осмелился и попросился ассистировать, но Павел Юрьевич сказал: «Рано, молодой человек, рано еще». А на следующее лето я работал в регистратуре, в больничной аптеке, подменяя уходящих в отпуск людей и пропадая все свободное время в хирургическом кабинете. Так я брал «быка за рога», как любит выражаться Юрий. А ему сразу хочется стать хирургическим богом. Вот где неточность!
Мечтаю о том времени, когда все врачи будут начинать снизу, с простой и грубой работы, с лошадиной работы, а тогда уже – в институт. Поработай, и если почувствуешь, что не можешь жить без больницы, – тогда в институт.
– Ты совсем замечтался, Николай, – услышал я голос Игоря. Он стоял около кровати с кепкой в руке. – Может, прогуляемся? – Он был расстроен.
– Продулся-таки? – спросил я.
– Проиграл… Юрка все же догадался сходить конем, а я думал – зевнет. Ну, так пойдешь?
– Нет. Что-то не хочется. А ты иди с Юрием. Иди!
Из окна я посмотрел на улицу. Они шли рядом, а на углу повернули в разные стороны. Игорь свернул направо, Юрий – налево. Как это поется в песне: «Если один говорил „да“, то „нет“ говорил другой…»
Немного времени прошло с тех пор, как мы сблизились, а я к ним здорово привязался. Игорька полюбил, а Гринин для меня раздражающе любопытен. Так же, как Золотов. Вот ведь характер! Нина объясняет просто: «Борис Наумович цену себе набивает». А мне он напоминает тех коллекционеров, которые накупят редкие дорогие картины и запрут в своей квартире. Запрут, развесят по стенкам и любуются. Трудно сказать, что их больше радует, тщеславие или понимание красоты.
Не могу удержаться, чтобы не сравнить Золотова с Василием Константиновичем. Какой человек! У него был дар, которого лишен Борис Наумович: дар отдавать себя людям. Может быть, это шло у него от педагогического опыта, но ведь не всякий ассистент кафедры общей хирургии умел делать это так щедро. Только бери! И я брал. На третьем курсе студенты, бывало, после занятий уходили домой, а я оставался, помогал ему оперировать. Он даже книги из дома для меня приносил: «Эту, Коля, прогляди, а эту проштудируй!» И вот он-то, Василий Константинович, и благословил меня в клинике на первую самостоятельную операцию. За год я прооперировал под его руководством двадцать пять человек. И какое же было у меня торжество, когда на следующее лето я оперировал в своем родном селе, в нашей больнице! Павел Юрьевич был доволен: «Выходишь в люди, санитар!»
Привезли «прободную язву». Я ассистировал Павлу Юрьевичу, а через два дня оперировал такого же больного уже сам. Не было у них лишнего хирурга, просили из области, а оттуда все не присылали.
Образы трех людей храню я в сердце с особым чувством: майора Шарина, ассистента Василия Константиновича и главврача районной больницы Павла Юрьевича. Где бы ни был – в Москве или в этом, ставшем мне родным городке, они всегда со мной. И захотелось пойти к Золотову и сказать: «Вот есть же люди! Какие учителя – врачи!..»
События следующего дня показали, что нелегкую болезнь Золотова и лечить нелегко. Закончив вечерний обход в своей палате, я вышел в коридор. Навстречу двигался Чуднов, за ним крайне взволнованный Золотов. Он торопливо бросал вопросы:
– Михаил Илларионович, что случилось? Зачем меня вызывают в горком?
– Не знаю, батенька, чего не знаю, того не знаю. Когда вызывают-то?
– Погребнюк звонила. Просила зайти через десять минут.
– Поезжайте, если просила.
– В чем же я провинился?
– Чудак человек! Разве в горком только виноватых зовут?
– Ваша очередная каверза. – И Золотов заспешил к выходу.
Похмыкивая, Чуднов начал читать мои дневники в историях болезней.
– Торопиться начинаете, Николай Иванович. Принципиальных замечаний у меня нет, но скажу прямо – мой Игорь красивее ведет истории.
Вернулся Золотов. Озабочен. И, кажется, растерян. Должно быть, здорово намылили шею.
– Что, батенька, там стряслось? – спросил Чуднов.
Золотов сел у открытого окна.
– Товарищ Погребнюк предложила делать доклад.
– Какой доклад? Где?
Золотов взял мою папку и, как веером, махал перед своим лицом.
– В понедельник горком созывает конференцию молодых специалистов, ставят два доклада. Один делает главный инженер стройуправления, второй поручают мне. О росте молодых кадров.
– В понедельник? – с беспокойством протянул Чуднов. – Всего неделя осталась… – И осторожно спросил: – А нас не ругали?
Золотов сидел, отвернувшись к окну. Не поворачиваясь, сказал:
– Я не могу делать этот доклад.
– Я спрашиваю, были упреки в адрес нашей больницы?
– Об этом не было речи, но… – Золотов быстро встал и подошел к столу, за которым сидел Чуднов. – Я не буду делать этот доклад.
– Мы от многого с вами можем отказываться, Борис Наумович, но только не от партийного поручения. И, собственно, почему не будете? Разве вам нечего сказать? Возьмите того же Гринина! Студент-практикант блестяще сделал две операции. Одним этим фактом вы потрясете зал. Конечно, есть недостатки, обдумайте, покритикуйте…
Чертовски сложная штука жизнь! Вот мы, воробьи, приехали в небольшую больницу, в этот небольшой городок, и как властно подхватил нас ее стремительный поток. В сущности, что такое практика? Конечно, не только приобретение профессиональных навыков. Сейчас я это ясно вижу. Через два года нам на работу, и я не хочу оказаться столь профессионально беспомощным, как Бочков. Но также не хочу очутиться на положении Коршунова – робким и беспомощным в общественном отношении. Николаев сказал: «Будьте прилежны…» Иначе говоря, стойте на берегу, и поток пронесется мимо. Нет! Будьте активны – и жизнь тотчас начнет вас учить.
С жадностью я наблюдал за обоими старыми врачами. Тут тоже ведь шла борьба. Борьба за человека. Интересно, знал Чуднов о конференции или нет? Наверно, знал! Наверно, он сейчас в глубине души приговаривает: «Погляжу, Борис Наумович, что ты скажешь людям». У Золотова внутри буря: «На позор хотите выставить?» Он искал и не находил достойных аргументов.
– Михаил Илларионович, я компетентен говорить лишь о хирургическом отделении. Правильнее этот доклад сделать главному врачу.
– Не могу, дорогой, что вы в самом деле! Мне работы хватит. Надо посоветоваться с молодыми специалистами, кое-кому помочь. Выступать-то будем оркестром… Одному вам не отстоять честь больницы.
Звонок. Чуднов взял трубку.
– Да… Борис Наумович сообщил о вашем решении… конечно, помогу…
Не ожидая конца разговора, Золотов махнул рукой и, устало сгорбившись, направился к двери.
– Занятно повернула дело Алена Александровна, – сказал Чуднов, когда мы остались вдвоем. – Вы думаете, он сегодня заснет? Всю ночь будет делать доклад перед своей совестью.
На следующий день в кабинете Чуднова собрались молодые врачи. Михаил Илларионович рассказал о предстоящей конференции и попросил каждого серьезно подготовиться. «Думаю, наши студенты тоже не останутся в стороне», – заметил он в конце.
Игорь поднял руку.
– Пожалуйста, Игорь Александрович.
– Я читал в газетах… мы тут собрались, молодежь… давайте сделаем вместе что-нибудь хорошее для больницы. Ну, чем мы хуже фабричных ребят?
– А что можно сделать, Игорь?
– Например, радиофицировать палаты!
– Правильно! – воскликнула Надежда Романовна.
Я тоже поддержал идею Игоря. Очень хорошо, Игорь. А я думал, ты не умеешь выступать.
Гринин вызвался съездить в Москву за всем необходимым. Он вернулся через два дня и действительно притащил и провод, и наушники, и даже набор инструментов, необходимых радиомонтеру. И карманный приемник – для себя.
По вечерам мы теперь не спешили кто куда, а занимались проводкой. Работали до отбоя, а позже, в школе, заполняли дневники и готовились к следующему дню.
Завершив работу на первом этаже, принялись за второй. Шли от палаты к палате, от койки к койке, укрепляя провод. Однажды Игорь исчез, и я решил отругать его, потому что времени у нас было в обрез. Многоголосый шум притянул меня к окну. Я увидел группу парней, несших пилы, топоры и рубанки. С ними шел Игорек.
– Принимайте пополнение, – сказал он вышедшему навстречу Чуднову.
Тот развел руками, и ребята, окружив его, пошли в столярную мастерскую, размещавшуюся в каменном здании за моргом. Игорек в этой группе выглядел фабзаучником.

Птенец! Он обставил всех нас. После своей лекции о раке он часто бывал на фабрике, знакомился с заболеваемостью, с условиями работы в цехах, а вечерами с таинственным видом делал вычисления и записи в толстой общей тетради. Все ищет великих открытий, думалось мне тогда, Что ж, он сделал открытие, а мы проморгали. Люди ходили в больницу только лечиться. Теперь они пришли, чтобы сделать ее удобнее для себя.
В столярной мастерской уже кипела работа. Под неумелой рукой Каши повизгивало, напрягаясь, полотно лучковой пилы. А вот у длинного паренька рубанок играл в руках, я видел работу отца и понимаю толк в этом красивом деле. Стружка, не ломаясь, завивалась длинным локоном и, шурша, падала на пол.
– Ты не жми, – говорил Игорю не по летам полный юноша, – тут силой не возьмешь, посылай спокойно, и рез у тебя будет правильный.
Чуднов сидел рядом с дедом Акимом, больничным столяром, и его лицо выражало самое полное удовлетворение.
– Николай! – крикнул Каша. – Знакомься! Ребята, знакомьтесь: наш бригадир…
Крепкие пожатия рук.
– Павел!
– Василий!
– Федя, – сказал паренек, кладя рубанок на верстак боком.
Я бы тоже положил так, чтобы не тупилось лезвие.
Очень захотелось поработать вместе с ними, может быть, показать, что и мы не лыком шиты. Я взял рубанок, потрогал большим пальцем лезвие, с радостью почувствовал, что ручка плотно и естественно легла в ладонь. Ну, как бы не осрамиться!.. Но стружка, не ломаясь, упала длинным локоном.
– Видать, держали в руках, доктор, – усмехнулся Федя.
– Бывали дни… А здорово это получилось, что вы пришли, ребята!
– Больница – нам, а мы больнице скорую помощь оказываем, – сказал Павел. – Ну, за дело, товарищи. А то не стоим, не едем.
Работа возобновилась. Ребята делали урны для мусора, готовили детали садовых скамеек, настил для кое-где прогнившего тротуара, соединявшего больничные корпуса.
Павел говорил Чуднову:
– Там у вас черепица с крыши кое-где обсыпалась. Сегодня у нас материала нет, завтра сделаем.
– Паша, я видел, забор в двух местах прохудился. Доски для видимости висят.
– Это же нарочно, – сказал Василий, – захочется пивка выпить – досочку в сторону и в парк!
– Да, ты в этом разбираешься!
– Василий выпить не дурак!
– И когда это доктора лекарство против водки изобретут?
– Игорь, вот тебе наше задание. Найди ты такое лекарство, чтобы Ваську от пол-литра отучить.
– А что? И найду, вот только дайте кончить!
– Долго ждать. К тому времени Ваську в морге обмоют.
– Да ну вас ко всем чертям! – рассердился Василий. – На свои пью.
– Все равно не разрешаем. Мы за тебя в ответе!
Я сказал Павлу, что заберу Игоря с собой, а то задерживается радиопроводка.
– А мы его было совсем в свою бригаду записали. Ну ладно, берите. Как кончишь – приходи сюда, – обратился он к Игорю. – Про воскресенье не забыл? Ваша-то тройка поедет?
– Куда?
Игорь взглянул на Чуднова.
– Михаил Илларионович, вы нас отпустите? Мы всей бригадой собираемся в Москву на «Онегина».
Часа два мы работали на втором этаже – я, Игорь, Юрий и Валя.
– Ребята-то уже кончили! – крикнул от окна Каша.
Мы все подошли к окну. Двор ожил. Рабочие вытащили готовые урны, скамейки. Чуднов ходил и показывал, где и что лучше поставить.
Мы вчетвером стояли все вместе у окна, и, может быть, никогда нам не было так дружно и хорошо.
Не знаю, что передумал Золотов за несколько минувших дней. Я видел, он раза три заходил в кабинет к Чуднову и долго сидел у него. Возвращался замкнутый, подчеркнуто отчужденный и кивком головы приглашал меня заняться очередными делами в перевязочной.
Самокритика, что ни говори, трудная штука для каждого и особенно для Золотова. У людей будущего, быть может, и выработается новая натура, которая легко будет вершить суд над собой. Пока же мы от этого далеки. И неожиданно, будто в насмешку над моими мыслями, Золотов только что отдал половину палат Василию Петровичу. Он подбежал ко мне: «Ты подумай, Николай! То, что казалось вечным и неделимым…» Полчаса спустя Коршунов и Гринин обходили присоединенную территорию. «Сегодня я сожалею, что вы лишь практикант. Могу ли надеяться, Юрий Семенович, что после института вы…» – «Теперь это предложение резонное! На пару лет? Обещаю. В аспирантуру со стажем берут куда охотнее».
Палаты Золотов передал, однако ни к Коршунову, ни к нам не изменился, по-прежнему не хотел знать. Чувствовалось, что на нас он отводит душу. Понимает, что нельзя, что неправильно, и все-таки дуроломит. Поэтому мы, как и раньше, могли рассчитывать на один операционный день в неделю – на Коршуновскую пятницу.
– Ты знаешь, Юра, что я придумал? – сказал я Гринину, когда мы втроем возвращались в четверг из больницы в школу.
Он настороженно взглянул на меня.
– Поскольку Борис Наумович все еще не разрешает мне оперировать, давай поделим пятницы. Одну пятницу с Василием Петровичем оперируешь ты, другую – я.
Гринин остановился:
– Ты что? Белены объелся? Ты прикреплен к Золотову, с ним и договаривайся. Сумел же я найти общий язык с Василием Петровичем! Нет, я не могу уступить тебе ни одной пятницы.
– Почему же не можешь?
– Ты, Николай, говоришь вздор. – Гринин из-под сомкнутых бровей смотрел на меня. – Я так старался, а теперь должен все отдать?
– Не все, а лишь половину.
– Пусть даже половину. Почему я должен расплачиваться за твой… – Юрий остановился, подыскивая слово. – Да, за твой плохой характер!
– Как тебе не стыдно! – воскликнул Игорь, хватая его за локоть.
– Не лезь не в свое дело, – отбросил его руку Гринин. Обращаясь ко мне, он продолжал: – Вся эта возня с молодыми врачами… Кто учит да как учит… какое тебе дело? Странная практика для будущего специалиста!
– Ты в самом деле так думаешь, Гринин?
– Юрка, где твое комсомольское сознание! – снова вмешался Каша.
– Прочитай лекцию своей бабушке.
– Тьфу!
– Чего ты плюешься? – взбешенный Гринин схватил Игоря за руку. – Постой. Ты-то кто такой? Морщишь лоб, как Захаров. Ходишь по-утиному, как Чуднов, и глаза закрываешь по-чудновски, когда слушаешь больного в фонендоскоп! Тоже мне ярко выраженная индивидуальность!
Игорь взвизгнул и повис у Гринина на шее, стараясь свалить. «Ну, я тебя… ну, я тебя!» – повизгивал он.
Я разнял их.
– Двое на одного? – с презрением сказал Гринин.
– Перестань, – оборвал его я.
Утром Гринин ушел в больницу один. На полчаса раньше обычного. Ни я, ни Каша в операционную не пошли. От Нины я узнал, что три операции сделал Коршунов, четвертую – Гринин. Но радости не было на его лице.
– Бойкот? Бойкот объявили? – спросил Гринин, выскочив из операционной.
Я сидел в коридоре возле стола. Я даже не посмотрел на него и продолжал заполнять дневники в историях болезней.
Гринин постоял немного и скрылся в дверях операционной.
Через несколько минут санитарка пришла за мной.
Коршунов подождал, пока она выйдет.
– Я очень огорчен, товарищи. Сегодня утром Юрий Семенович рассказал мне о вашем споре. Я тогда же сказал, кто прав. Но Юрий Семенович остался при собственном мнении. Решим так: две последующие пятницы будет оперировать Николай Иванович, – Коршунов быстрыми движениями сбросил с себя халат, маску и вышел.
– Итак, Гринин, – сказал я, – ты больше не оперируешь. Хирургическая практика для тебя закончилась.
Он готов был расплакаться.
– Ну, что ж, радуйся, Николай! Ты обворовал товарища, если хочешь знать, и можешь радоваться.
Я ничего не ответил. В сущности, что я мог ему сказать? Что, по совести говоря, не очень-то нуждаюсь в коршуновских пятницах? Что, наверно, уступлю их Игорю? Эх, Юрка, мне хотелось услышать от тебя лишь одно слово, и вот я его не услышал. Туговато действует твоя мозговая кора.
Гринин в этот день не находил себе места. Раза три он заходил в мою палату, хотел, кажется, начать разговор и не мог. Он прохаживался по коридору, заложив руки за спину, выходил во двор, опять возвращался в больницу и подолгу стоял у окна, пожевывая папиросу. Он даже поднялся на второй этаж. Я слышал, как он меряет шагами коридор терапевтического отделения, потом спустился вниз с выражением горечи на лице и удалился в свою палату.
Мы обедали без Гринина, он не пришел. В общежитии его тоже не было. Но часом позже я увидел его на крыльце. Он не решался войти в школу.
Начался дождь, мелкий и нудный, как осенью. Все вокруг стало серым.
Я услышал шаги Гринина за дверью нашего класса. Но дверь не открылась.
Минуту спустя он снова был на крыльце. Закурил и долго стоял, глядя на тучи, проносившиеся над крышами.
«Ему чертовски холодно без плаща», – подумал я. Ничего, пусть закаляется.
Я видел, как он поднял воротник пиджака.
Наверно, ты надолго запомнишь этот день. Хотел бы я знать, покраснеет ли, вспомнив о нем, заслуженный товарищ, уважаемый профессор Гринин. Тогда у него будет все – и клиника, и почет, и научные труды, и сынишка. Все у него будет, в том числе и прошлое.
Окно было открыто, и я видел, что по улице мелькнула машина «Скорой помощи», прошуршав по мокрому асфальту. Опять кого-то повезли.
Кто-то протопал к крыльцу. За нами? Хриплый голос нетрезвого человека добродушно проговорил:
– Юрий Семенович! Не журись…
– Кто это? Что вам надо? – нервно выкрикнул Гринин.
– Своих не узнаешь? Па-а-лучай штаны…
– Редькин? Сейчас же вон! Убирайтесь отсюда!
– Держи штаны, говорю! Семенович – чертов сын…
Сверток шлепнулся о сырые доски крыльца. Редькин смотрел на Гринина с пьяным озлоблением и вдруг прежним добродушным голосом сказал:
– Эх ты, цуцик! – и пошел прочь, не разбирая, где лужи.
Гринин уже не стоял, а сидел на ступеньке крыльца, сжав голову руками. Было слышно, как он бормочет:
– За что… за что все они ненавидят… презирают меня…

«Пора мириться», – подумал я и крикнул в окно:
– Ну иди же в класс, Юрка! Хватит дуться.
– А ты… не будешь молчать? – спросил он, продолжая сидеть на крыльце и лишь повернув голову в мою сторону.
– Я – нет. Вот если Игорь…
Игорь сказал в окно:
– Вот чудак!
Тогда Гринин поднялся со ступенек. Через минуту он вошел в класс и протянул мне руку. Она была холодная, будто изо льда.
– Прости, Николай, не знаю, почему так получилось. Поверь, не в моем характере поступать так глупо и так мелко.
– Пожалуй, да… – Я смотрел на белый, без единой морщинки лоб и вдруг увидел поврежденную пилой руку в тот день, когда Коршунов оставил Юрку за себя. И прибавил резковато: – Вижу, дошло до твоих извилин.
Гринин мучительно улыбнулся:
– Кажется, дошло. Ты, Юрка, лучше, чем я думал. Ты не забыл вставить «кажется». И все же хотелось сказать: «Нет, парень, не дошло до твоих извилин!»
Юрка сунул под кровать сверток со штанами и выкурил прямо в классе папиросу. Черт с тобой, кури.
Вскоре мы собрались и пошли в поликлинику. Я негромко насвистывал что-то не очень веселое, в тон моросящему дождю. Снова мы шли втроем. Справа, замкнувшись, шел Гринин. Слева вышагивал огромными шагами Игорь. Он поеживался от холода, но глаза его живо, с хитрецою поблескивали.
Повзрослевшие гусята плескались в луже. Они были так заняты, что не заметили нас, своих старых знакомых.
Игорь первым взбежал на деревянные ступеньки крыльца, открыл застекленную дверь и юркнул в поликлинику.
Под вечер мы завершили радиопроводку, разнесли по палатам наушники. Из городского радиоузла на велосипеде прикатил техник.
– Ну что, москвичи? Закончили? Поздравляю!
Техник полез на чердак, чтобы к чему-то что-то присоединить. Мы не могли отказать ему в этом удовольствии.
Через несколько минут заработали наушники. «Говорит Москва». Даже на расстоянии отчетливо слышны слова диктора. Теперь больным, особенно надолго прикованным к койкам, не придется скучать.
Пойду-ка пройдусь по палатам.
Вот Викторов приник здоровым ухом к наушнику. Глаза веселые, на лице улыбка. Второй день у Викторова нормальная температура.
Лобов сидит на койке, тоже слушает. Оба наушника прижаты дужкой к ушам. О чем он думает, глядя в окно?
Гриша меня не замечает. И у него на голове наушники. Гришу на днях выпишут. Чудесные детские глаза, чистые и бесхитростные, как лесной родник.
В коридор спустился с чердака Гринин. Он вытирал перепачканные руки носовым платком. Подойдя ко мне, сказал:
– Ну, я пойду, Николай.
– К Верочке? – спросил я.
– Да, мы с ней уговорились встретиться на стадионе. Там сегодня футбольный матч.
– Симпатичная у тебя девушка!
– Что-то трудно у меня здесь складываются отношения с людьми, Николай.
– Что, поссорились?
Гринин помолчал.
– Знаешь, – сказал он задумчиво, – мне кажется, что девушка всегда должна быть глупее парня, который ее любит.
Гринин ушел.
Да, жизнь задает этому парню загадки.
Мы с Игорем тоже направились к выходу. Вышли на больничный, двор. Вдоль корпуса с правой стороны бежала медстатистик, тонкая девушка в халате и белой докторской шапочке. Ножки-спички подбрасывали полы халата на бегу.
– Вас Михаил Илларионович зовет! Скорее идите! – крикнула она издали.
– В чем дело, Катя?
– Михаил Илларионович благодарность вам вынес, приказ по больнице отдал. Велел переписать на машинке и повесить на самом видном месте в вестибюле.
– Это за какие же такие доблести? – спросил я.
– За радио, конечно!
Каша прямо-таки кипел от счастья и, конечно, залился румянцем.
– Не пойдем к Михаилу Илларионовичу, – сказал я. – Скажи, что не нашла. Хорошо, Катюша? А то мы на стадион опоздаем. Наши проигрывают.
– Кто это ваши? – спросила она.
– Москвичи.
– И пусть проигрывают! – Катя повернулась и побежала вдоль длинного кирпичного корпуса больницы.
Не знаю, что скажет она главврачу. Похоже, что правду скажет.
Мы быстро пошли к калитке.
– Игорь Александрович, вы куда?
Чуднов стоял возле угла больничного здания и курил, маня нас пальцем. Пришлось повернуть к нему. Нас обогнал почтовый служащий. Он вручил Чуднову телеграмму. Чуднов вскрыл бланк, улыбка сошла с его губ.
– Так и думал. Замучили соседи.
– Какие соседи? – спросил я.
– Больница тут есть. Неподалеку, километрах в двадцати. В соседнем районе. Хирург молодой, не очень опытный – Ларионов.
– О Ларионове мы слышали, – сказал я, снова вспомнив руку молодого рабочего, поврежденную пилой.
– Месяца три назад у него больная умерла на операционном столе. Теперь чуть что – телеграммами забрасывает, требует хирурга. Приходится выручать. Опять буду просить Василия Петровича…
– Могу позвать, – сказал я.
– Мы вдвоем, – добавил Игорь.
– Пожалуйста! Только никуда не отвлекайтесь, – сказал Чуднов. – Сами видите – молния.
Коршунов жил недалеко от поликлиники. Как-то мы шли с приема, и он показал нам свои окна.
Мы быстро шагали по улице. Игорь едва поспевал за мной.
Вот и двухэтажный оштукатуренный дом, под окнами – широколистые тополя.
– Я подожду, – сказал Игорь и сел на лавочку.
Я вошел в подъезд и громко постучал в левую дверь.
Открыл сам Василий Петрович, пригласил войти. Я сказал, что получена телеграмма-молния от соседа.