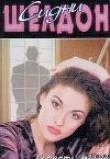Текст книги "Человек должен жить"
Автор книги: Владимир Лучосин
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
Чуднов тоже, кажется, был доволен и время от времени одобрительно на меня поглядывал и улыбался одному мне заметной улыбкой. Эта улыбка как бы говорила: «Ну, вот и нашелся человек, который хочет начинать практику у меня, так что вы, Золотов, не очень-то задирайте нос».
Чуднов записал на листе бумаги наши фамилии; причем, когда я назвал свою, он усмехнулся.
Потом Чуднов спросил, где мы хотим столоваться, в больнице или в городе. Мы согласились столоваться в больнице, так как в городских столовых, наверное, слишком много времени тратится на ожидание.
– Да! Относительно акушерства… Впрочем, подождем, скоро заведующий отделением вернется из отпуска.
– Все, что ли? – спросил Золотов, посмотрев на Чуднова.
– Как будто все, Борис Наумович, – сказал Чуднов, завинчивая авторучку.
– Кто со мной? – спросил Золотов, вставая.
Захаров и Гринин подошли к нему.
Уходя, Захаров бросил мне взгляд, словно говоря: «Ничего, ничего! Главное – не теряться. Все начинается не так уж плохо».
Мне было немного грустно оставаться одному, без Захарова, к которому я успел привыкнуть. Я сидел на кушетке и смотрел на длинный маятник часов, когда резко зазвонил телефон. Чуднов взял трубку и минуты две слушал. Потом положил трубку на рычажок и сказал мне, что его вызывают в горсовет.
– Проведите сегодня денек с товарищами. А хотите, познакомьтесь с терапевтическим отделением без меня.
Он говорил так, будто провинился передо мной и теперь извиняется. Мне стало неловко. Я сказал, что лучше пойду к товарищам. Он кивнул, и я выскользнул из приемного покоя.
Гринин и Захаров стояли возле окна в коридоре хирургического отделения и, видимо, кого-то ждали. Вскоре пришел Золотов. Он был чем-то расстроен, но, заметив меня, оживился.
– А вы почему здесь? – обратился он ко мне. – Сбежали из терапии? – Он был и удивлен и обрадован. Ему явно хотелось, чтобы я сбежал.
Я объяснил ему. И он, кажется, остался не совсем доволен.
– Ну, пошли, – сказал он, глянув на ручные часы.
Мы пошли по коридору.
– Весь первый этаж мой. Вверху – все прочие.
Подошли к белым дверям. Золотов распахнул их, посмотрел на Гринина и сказал:
– Ваша палата. Девять коек.
Гринин благодарно улыбнулся.
Не знаю, о чем думал он в эти минуты, но если бы эту палату отдали мне, я, кажется, закричал бы от радости. Ведь в клинике нам давали курировать лишь по одному больному, а здесь сразу девять человек. Если судить по его виду, он был рад. Он упорно сгонял со своего лица улыбку, а она прорывалась. Из-за этого у него был довольно глупый вид.
Золотов обвел взглядом больных. Некоторые из них лежали, укрывшись одеялами, другие сидели на кроватях; все в каком-то тревожном ожидании смотрели на заведующего.
– Ваш новый доктор, – сказал им Золотов и рукой показал на Гринина. – Прошу любить и жаловать.
Больные перевели взгляд на Гринина. Еще бы – новый доктор! Как не посмотреть! Но, говоря откровенно, я не уловил в их взглядах энтузиазма.
Мы вышли в коридор.
Золотов прикрыл за нами дверь – мы сами не догадались этого сделать – и, глядя на Гринина, сказал:
– Итак, товарищ студент, вы прикрепляетесь к Коршунову, моему помощнику. Я отдал вам его палату. По всем вопросам обращайтесь к нему. Ну, а если будет особая надобность, можно и ко мне. – Он поднял вверх указательный палец.
Как я заметил позже, этим жестом он подчеркивал значительность того, о чем говорит. И еще я заметил, что когда он говорит, то прислушивается к собственному голосу. Сейчас Золотов смотрел на Гринина взглядом экспериментатора.
А Гринин стоял, оцепенев, прикусив губу.
– Что с вами? – спросил у него Золотов. – Случайно, не аппендицит?
– Совсем другое, – ответил Гринин, не поднимая глаз.
– Значит, вы не больны?
– Я здоров.
– Превосходно. Пошли!
Одну палату мы миновали и остановились у дверей следующей. Золотов повернулся к Захарову.
– Вам отдаю свою палату. – Согнутым указательным пальцем он тихонько постучал по двери. Фамилии Захарова он не назвал, как не назвал до этого и фамилии Гринина. – Запомните: завтра будем оперировать. Готовьтесь. Советую почитать об аппендицитах. – И он ласково улыбнулся Захарову. – Познакомьтесь с людьми, с историями болезней. Скажете сестре, что я велел вам дать. Вопросы есть?
– Вопросов нет, – ответил Захаров.
Золотов торопливо пошел по коридору. Мы следили за ним до тех пор, пока он не вошел в какую-то дверь налево. Позже я узнал, что там была операционная.
Мы стояли у окна.
– Жутко не повезло, – сказал Гринин. – Я хотел только к Золотову, из-за этого и поехал сюда… А ты счастливчик, Колька. Ты уже успел чем-то ему понравиться. – Он коротко глянул на Захарова. – Чему меня научит какой-то Коршунов, если он сам три года назад окончил институт? Не для этого я сюда ехал.
– Можем поменяться, – предложил Захаров. – Возможно, Золотов удовлетворит нашу просьбу.
– Теперь уже неловко. Он и больным объявил. – Гринин вздохнул. – И зачем я поехал в эту больницу?
За окном лил дождь. Земля под окнами была совершенно черная, и на этом фоне трава выглядела особенно свежей.
Двухметровый дощатый забор, отделявший больничный двор от парка, и комли сосен во дворе, и даже телеграфные столбы почернели. Сосны чуть покачивались на ветру, словно раскланивались друг с дружкой. Они беспрерывно раскланивались, будто играли. Глядя на них, мне стало весело. На меня дождь никогда не наводил хандру. Я любил всякую погоду, потому что и в дождливой и в ясной есть свои прелести.
– Умрешь от такой погодки, – проговорил Гринин.
– Еще никто не умирал, – сказал я.
– Вот что, пойдемте знакомиться с больными, – предложил Захаров. – Никто не сделает этого за нас.
Мы уже собрались идти, но увидели в конце коридора бегущую сестру. По ее напряженному взгляду я почувствовал, что она бежит за нами. Видно, что-то стряслось, раз мы оказались нужны.
– Борис Наумович зовет. Скорее в операционную! – сказала она, запыхавшись, и положила руку на сердце.
Сестра была очень курносая; впервые я видел нос, который был хуже моего. Но сестре давно перевалило за тридцать, и красота теперь была ей ни к чему.
Мы побежали в конец коридора.
Открыли одну дверь, вторую, – здесь! На операционном столе лежало что-то окровавленное. Не сразу я догадался, что это человек. Пострадавшему переливали кровь.
Золотов стоял возле больного и считал пульс.
– Шок, – сказал он.
Я сразу же вспомнил классическое описание шока, которое дал Пирогов. Я знал его на память, слово в слово. И начал вспоминать, что нужно делать, чтобы вывести человека из шока. Золотов прервал мои мысли.
– Безнадежен – сказал он, сняв свою руку с пульса больного, и пошел к раковине мыть руки.
– Операции не будет? – несмело спросил я, еще полминуты назад уверенный, что операция будет обязательно.
– Нет смысла, – ответил Золотов.
– Почему? – спросил я снова. Мне было неясно. Разве я не могу спросить?
– Он умрет через полчаса, – сказал Золотов, глядя на меня.
Мне показалось, что ему не нравятся мои вопросы. Но ведь я на практике, и я обязан спрашивать как можно больше обо всем, что мне непонятно, и я спросил:
– Почему он должен умереть?
– Лихачество и сто граммов. Разве не слышите, как от него несет?
Я склонился над пострадавшим и без труда уловил запах водки.
– Безнадежен, – повторил Золотов, вздохнул, покачал головой. – Наверно, страшно умирать в двадцать лет. Ведь даже глубокие старики хотят жить. А у него вся жизнь была впереди, но, как видите, не смог ее сберечь. Шоферу и мотоциклисту нельзя пить спиртного, а он напился и врезался в поезд… Скорая помощь, больничная помощь ему оказана, больше нам делать нечего. Оперировать? Он умрет прежде, чем мы закончим. Нина Федоровна, – сказал он сестре, – уберите систему. Хватит!
Сестра вынула из вены больного иглу, санитарка отставила к стене систему для переливания крови.
Золотов сбросил с себя на пол халат, резиновые перчатки, клеенчатый фартук и пошел из операционной. Он шел медленно, словно раздумывая, идти или не идти. Через минуту он возвратился и спросил, остановившись в дверях:
– Ну? Чего носы повесили? Приступайте к дальнейшим делам. – И он сделал рукою жест, чтобы мы вышли из операционной.
Мы повиновались.
Недалеко от выхода из вестибюля нас нагнала курносая сестра, та самая, которая позвала в операционную. Она озиралась по сторонам.
– Знаете, что Борис Наумович сказал перед вашим приходом? «Не люблю, – говорит, – смотреть, как умирают люди. А студенты пускай посмотрят, им привыкать надо». Потом он задумался и сказал сам себе: «Не стоит рисковать ради одного процента, особенно когда здесь эти воробьи». И велел позвать вас. Я и побежала… Как вы думаете, что означает «не стоит рисковать ради одного процента»?
Тут все было ясно, и мы сказали ей свое мнение. Вернее, говорил Захаров, а мы поддакивали.
– Вы знаете, ребятки, у меня есть план, – сказала сестра чуть погодя. – Борис Наумович уйдет сейчас в поликлинику, а я сбегаю в терапию, расскажу обо всем Василию Петровичу. Может быть, он согласится.
– Василию Петровичу? – переспросил Захаров.
– Разве вы не знаете? Коршунов Василий Петрович, наш второй хирург.
– Он в терапии? – спросил Гринин.
– Да.
– Можно мне с вами?
– У него пневмония, утром было тридцать восемь.
– Это мой доктор, я прикреплен к нему.
– В другой раз сходите. Вы можете мне помешать.
– Правильно, – сказал Захаров. – Не приставай.
– Может быть, он и согласится. – Сестра нам подмигнула. – А вы поможете. Ну, я побежала.
– Покурить охота, – сказал Гринин, доставая портсигар.
Мы вышли во двор. Воздух был свежий, промытый дождем. Где-то чирикали воробьи. Хриплыми, надтреснутыми голосами пищали их детеныши. Воробьи без конца таскали в клювах каких-то жучков. «Гнезда, наверно, в черепичной крыше», – подумал я. Интересно, согласится ли Коршунов? Если утром было тридцать восемь, то к вечеру может быть и сорок.
Мягко открылась дверь. Золотов в светлом пыльнике и соломенной шляпе прошел мимо, обдав нас запахом духов. Оказывается, и мужчины могут так душиться! Гринин бросил папиросу и посмотрел ему вслед.
Золотов дошел до больничной ограды, потом вдруг остановился и поманил нас пальцем. С чего бы это? Мы подбежали к нему.
– Может, со мной в поликлинику пойдете?
Мы переглянулись. Глаза Гринина спрашивали. Потом он стал смотреть в землю.
– Если можно, с завтрашнего дня, – сказал Захаров.
– Это общее желание или только ваше? – Золотов, улыбаясь, скользил взглядом по нашим лицам.
Из вестибюля вылетела курносая сестра. Дверь, распахнутая ею, с громким стуком ударилась о кирпичную стену. Сестра смотрела на нас. Я не мог догадаться, с чем она пришла от Василия Петровича. Золотов смотрел на нас и на сестру.
– Сегодня мы еще не успели познакомиться как следует с больными и историями болезней, – сказал Захаров.
– Ну что ж, пусть сегодня будет по-вашему. – Золотов кое-как просунул в узкую калитку раскрытый зонт и пошел по асфальтированной улице.
Мы подождали немного, пока он удалится, и бросились к сестре.
– Согласился! – крикнула она и подпрыгнула, как девчонка.
– А температура? – спросил Захаров.
– Тридцать восемь и пять. Но это неважно. Важно, что согласился. Операционная сестра уже все готовит. Пошли!
Мы поднялись по чугунной лестнице на второй этаж и повернули вправо. Сестра открыла дверь одной из палат. У двери стояло кресло на колесах.
Палата была маленькая, но светлая. Одна койка, тумбочка, стул. На койке лежал человек лет двадцати шести. Черные большие глаза настороженно направлены на нас. Лицо красное от высокой температуры. Темные волосы зачесаны назад. Он часто дышал.
– Мы пришли, – сказала сестра.
«Он и сам видит, что мы пришли», – подумал я.
– Кресло, Любовь Ивановна, – сказал Коршунов.
Мы надели на него – по команде сестры синий халат, какие носили больные, и усадили в кресло. Он отвалился на спинку. Мне казалось, что мы поступаем преступно.
«А что, если он мотоциклиста не спасет и сам не выдержит напряжения?»
Трудно было спустить Коршунова по крутой лестнице на первый этаж. Но все же мы справились. И вдруг повелительный женский голос сверху:
– Вы куда везете больного?
Сестра не растерялась:
– На рентген, Екатерина Ивановна.
– Ну, везите, – раздалось сверху.
– Кто это? – спросил я.
– Врач-терапевт, – ответила Любовь Ивановна.
Коршунов улыбнулся. Он еще мог улыбаться.
Пока мы пыхтели, спуская его с лестницы, он ни разу не шелохнулся и все смотрел в потолок своими большими черными глазами. Он сидел в кресле без всякого выражения, словно был уверен, что мы его не уроним. «Спокойный характер», – подумал я.
На хирурга надели белый халат, марлевую маску, шапочку, фартук из клеенки. Не сходя с кресла, он дважды вымыл руки теплым раствором нашатырного спирта. Натянул перчатки. На него надели второй халат – стерильный.
Потом тазы унесли и кресло подкатили к операционному столу, где лежал мотоциклист.
Захаров и Гринин заканчивали мытье рук. Они будут помогать. Так распорядился Коршунов.
Операционная была скромна. Не четыре операционных стола, как в хирургической клинике, а всего один. Да и тот не такой большой. Но так же блещут белизной стены и столики, покрытые простынями. И с такою же придирчивой строгостью поглядывает операционная сестра. Немало я повидал на третьем и четвертом курсах операционных сестер, но такой молодой не видел.
Как и мы, сестра вся в белом. Лишь брови, глаза и верхняя часть носа не прикрыты. У нее быстрые движения и зоркий взгляд. Она проверяет, видимо, в последний раз, все ли инструменты приготовлены.
– Руки хорошенько мойте! – говорит она Захарову и Гринину.
– Осторожнее! Не подходите близко к столику! – это уже мне.
– А я и не подхожу!
– Здесь все стерильное, – говорит сестра.
Будто я сам не знаю!
Я подошел к операционному столу с другой стороны. Лучше быть подальше от этой глазастой сестры. Отсюда тоже хорошо видно.
– Йод! – потребовал Коршунов и бросил на пол ватный шарик со спиртом, которым протирал руки.
Сестра подала палочку с йодом.
Операция началась. Коршунов просил то йод, то новокаин, то пинцет, скальпель или ножницы, то кетгут или шелк. Вскоре он перестал просить, а только протягивал сестре руку, и в ней всегда оказывалось то, что нужно. Он ни разу не выразил неудовольствия.
– Ну как? – шепотом спросила Любовь Ивановна, глазами показывая на сестру.
– Здорово! – сказал я, не скрывая своего восхищения.
– В Москве видали таких?
– Слишком молодая на такой ответственной должности!
– Слишком молодая, слишком красивая, да?
Я покраснел.
– Не слишком заглядывайтесь на нее, она этого не любит, – посоветовала Любовь Ивановна и хитро мне подмигнула.
Я на шаг отодвинулся от нее и затаив дыхание продолжал смотреть на эту необычную операцию. Но я не смог долго пробыть наблюдателем и взял руку больного.

Ведь кому-то обязательно нужно стоять на пульсе. Проморгаешь – и вся операция будет ни к чему. Не случайно в хирургической клинике за пульсом больных всегда следил врач. Я старался так, как только мог. Наверно, Коршунов заметил мое старание и поблагодарил глазами, движением головы. Не надо благодарить, Василий Петрович.
Гринин и Захаров неплохо помогали Коршунову; он говорил им, что делать. Они сшивали кожу и мышцы, а Коршунов указывал, что к чему нужно прикрепить. Оказалось, что у мотоциклиста есть и глаза, и уши, и нос, просто раньше они не были видны, так как кожа лица во многих местах была разорвана и перевернута, и перекручена.
В разгар операции вошла сестра со шприцем в руке и сказала:
– Василий Петрович, время вводить пенициллин.
Я понял, что это сестра из терапевтического отделения.
– Да погодите, скоро кончим операцию.
– Не могу, – ответила сестра.
– Ну, я очень прошу. Еще минут пятнадцать, – взмолился Коршунов.
– Нет.
– Я приказываю.
– Больные не приказывают. – Сестра пошевелила в руке шприц, давая понять, что она спешит. – Готовьтесь.
Коршунов встал, и сестра сделала инъекцию. Какая непреклонная!
– Спасибо, Валя, – сказал Коршунов.
– Пожалуйста, Василий Петрович. – Сестра ушла, высоко неся свою красивую голову.
Я невольно посмотрел ей вслед. В душе смятение. Черт знает что! Сначала одна сестра поразила, а потом вторая, и еще сильнее.
– Перелить кровь, – тихо сказал Василий Петрович.
Ему никто не ответил.
Я не знал, кому адресованы его слова.
– Нина Федоровна, перелить кровь! Вы слышите?
– Слышу, Василий Петрович, – ответила операционная сестра.
Значит, она – Нина, а та – Валя. Хорошо.
– Мы поможем, – сказал Захаров.
– Прекрасно, друзья… А я немножко устал. Даже муха имеет нервную систему… Везите меня в палату… Осталось перелить кровь товарищу… больному…
Коршунов очень ослабел, едва двигал руками и дышал чаще, чем прежде. Он смотрел на нас черными страдальческими глазами и, наконец, закрыл их. Я испугался, подумав, что он умер.
– Быстро, мальчики! – сказала Любовь Ивановна.
Вскоре мы были возле лестницы. Подбежали сестры, санитарки, ходячие больные; при их помощи мы, как перышко, внесли кресло с Василием Петровичем на второй этаж. Я помогал Любови Ивановне уложить его в постель. Он весь горел, лицо ярко-красное, в капельках пота. Я попробовал пульс – слабый. Глаза не открывает и не отвечает на вопросы. Сестра позвала врача Екатерину Ивановну. Она тотчас пришла, худенькая старушка со сморщенным личиком. Села прямо на койку и начала выслушивать трубочкой грудь Василия Петровича.
Любовь Ивановна кивком головы показала, чтобы я вышел к ней в коридор.
– Как вы думаете, Михаила Илларионовича нужно поставить в известность? – спросила она у меня.
– Нужно, – сказал я.
Мы пошли в ординаторскую, и Любовь Ивановна позвонила в горсовет. Чуднова не хотели звать к телефону, так как шло заседание. Но потом все же позвали, и через десять минут он приехал в больницу на машине первого секретаря горкома.
– Как дела, Василий Петрович? – спросил Чуднов.
Но Коршунов не ответил и ему. Ни на этот вопрос, ни на все другие.
Всю ночь ему делали инъекции пенициллина, стрептомицина, камфары, вливали глюкозу, давали вдыхать кислород. Я сидел с Чудновым у его постели.
С вечера Чуднов отсылал меня домой, но я всякий раз отнекивался, и потом он перестал настаивать.
Несколько раз за ночь я спускался в хирургическое отделение, дважды мы спускались вместе с Чудновым: мотоциклист Лобов оставался в тяжелом состоянии.
– А что, если они оба не дотянут до утра? – спросил у меня Чуднов, когда мы вышли из палаты в коридор.
Я не знал, что ответить, и только пожал плечами.
– К сожалению, и в медицине бывают неожиданности, – сказал он. – Кажется, делаешь все, а вот не помогает.
Через какой-нибудь час мне снова захотелось проведать Лобова. Я сказал об этом Чуднову и вышел. Я не знал, что как раз в это время Золотов приходит на вечерний обход.
Только я спустился в хирургическое отделение – встречаю в коридоре Любовь Ивановну.
– Вы к Лобову? – спрашивает. – Сейчас вместе пойдем смотреть. А потом не уходите, хорошо? – И крепко сжала мою руку. – Сейчас будет такое!..
Из ординаторской в прекрасно отутюженном, накрахмаленном халате вышел улыбающийся Золотов. Заметив меня, спросил:
– Вы еще здесь?
– Здесь, – ответил я.
– Вы преуспеете на практике, если целыми днями будете находиться в больнице. Похвально. – И, вдруг забыв обо мне, он пошел с сестрой по палатам.
Любовь Ивановна поманила меня пальцем. Я пошел вслед за ними. Когда мы вошли во вторую палату, Золотов внезапно помрачнел и спросил:
– Что за больной?
Любовь Ивановна молчала.
– Поступил без меня?
– Еще при вас.
– Фамилия больного?
– Лобов.
– Лобов Матвей Александрович? – спросил Золотов.
О! Оказывается, у него прекрасная память на фамилии!
– Да, это он. – сказала Любовь Ивановна. – Лобов Матвей Александрович.
Казалось, Золотов смотрел на нее, ничего не понимая. Загорелое лицо его побледнело. Любовь Ивановна рассматривала ногти на своих коротких, припухших в суставах пальцах… Кожа на пальцах шелушилась. Когда часто моешь руки, кожа обычно начинает шелушиться.
Прошло несколько томительных мгновений.
Наконец Золотов спросил тихо, очень тихо и корректно:
– Кто оперировал?
– Василий Петрович.
Золотов отвел взгляд от Любови Ивановны и взял руку больного. Пощупав пульс, поднял одеяло и осмотрел повязку на правой ноге.
Потом Золотов велел сестре идти за ним.
Любовь Ивановна делала мне знаки, чтобы и я шел за нею.
У дверей ординаторской Золотов остановился, обернулся и, обращаясь ко мне, сказал:
– Вы свободны, уважаемый. Благодарю, что сопровождали меня на обходе.
Он вошел в ординаторскую. Я не знал, что мне делать, беспомощно смотрел на сестру.
Любовь Ивановна, на мгновение задержавшись в коридоре, сказала с мольбой:
– Идите со мной! Он убьет меня одну.
Я шагнул в ординаторскую вслед за Любовью Ивановной, осторожно прикрыв за собою дверь.
Золотов стоял ко мне спиной и смотрел на дождливый вечер за окном. Любовь Ивановна прошла в конец длинной комнаты и остановилась у стола. По ту сторону стола был Золотов.
– Что вы наделали? – не оборачиваясь, спросил он. – Я спрашиваю, что вы наделали?!
Любовь Ивановна молчала, рассматривая ноготь на своей руке.
– Кто разрешил? Как вы посмели?! – закричал Золотов и затопал ногами.
Он раздражался все больше оттого, что она молчала.
– Отвечайте! Я вас спрашиваю!
– Я здесь непричастна, Борис Наумович.
– Кто сказал Василию Петровичу?
Любовь Ивановна молчала, опустив голову. Она изучала во всех тонкостях ногти на левой руке.
– Отвечать! – вдруг вскрикнул Золотов. – Я спрашиваю вас, а не стену.
– Постыдились бы студента, – тихо сказала Любовь Ивановна.
– Какого студента? – Он обернулся, увидел меня. – Зачем вы здесь?
Мне нечего было ему сказать, и я стоял, переминаясь с ноги на ногу.
– Уходите сейчас же! Немедленно!
Но я решил не уходить до тех пор, пока не попросит Любовь Ивановна.
– Это вы его затащили! – Золотов нацелил на сестру, словно пистолет, указательный палец. – Ваша работа. Вы есть язва, самая настоящая хирургическая язва на здоровом теле отделения.
Он посмотрел в темнеющий вырез окна и прибавил:
– Можете идти.
Мы вышли вместе. В коридоре на потолке уже горели молочные шары, было тихо и спокойно. Я вздохнул, словно выбрался из темного подземелья. У Любови Ивановны было красное, будто распухшее и воспаленное лицо. Она спросила:
– Ясно?
– Ясно, – ответил я.
Она вздохнула и, еле волоча ноги, ушла в санпропускник.
В коридоре было душно, и я решил выйти во двор.
В вестибюле я встретился с Захаровым и Грининым. Они возвращались из столовой.
– Мы подзаправились, – сказал Захаров. – Теперь твоя очередь.
Я отпросился у Чуднова и тоже пошел в столовую ужинать и просидел там больше часа. Когда я вернулся, Захаров и Гринин находились во второй палате, у постели Лобова.
Я попросил Захарова выйти на минутку в коридор и рассказал ему о вечернем обходе Золотова, потом поднялся на второй этаж и рассказал Чуднову.
– А что думают товарищи студенты по этому поводу? – спросил Чуднов.
– Я могу сказать только за себя, Михаил Илларионович, – ответил я.
– Хорошо, скажите за себя, Игорь.
На этот раз он не назвал меня по отчеству, наверно, потому, что устал и забыл, что весь день величал нас, как докторов. Мне было приятно услышать простое Игорь, и я выпалил:
– Я бы объявил ему выговор по партийной линии.
Так мне сказал Захаров, когда я описал ему сцену между главным хирургом и сестрой. Я был согласен с ним и поэтому мог сказать от себя.
– О, какой вы скорый на руку, – улыбнулся Чуднов.
Но меня не так-то просто было остановить, если мне хотелось выяснить что-либо до конца.
– Можно мне спросить, Михаил Илларионович? Вы тоже считаете, что талант выше критики?
– Что за идея! – воскликнул Чуднов и осторожно прикрыл толстыми пальцами губы: ночью голос всегда звучит очень громко. – И почему «тоже»?
Я не мог сказать, что эту точку зрения отстаивал Гринин. Захаров тогда на него прикрикнул: «Бред!» – вертикальные морщинки собрались у него на лбу, а Гринин отрезал: «Критика – костыли для посредственности».
– Бред! – услышал я голос Чуднова. – Совершеннейший бред. Талант вне критики обязательно превратится в свою противоположность.
Я снова посмотрел в лицо Чуднову и почувствовал, что мои глаза меня выдают. «Превращение в свою противоположность» всегда было выше моего понимания. Чуднов совсем сощурил глаза, спрятал в ресницах искорки.
– Если не секрет, Игорь Александрович, какая у вас оценка по диамату?
– Четверка, – ответил я.
– Твердая?
– Не очень.
…Коршунов открыл глаза лишь на следующее утро.
– Как дела, Василий Петрович? – спросил Чуднов, увидев, что веки Коршунова чуть-чуть разомкнулись.
– Ничего как будто. А он как?
– Ничего как будто, – словами Коршунова ответил Чуднов.
– Пить хочется, – сказал Коршунов.
Я подал чашку с голубым ободком. В чашке был кисель.
– Ох, как вкусно! Хорошо, что кисель жидкий. Еще.
В это утро мы завтракали уже в больнице.
В терапевтическом отделении была небольшая комната, где завтракали и обедали ходячие больные. В ней стояло шесть квадратных столов, покрытых скатертями, в углу темнел красивый буфет. На окне розовыми огоньками цвели примулы.
Мы завтракали минут за тридцать до завтрака больных. Санитарка принесла с кухни кастрюльку и чайник: «Хозяйничайте». Разливал суп Захаров. Ведь он служил в армии, а там всему научат, даже как стирать белье и мыть полы. После завтрака мы немного распустили ремни и уже собрались идти по отделениям, но вошел Чуднов, спросил, понравился ли завтрак, и потом сказал, чтобы мы немедленно отправились к доктору Вадиму Павловичу в морг.
Сердце мое упало. Я хотел спросить, кого же будут вскрывать, но не спросил. Духу не хватило.
– Маша, покажите докторам морг.
Молодая санитарочка вывела нас через вестибюль на больничный двор. Ветер швырял в лицо водяную пыль, с крыши лились тонкие струйки. Мы трусцой пробежали вдоль длинного больничного корпуса, потом завернули за угол, и санитарка показала рукой на небольшой оштукатуренный домик под черепичной крышей.
– Теперь найдете? – спросила она.
– С божьей помощью, – ответил Захаров.
Наконец мы очутились под крышей. Вошли.
Вскрытие уже началось. Я увидел стол, обитый оцинкованной жестью, и на нем труп мужчины средних лет. Его лицо показалось мне знакомым. Я вгляделся и вспомнил станцию и палисадник.
Врачу патологоанатому Вадиму Павловичу было лет двадцать пять. Он был в халате и длинном, до пола, клеенчатом фартуке. Встретил нас приветливо:
– А, доктора! Пожалуйста, прошу поближе.

Вадим Павлович работал уверенно и быстро: он хорошо знал свое дело. Я подумал, что ему легче, чем тем врачам, которые доставляют ему мертвецов. «Может быть, – подумал я, – отсюда исходит и его уверенность».
Врачу помогал санитар, низенький, толстый, почти квадратный мужчина лет пятидесяти, давно не бритый и не стриженный. В палату такого бы ни за что не пустили.
Мы стояли и смотрели, засунув руки в карманы халатов.
В трахее и бронхах умершего Вадим Павлович нашел кусочки колбасы, капусты, огурца и хлеба. Пахло водкой.
– Ну вот, причина смерти ясна. Не так ли? Изрядно выпил товарищ железнодорожник, аппетитно закусил и заснул. Во сне началась рвота. Он, собственно, и погиб от нее, так как рвотные массы закупорили бронхи и он не мог дышать. Вопросы, ученые мужи?
Вопросов не было. Вадим Павлович, улыбаясь, смотрел на нас. Не знаю, о чем думал он, а я думал о том, что его жизнерадостная улыбка не очень подходила для морга. А он смотрел на нас и улыбался, потому что сам был здоров и весел и еще, наверно, потому, что привык вскрывать трупы. Такова была его специальность.
Когда мы шли по двору обратно, нас по-прежнему поливал дождик. Я думал о жене погибшего и его сыне, мальчике, который пас в дождь корову. Мне очень хотелось увидеть того мальчугана; Я не знал, что ему скажу, но мне хотелось его увидеть.
У меня не было еще ни палаты, ни больных, и я не знал, что мне делать. Нужно найти Чуднова. Я спросил сестру, не знает ли она, где заведующий. Она повела меня по коридору и указала на дверь четвертой палаты.
Я открыл дверь. Чуднов сидел на стуле возле койки, на которой лежала полная седая женщина. Увидев меня, он спросил:
– Пришли? Ну как?
Я не знал, что ответить. В палате были больные, пять человек. Никто из них, поступая в больницу, наверно, не получал гарантию, что не попадет к улыбающемуся доктору в длинном, до пят, фартуке.
– Комментарии излишни? – спросил Чуднов, глядя на меня своими маленькими проницательными глазами.
– Да, – сказал я.
– Палаты у вас пока нет? – спросил Чуднов.
– За этим и пришел, – сказал я.
– Ну что ж, вот и отдадим эту. Будете лечить желудки, сердца и все прочее, а?
Я покраснел так густо, как никогда в жизни. Я мог предполагать, что угодно, но никогда не думал, что могу получить женскую палату. Не могло быть ничего хуже этого.
– Так вы согласны? – спросил Чуднов, сощурившись от улыбки.
Я чувствовал, что пять пар женских глаз смотрят на меня. Не помню, куда смотрел я.
– Ваше слово – закон. Вы главный врач, – сказал я.
– Екатерина Ивановна обещала никому нас не отдавать – ни врачам, ни студентам. Это ее палата, а мы ее подопечные, – сказала одна из больных, по виду учительница.
Она бросила мне спасательный круг, и я был ей благодарен за это.
– Придется подумать, – сказал Чуднов. – Зайду к вам минут через пять. – И, обхватив меня за плечи своей полной теплой рукой, повел к двери.
В коридоре он спросил:
– Напугались?
– Не очень, но все же… лучше иметь дело с мужчинами.
– Вы не женаты?
– Нет, конечно. – Я хотел бы сказать ему, что женитьба вообще не для меня, потому что красивая девушка за меня не пойдет, а некрасивая мне самому не нужна.
Чуднов привел меня в первую палату. Я сразу воспрянул духом, увидев мужские лица, Мужские глаза: они не приводили меня в смущение. Показывая на меня рукой, Чуднов сказал больным:
– С сегодняшнего дня вас будет лечить Игорь Александрович.
Я был благодарен ему за то, что он обошелся без упоминания моей фамилии.
– Игорь Александрович будет работать под моим непосредственным руководством. Он сам будет назначать лечение и сам же будет выполнять некоторые процедуры. Надеюсь, все ясно, товарищи?
– Если под вашим чутким руководством, мы не возражаем.
– Пущай лечит, была бы польза.
– Надеюсь, все будет хорошо, – сказал в заключение Чуднов.
Мы вышли в коридор:
– На новенького больного – он у окна лежит – заполните историю болезни, а на других запишите только дневники. Что будет непонятно, спросите. Меня найдете в отделении или в кабинете главного врача, на первом этаже.
– Хорошо, Михаил Илларионович.
– Да! – спохватился Чуднов. – Все инъекции, вливания, клизмы и прочие процедуры старайтесь делать сами, если даже умеете. Повторение – мать учения. Особенно в нашем деле. Ведь не зря говорят, что врач не, имеет права ошибаться. Согласны?