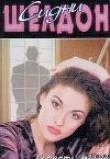Текст книги "Человек должен жить"
Автор книги: Владимир Лучосин
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
Вскоре Чуднов всех распустил и начал звонить на фабрику, где работал Петров. Долго не мог дозвониться, телефон был занят, но минут через двадцать все же дозвонился и говорил с председателем фабкома и с директором фабрики. Они договорились действовать сообща, чтобы доказать Петрову, как важно для его здоровья возвратиться в больницу.
Потом и Чуднов ушел. Я остался в ординаторской один и начал заполнять дневники. Захотелось нарисовать Рындина. Но стол был застелен новым листом бумаги, и я не посмел. Минуту спустя вошла Валя, сказала:
– Культурные люди на столах не рисуют. – И скрылась за дверью.
Как она догадалась, что Вадима Павловича рисовал я?
Терапевт Орлова все еще болела, и я по-прежнему принимал в ее кабинете. Я успевал принимать всех больных участка, и Екатерина Ивановна говорила:
– Я бы уже выдала вам диплом, ей-богу, Игорь Александрович!
В этот день ко мне снова записался Краснов.
– Руфа, – сказал я сестре, – найдите, пожалуйста, рентгеноскопию желудка. – И я подал ей амбулаторную карту Краснова.
Она сходила в регистратуру и принесла заполненный рентгеновский бланк. Я прочел: «Ниша на малой кривизне желудка».
– Ну что, доктор? – спросил Краснов.
– Язва. Язвенная болезнь желудка. Как себя чувствуете?
– А все так же. Что ни съем, рвотой вычищает. Может, в больницу положите? Или, может, у меня не язва, а что-нибудь похуже.
– Что вы, папаша! У вас язвочка ноль пять на один сантиметр, на малой кривизне желудка. Значит, хотите в больницу?
– Как же, хочу.
– Руфа, пишите направление, – сказал я.
Вот каким я стал важным. Направления и рецепты уже почти не писал сам, Руфина писала, а я лишь подписывал.
До сих пор направления в терапевтическое отделение подписывала только Екатерина Ивановна. А что, если самому подписать? Примут или откажут? Самое плохое, что может быть, – это звонок дежурного врача. Позовут к телефону Екатерину Ивановну, она пожмет плечами и пошлет за мной. А я скажу, что просто забыл дать ей на подпись.
Руфа подала мне направление. Хорошо пишет: и кратко и понятно. С минуту я медлил, потом взял ручку, подписал свою фамилию, а на обороте – назначение и номер стола. Чуднов рассказал мне про все столы, которые готовит больничная кухня.
– Можете идти, или вас лучше отвезти на машине? – спросил я Краснова. Это было в моей власти.
– Если можете, велите отвезти, – сказал Краснов.
– Руфа. – Я сказал только одно слово. Руфа все поняла. Я очень уважал ее за это. Об одном и том же дважды ей говорить не приходилось.
Минуты через три Руфа возвратилась.
– Краснов, – сказала она, – машина ждет вас во дворе.
– Большое вам благодарение, люди. – Он вышел.
Люди!.. Он благодарил нас обоих.
Я подумал в эту минуту о всех, кто лечит больных, о всех людях в белых халатах. Одни лечат лучше, другие хуже, но все они облегчают страдания или вылечивают совсем. И даже мы, студенты четвертого курса, приносим какую-то пользу, пусть очень маленькую, а все же пользу.
– Вызывайте, пожалуйста, – сказал я Руфе.
Она вышла из кабинета и тотчас возвратилась.
– К вам просится Петрова, жена того больного.
– Пусть зайдет. – Я не мог догадаться, зачем она пожаловала.
Вошла миловидная хрупкая девочка. Совсем не было похоже, что она жена, мать двоих детей. Я пригласил ее сесть.
– Вы, конечно, знаете моего мужа. Ему нужен больничный лист.
– Это ваш муж сбежал из больницы? Зачем он убежал?
– Надо у него спросить. Я советовала ему возвратиться, потому что какое дома лечение? Но он и слушать не хочет. Не было такого случая, чтобы он меня послушал.
– Зачем же вы шли за такого? – спросил я.
– Дура была. Вот и пошла.
– Это правда, что у вас двое детей?
– Конечно. Так дадите больничный лист?
– Почему же он сам не придет?
– Чувствует себя плохо. Суставы болят, температура. Он прийти не сможет. Лежит.
– Посоветуюсь с заведующим поликлиникой и тогда скажу вам, подождите в коридоре, пожалуйста.
Я сходил в кабинет к Чуднову. Его там не было. Я позвонил в больницу. И там его не оказалось. Пошел к Екатерине Ивановне. Она сказала, что надо согласовать с Михаилом Илларионовичем, поскольку случай скандальный. Надо посетить больного на дому. Сделайте вызов через регистратуру.
Я сказал Руфе, и она записала вызов.
Пригласил жену Петрова в кабинет и сказал, что к ним придет сегодня врач и тогда будет принято решение о лечении и больничном листе.
– Ему нужен только больничный лист. Ему обязаны выдать, ведь муж не может работать.
– А в лечении он не нуждается?
– Дома он не будет ничего принимать. Он никогда не принимает таблеток и микстур. А меня он не слушает. Что с ним может быть, доктор?
– Я не пророк, – сказал я. – Ему надо в больницу лечь, а что может случиться с ним дома, не знаю. Уговорите, чтобы он лег в больницу.
– Я уже пробовала, не слушает… Значит, придет врач? Спасибо. А выдаст он больничный лист?
– Это вы у него спросите… Руфа, вызывайте следующего.
Вечерняя конференция началась, как обычно, ровно без пяти минут семь. Докладывали участковые терапевты.
На первом участке было все спокойно. Сделано десять активных посещений к гипертоникам и раковым больным. На втором участке один температурящий, взят под контроль и наблюдение.
– Предположительный диагноз? – спросил Чуднов.
– Малярия. Кровь на исследование взята. Скоро будет ответ.
«Здесь есть малярия, – подумал я. – Укусит комарик – и вся практика полетит вверх тормашками». И, словно угадав мои мысли, Чуднов сказал:
– Игорь Александрович, вам для сведения… Малярии у нас осталось очень мало, единичные случаи, а было время, когда болело чуть ли не поголовно все население. Через какой-нибудь год, думаю, мы и вовсе ликвидируем это заболевание… Так-с, прошу третий участок.
Это был участок Орловой, которая все еще болела. Это теперь был мой участок. Я принимал больных именно с этого участка, а вызовы на дому обслуживал врач с непонятным именем, который просил называть его Иваном Ивановичем.
– На третьем участке обнаружен больной Петров, – сказал он. – Состояние его пока удовлетворительное, но он все же нетрудоспособен. О больнице и слушать не хочет. Петрову мною выдан больничный лист. Больной взят под особое наблюдение, как не желающий лечиться. По участку сделано семь активных посещений.
Четвертой выступала, как всегда, Екатерина Ивановна.
– Сделано пять активных посещений к хроникам. И хочу сообщить вам приятную новость; завтра выходит на работу доктор Орлова… Нужно поблагодарить, и я благодарю нашего уважаемого практиканта Игоря Александровича, который весьма успешно заменял Орлову на поликлиническом приеме. Я очень им довольна. – Екатерина Ивановна платочком обтерла лоб.
Все смотрели на меня. Я опустил глаза и рассматривал носки своих ботинок. Я думал о том, что кончилась моя свободная, самостоятельная жизнь. Руфа перестанет мне подчиняться, больные будут смотреть на меня как на практиканта.
С кем буду работать завтра? Орлову я совсем не знаю, а вот к Екатерине Ивановне я успел привыкнуть, она добрая старушка.
Когда все вышли и остался лишь Чуднов, я спросил, к кому мне идти завтра.
– А к кому бы вы хотели?
Я сказал.
– К ней и пойдете… А с Петровым целая история. Были у него на дому представители фабкома, он и им сказал, что категорически отказывается от больничного лечения. И как причину называет наше нечуткое к нему отношение. Мы же оказались виновными. Сделайте, Игорь Александрович, для себя соответствующие выводы.
Мне было очень неловко, потому что во всей этой истории был частично замешан и я.
– Как вам нравятся наши вечерние конференции? – спросил Чуднов.
– Нравятся, – сказал я. – Они очень краткие и никого не обременяют. Да и польза есть.
– Хорошо сказали. Мне доставляет удовольствие, Игорь Александрович, слышать это от вас. Свежий человек замечает многое из того, к чему мы, старожилы больницы, привыкли и чего уже не замечаем – плохое оно или хорошее.
– А вот утренние конференции… – заикнулся я.
– Ну, говорите же! – попросил Чуднов.
– Может, я и не прав, но… длинные они, по целому часу… и утомительные, иногда скучные. – И для убедительности добавил: – Захаров тоже так думает.
– А Гринин? – опросил Чуднов.
– С ним не беседовал, – сказал я, – но, наверное, и он такого же мнения.
– Интересно. Ну, а предложение не созрело у вас? Вы смелее, Игорь Александрович. За смелость никто не осудит.
– Два раза в неделю, а не каждый день, – сказал я.
– Два раза? А может быть, хватит и один? Ну, например, в субботу? Будем собираться и подводить итоги работы за неделю. Как?
– Это еще лучше, – сказал я. – Все врачи будут довольны. У каждого освободится целый час.
– Решено! Еще кое с кем посоветуюсь и…
– До свидания, Михаил Илларионович, – сказал я, заметив, что дверь кабинета приоткрылась и в щели появился глаз Захарова.
Я на цыпочках вышел.
– Опять главврачу лекцию читаешь? – Гринин деловито жевал папиросу.
– Опять.
– На какую тему, если не секрет?
– О влиянии погоды на нашу практику.
– О! Тема актуальная!
Придя в больницу, я первым долгом забежал в свою палату.
Краснов лежал на третьей койке от окна и смотрел на меня. Значит, приняли. С моей подписью приняли.
– Лекарство давали? – спросил я.
– Давали, Игорь Александрович. Спасибо за заботу.
Ночь пролетела незаметно, как один час, и снова мы в больнице.
Зная чудновскую точность, мы старались никогда не опаздывать. К восьми утра мы пришли в приемный покой и сели на свои обычные места: Гринин на кушетку, а я и Захаров на стулья возле часов. Разговорились о футболе и не заметили, что уже десять минут девятого.
– Что же это такое? – спросил Захаров. – Почему никого нет?
Сверили часы. Часы в порядке. На лицах Гринина и Захарова недоумение. И тут я вспомнил о вчерашнем разговоре с Чудновым и рассказал товарищам.
Мы пошли по своим отделениям.
Я зашел в ординаторскую за историями болезней. Чуднов, заметив меня, вытащил за цепочку из кармашка брюк часы и сказал:
– Опаздываете.
Я сказал, что все мы сидели внизу, в приемном покое и не сразу догадались, что утренней конференции не будет. Я не думал, что уже сегодня ее может не быть.
– Так, так, на первый раз прощаю, – сказал Чуднов и коротким взглядом посмотрел на меня. Затем одной рукой он приоткрыл брючный кармашек, второй начал опускать туда за цепочку часы, словно ведро в деревенский колодец. Потом снова посмотрел на меня и спросил: – Вы куда это с папкой собрались?
– В палату, – сказал я.
– Завтракать идите. Теперь завтракать в восемь будете, а не в девять. Предупредите товарищей.
После завтрака я приоткрыл дверь палаты, где лежал Коршунов. Он сидел на кровати. Возле него на стуле сидел Гринин. Я закрыл дверь и пошел к своим больным.
Белов неподвижно лежал на спине. Лишь глаза его двигались, наблюдая за мной.
– Как ваши дела? – спросил я, подходя к нему.
– Лучше, Игорь Александрович. Надоело лежать на спине, но ничего не попишешь. Надо ведь?
– Обязательно, – сказал я, считая пульс. Затем я выслушал его сердце и легкие.
– Как? – Он смотрел, повернув ко мне глаза.
– Есть некоторый сдвиг к лучшему, – сказал я.
Подошел к Руденко. Как всегда, бледный и злой.
– Болит поясница? – спросил я.
– Хоть и меньше, но я не надеюсь. Мне не выкарабкаться. Не зря в нашу палату каждый день заходит морговский доктор… Как его…
– Вадим Павлович, – подсказал Иванов.
«Разведали, все-таки разведали, – подумал я. – Кто мог им сказать?»
– Вот-вот, Вадим Павлович зайдет и смотрит на меня, а я нарочно глаза прикрою, чтоб его порадовать. А сам все вижу. Постоит он и уйдет. Не дождется, бедный… Вот аппетита нет, и голова болит.
– Аппетит появится, и голова пройдет, и вообще вы поправитесь и выпишетесь из больницы в полном здравии. – Я говорил это, опираясь на мнение Чуднова. – Нельзя так мрачно смотреть на жизнь. – Я измерил у него кровяное давление, выслушал сердце и легкие, слегка постучал по пояснице и сказал: – Вот сегодня уже лучше.
Я побеседовал со всеми старыми больными и заполнил дневники, потом подошел к Краснову и развернул пустую еще историю болезни. Я заполнял ее час и десять минут. Когда я уже закончил, вошел Чуднов и взял у меня историю болезни, сел на стул, прочел внимательно и, глядя на меня, сказал:
– Все папироски подсчитали! И сколько граммов алкоголя употребляет в месяц и в неделю. И описали всю жизнь от рождения. И когда женился, и на ком, и здоровье жены, и сколько имеет детей. И сам Краснов каким ребенком по счету родился. Биография. Вся жизнь как на ладони. Хорошо, Игорь Александрович.
Он похвалил меня и все же, словно не совсем доверяя, выслушал Краснова, задал несколько вопросов. Потом он осмотрел всех других больных моей палаты. В коридоре сказал, чуть улыбаясь:
– Вы молодцом у меня. Из вас выйдет прекрасный терапевт. Конечно, учиться еще и учиться, но фундамент у вас заложен прочный. Не скрою, я мог бы дать вам таких больных, в которых вы запутались бы… даже мы, врачи, зачастую не можем как следует разобраться, вызываем консультантов из Москвы, но зачем я буду давать вам сейчас таких больных? Учиться надо прежде всего на типичных, студенческих случаях. Не так ли?
– Конечно, Михаил Илларионович.
– Вот доучивайтесь, кончайте институт и приезжайте к нам на постоянную работу, – сказал Чуднов. – С удовольствием возьму вас к себе. Квартиру дам. Не комнату, а квартиру. Как?
Я не знал, что сказать. Впереди еще два года учебы. Кем я захочу быть: терапевтом, хирургом или… Мало ли кем?
– Может быть, я буду не терапевтом…
– Конечно, конечно! Это уж вам решать. У вас будет еще время подумать. Взгляды и наклонности формируются не за один день и не за один год. Кем бы ни были – приезжайте!
– Спасибо, Михаил Илларионович. – Я был тронут до глубины души. Еще немного, и у меня навернулись бы слезы. С двенадцатилетнего возраста со мною не случалось такого. Я сказал: – Если буду терапевтом, приеду к вам. Ну, а если хирургом – не обещаю: Золотов… Золотов не даст жить…
Мы сидели в ординаторской. Чуднов молча смотрел в окно на сосны и дымил, дымил…
– Михаил Илларионович, зачем вы курите? – спросил я. – Другим запрещаете, а сами курите. Больные люди поневоле с сомнением относятся к словам врачей.
– Давнишняя привычка, надо сказать, вредная привычка. Несколько раз бросал, но более трех месяцев не выдерживал. Силы воли не хватало. Вы не курите, кажется?
– Нет.
– Вы просто паинька. Ваше счастье, что не приучились, а то, может, тоже не бросили бы.
– А вот Захаров в прошлом году бросил, – сказал я. – Он курил с четырнадцати лет.
– Очень похвально. Было бы, конечно, неплохо, если бы законом запрещалось курить и пить водку медикам. Вы, Игорь Александрович, правильно сказали: мы лекции читаем, ведем пропаганду за здоровый быт, а сами порой… Уж в крайнем случае кури, только дома. Вот тогда ты можешь с чистой душой идти в аудиторию, на народ. Читай лекцию – и тебе поверят. Кстати, по программе практики студенты должны и лекции читать. Вы знаете? Так что прошу… прочтете лекцию о вреде курения и алкоголя, а вторую… а вторую по собственному выбору. Подумайте над темой и мне потом скажете. Набросайте конспект.
– О раке, – сказал я.
– Можно. Интересная тема. Вот и готовьтесь. Скажете вашей участковой сестре, она найдет вам объект и подготовит аудиторию. А теперь идите и исследуйте у Краснова желудочный сок, кровь, мочу… все, что полагается. И не забудьте взять кровь на реакцию Вассермана. Мы берем у всех независимо от диагноза. Полезно. И посмотрите, как ставится реакция. Впитывайте, впитывайте все возможное…
Я дослушал до конца, встал и вышел. В коридоре встретилась Валя.
– Игорь Александрович, Иванов просит ветчины! Можно купить? – Валя смотрела куда-то в сторону. Она все еще дулась на меня.
– Почему ему захотелось ветчины? Потому что в больнице не дают?
– Доктор должен знать. – Валя все еще не смотрела на меня, мяла поясок халата.
– Ну, купите, если просит! Этакое дело, ветчина.
– А можно ему? – спросила Валя, ее бровки поднялись вверх, и она кротко взглянула мне в лицо, но не в глаза, а куда-то в подбородок.
– Можно! – выпалил я.
– А Чуднов ругать не будет? – Валя чуть заметно улыбалась.
– А вы как думаете? Будет ругать? Ну, скажите! Я очень прошу вас, Валя.
– Нет! Вас не будет! – И она взглянула мне прямо в глаза, дерзко и проникновенно. Я даже испугался этого откровенного взгляда.
После обеда Захаров и Гринин пошли в школу, а я решил прогуляться по городу. Я все еще надеялся встретить ту девушку – Венеру. Я вглядывался в лица женщин, иногда нагонял тех, которые шли впереди, если они хоть чем-нибудь напоминали ее.
Я прошел через весь город, видел три средние школы, библиотеку, электростанцию, сберегательную кассу, банк, пошивочное ателье, сапожную мастерскую.
Я зашел на рынок и обошел все ряды и ларьки и осмотрел всех покупателей и продавщиц. Вполне возможно, что она могла быть и здесь. Я купил три пучка зеленого луку и литровую банку сметаны. В больнице нам этого не давали.
Шел и читал все афиши на заборах. Может быть, она артистка? Почему бы и нет? Школа бальных танцев объявляла набор учащихся. Нет, для нас это не подходит, времени нет. Да и вообще. Что такое танцы? Без них вполне можно обойтись.
Возле газетных витрин толпились люди. Из-за их спин я ничего не видел, но постепенно начал вклиниваться между ними и вскоре уже мог читать. Снова пишут про военную опасность. Неужели – Западная Германия, наследница Гитлера, получит ракеты с ядерными зарядами? Нет, вряд ли война будет. Ведь теперь и у нас многое есть… Они побоятся начать.
Несколько минут спустя я стоял возле большой витрины универмага и рассматривал велосипед. Ко мне подошла женщина с ребенком. Женщина и сама была почти ребенок, ей было на вид лет восемнадцать.
– Будьте любезны, – обратилась она ко мне нежным голоском, – подержите мою малютку. Я сбегаю в универмаг за соской. Только одну минутку. Ну, две!
В жизни своей мне не приходилось держать на руках младенцев – это совсем не мужское дело. Мне бы надо было сказать, что я спешу на работу в поликлинику, пусть бы она какую-нибудь женщину попросила. Но я медик и обязан быть самым гуманным из всех людей. Я как болван смотрел на эту милую молодую мать, потерявшую соску. Она тоже смотрела на меня нежно и умоляюще, и я не смог ей отказать и сказал:
– Давайте. Только не больше двух минут.
– Какой вы замечательный человек! – Она положила на мою правую руку теплый белый сверток, а сама неторопливо пошла в универмаг.
В левой моей руке литровая банка со сметаной и лук, на правой – спящий младенец.
Проходит минута, две, пять – нет матери! Меня это мало тревожит: в универмаге много народу. Может быть, очередь за сосками, откуда я знаю? А может быть, ей и еще что-нибудь нужно купить.
Прохожие почему-то начинают обращать на меня внимание. Я не пойму, что привлекает их взгляды. Наконец одна старушка в синем платочке подходит ко мне и говорит:
– Молодой папаша, у вас сметана по брюкам льется. Я могу подержать ребенка.
– Спасибо. Не беспокойтесь, – отвечаю я и становлюсь боком к витрине, чтобы не было видно, что я вымазан. Жду еще несколько минут. Потом смотрю на электрические часы, висящие на противоположной стороне улицы, – прошло четырнадцать минут, как ушла мать.
Ребенок начинает шевелиться, вскоре слышу его плач, а я не знаю, как его успокоить. Снова прохожие смотрят на меня странными глазами.
Почему же так долго не идет мать? Поискать? Я не решаюсь войти в универмаг, чтобы не разминуться с нею. Чего доброго, она не увидит меня возле витрины и подумает, что я хочу похитить ее ребенка.
Четыре часа дня, уже начался прием в поликлинике. Не могу устоять на одном месте, прохаживаюсь вдоль витрин.
Глаза мои невольно устремляются на широкую дверь универмага: входят и выходят люди, а моей мамаши нет. Закрадывается мысль: а не подкинула ли она этого младенца? Она пожалела бросить его где-нибудь во дворе и решила отдать в руки человека. Но почему она выбрала своей жертвой меня? Неужели во всем городе не нашлось лица более глупого? Этого я понять не мог.
Прошло более часа. Что же делать? Куда идти? В больницу? В поликлинику? Засмеют. Пойду-ка я в милицию.
Мне очень мешала банка со сметаной. В незнакомом дворе возле водопроводной колонки я смыл с брюк сметану, потом зашел в булочную, купил двести граммов хлеба и в сквере съел его с луком и с остатками сметаны. Банку оставил на скамейке.
У меня освободилась левая рука, и я теперь уверенно взял уснувший живой сверток и направился в отделение милиции. Я вспомнил милиционера дядю Лешу, с которым мы встретились в день прибытия на станцию. Помнит ли он меня?
Дежурил не он, а тощий лейтенант. Он меня подробно расспросил и, кажется, не поверил тому, что я рассказал. Как назло, паспорт мой был в школе.
– Где работаете? Где учитесь? – спрашивал он.
– Нигде, – отвечал я. Мне не хотелось называть больницу. – Я приезжий. Я приехал сюда, чтобы разыскать товарища, но потерял адрес и шел на вокзал, когда подошла эта женщина.
– Неправдоподобно. – Дежурный смотрел на меня с подозрением.
Младенец снова начал плакать. Я сказал лейтенанту:
– Достать молока вы можете? Ребенок есть хочет.
– А можно молоко? Сколько ему?
– Понятия не имею, – сказал я.
– Мальчик или девочка? – спросил он.
– Если интересуетесь – проверьте, – сказал я. – Я не эксперт.
Лейтенант сидел на стуле и смотрел на меня. Не знаю, о чем он думал.
– Вы так и не сказали: можете вы принести молока с соской?
– У нас нет молока, – ответил лейтенант. – Откуда в милиции молоко? А сосок и тем более нет.
– Ну, тогда сдайте ребенка в ясли или в больницу. – В конце концов вы дежурный и предпринимайте какие-нибудь меры, ищите мать или там еще кого-нибудь, вы же дежурный, – сказал я. – Не могу же я держать младенца на своих руках до бесконечности. – Я почувствовал, как что-то теплое поплыло по моим ногам. Я понял, в чем дело, и поднял сверток с ребенком вверх. Возле моих ног образовалась лужица.
Лейтенант засмеялся. Он смеялся долго, минуты две, потом спросил:
– Это он или вы?
– Неуместные шутки, – сказал я. – Я буду жаловаться на вас. Вы несерьезно ведете себя на дежурстве. Я пришел к вам за помощью, а вы сидите как чурбан и смеетесь.
Лейтенант кашлянул, подтянул портупею и сказал:
– Осторожнее выражайтесь, гражданин. Я никуда не отпущу вас до утра. Будете ждать, пока не придет начальник.
– А вы позвоните ему, – попросил я.
– У него нет дома телефона.
– Не верю. У начальников телефон всегда есть.
– Наш не любит, чтобы его беспокоили.
– Я положу сейчас ребенка на ваш стол и уйду.
– Вы никуда не уйдете, гражданин. Если будете плохо вести себя, я велю посадить вас под замок.
– Не имеете права, – сказал я.
– Тогда увидите.
– Значит, мне ждать до утра?
– Да.
– Если ребенок умрет, я подам на вас в суд, – сказал я. – Я обвиню вас в тяжелом преступлении.
– Меня? – спросил лейтенант. Лицо его стало очень серьезным.
Что же делать? Надеяться на помощь этого служаки не приходилось. Надо самому как-то выпутываться. Ребенок охрип от плача.
– Разрешите позвонить, – сказал я.
– Куда?
– В больницу.
– Зачем? Я должен знать зачем.
– Я хочу вызвать врача. Ребенок, кажется, болен. У него начинается аппендицит.
– В таком возрасте не бывает аппендицита, – возразил лейтенант. Однако в светлых глазах его промелькнул страх.
– У моей сестры был именно в таком возрасте. Не даете звонить, не надо. Против вас еще один факт.
– Звоните. Я не запрещаю, когда знаю зачем.
Я схватил трубку, соображая, куда лучше адресоваться. Захаров с Грининым как раз в эти минуты ужинают в больнице. Я позвонил в терапевтическое отделение и попросил позвать Захарова. Ребенок кричал прямо в трубку, высунувшись из пеленок.
– Ну вот, – сказал лейтенант, – а говорили, у вас нет знакомых в городе.
Я ничего ему на это не ответил. Я услышал голос Захарова:
– Ну что там у тебя стряслось, Игорь? Почему в поликлинике не был? Откуда звонишь?
Я рассказал ему суть дела и попросил:
– Выручай, а то милиционер хочет держать меня здесь до утра.
– Чем же тебе помочь? Приехать? Ладно, сейчас прикачу на машине.
Минут через пятнадцать к зданию милиции подкатила карета «Скорой помощи». Вошли Захаров и дежурный врач. Поздоровались.
– Мы заберем подкидыша в больницу, – сказал дежурный врач и приоткрыл пеленки. Красное личико с черными пуговками-глазами смотрело на нас.
– Не возражаю.
– У нас есть и молоко и разные молочные смеси.
– Отдаю с пребольшим удовольствием, – сказал лейтенант. – Забирайте. Только расписочку оставьте. Вот бумага.
Дежурный врач написал расписку. Лейтенант прочел ее и сказал:
– Забирайте. А мать этого подкидыша мы обязательно найдем.
– Только не вы, – сказал я. – Другие, может, и найдут.
– Минуточку! – Лейтенант встал из-за стола. – Вы знаете этого гражданина? – Он показывал на меня авторучкой.
– Господи! Да это же наш сотрудник, – сказал Захаров. – Вижу, вы тут с ним немного тово…

Дежурный врач сказал мне:
– Ну, папаша, прошу. – И жестом указал на дверь. Дежурил врач по кожным болезням.
Все улыбались, даже лейтенант милиции. Только мне было обидно и горько. Я вынес ребенка на улицу. Не знаю, что бы я сделал с той, которая дала этому существу жизнь.
Придя в школу, я принялся в раковине стирать свои брюки. Сушил я их над электроплиткой в соседнем классе.
Вошел Гринин, сказал:
– Поздравляю, Игорек. Ты, оказывается, проворный парень. Уже папашей стал.
– Таким папашей сделаться нетрудно. – Я сидел перед плиткой на корточках.
Мне надоело сушить брюки, я повесил их на спинку стула, выпрямился и подошел к окну. В открытую форточку доносилась танцевальная музыка из парка.
Валя… Чем дальше уходила от меня Венера, тем все ближе становилась Валя. Я вспомнил первое впечатление о Вале. Тогда я был уверен, что она и не посмотрит в мою сторону. Но появилась другая, и я бросился за нею. Зачем? Валя… тихая и такая красивая. Ну, не такая, как Венера… и все равно в двадцать раз лучше меня. Каюсь, Валя, что я такой непостоянный. Но ничего, я исправлюсь, и ты узнаешь, каким хорошим другом я могу быть для тебя.
Я прошел по классу, потом пошел гулять по залу. Хорошо, что среди нас одни ребята и по школе можно разгуливать в трусах.
Запахло гарью, и я, вспомнив о своих брюках, стремглав побежал обратно в класс. Что я надену, если они сгорят?
От плитки поднимался дым. Это догорал мой носовой платок, каким-то образом выпавший из кармана.
В час ночи я принялся отглаживать утюгом, взятым в больнице, свои брюки. Может быть, никогда еще учительский стол не испытывал такого давления.
Когда я вошел в общежитие, Гринин и Захаров уже спали.
Я повесил брюки на вешалку и лег на койку, накрывшись одеялом с головой. Теперь будильник тикал приглушенно.
Я вспомнил первую ночь, проведенную в этом классе. Тогда я мечтал совершить подвиг, теперь я знал, что совершить его не так-то просто.
Как я завидовал Коршунову, его умению! Если бы хоть когда-нибудь я был похож на него!
Хорошо мечтать о подвиге, о славе, об открытиях, а вот попробуй соверши хотя бы самую малость сам.
И все же… я надеюсь. Правда, уже не так, как в первую ночь, проведенную здесь.
Я уже начинал засыпать, когда услышал стук в окно. Или мне показалось? Лениво высунул голову из-под одеяла. Я пока еще не знал, что стук в окно ночью – это значит, чья-то жизнь в опасности. Стук повторился.
Кому понадобилось нас будить? Может быть, в больницу привезли интересного больного и дежурный врач послал за нами? Захаров, кажется, просил на утренней конференции всех врачей об этом.
Я побежал к окну и вгляделся в темноту: женщина держала на руках ребенка.
«Опять женщина с ребенком! – мелькнуло в голове. – Опять какая-нибудь каверза».
Женщина подняла руку. Я просунул, голову в форточку и спросил:
– Что случилось?
– Умирает мой Гришенька. Помогите! Мне сказали, тут доктора живут.
Я услышал глухие рыдания. Голос женщины был немного знаком. Я не мог вспомнить, где его слышал.
Ах, это Гриша… Не тот ли, который пас корову под дождем в день нашего приезда?
Раздумывать было некогда. Когда просят о помощи, некогда долго раздумывать. Я закричал изо всех сил:
– Подъем! Тревога! – и включил свет.
Первым вскочил Захаров. Спросил:
– Что случилось?
Гринин сел, сбросив с себя одеяло.
– Пожар? Пожар на первом этаже не страшен, чего орешь?
– Быстро одевайтесь! – крикнул я. – Человек умирает! – И, натянув брюки, выбежал из класса. Открыл ключом входную дверь, сбежал с крыльца, закричал: – Несите сюда!
Я взял мальчика на руки, внес в класс и положил на стол, на котором недавно гладил брюки. И подумал, что, может быть, никогда еще на этом столе не лежал больной человек.
– Что с сыном? – спросил я женщину.
– Не знаю. Ничего не знаю.
Губы ребенка не двигались.
– Он же не дышит! – сказал Гринин.
– Может, он подавился костью? – спросил я.
– Зачем вы сюда его принесли? – крикнул Гринин. Лицо его выражало испуг и растерянность.
– Рассказывайте быстрее. Что с ним? – потребовал я.
– Он второй день ничего не ест, только чай пьет. Больше ничего не знаю.
– Надо осмотреть горло, – сказал Захаров.
Мы начали осматривать рот ребенка – ничего плохого. Тогда я засунул ему палец в рот: может быть, удастся нащупать кость? Кости не было.
Попробовал руки Гриши – холодные, посмотрел на ногти – синеватые. Приоткрыл веки – глаза мутные. Меня обдало холодом.
Я схватил тонкую ручку мальчика. Пульса не было. Но вот опять пульс. Слабый, такой слабенький, что его едва ощущали кончики пальцев. Я чувствовал, с какими огромными усилиями вконец ослабшее сердце проталкивает кровь. Жив Гришка! Но тут снова пульс пропал, он исчез совсем, и сколько я ни искал, найти не мог. Я подумал, что пульса и не было вовсе, что мне это лишь показалось. Наверно, это был не его пульс, а мой, пульсация мелких сосудов в моих пальцах.
Я стоял возле стола и смотрел на синеющее лицо мальчика. Я с радостью отдал бы ему свое сердце, вот сейчас, в эти секунды.
Пульса не стало, и Гриши не стало. Он должен был жить. Я должен был его спасти и не смог!..