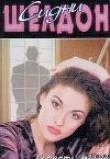Текст книги "Человек должен жить"
Автор книги: Владимир Лучосин
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)
Владимир Лучосин
Человек должен жить
ПОВЕСТЬ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
НАЧИНАЕТ ПОВЕСТЬ ИГОРЬ КАША

Итак, мы едем на практику.
Позади четыре курса института: лекции, занятия в лабораториях и клиниках, где нас нафаршировывали знаниями, не забывая, впрочем, напоминать, что мы-де ничегошеньки не усваиваем. Честное слово, нас почти убедили в этом. И оттого еще более хотелось знать, способны ли мы хоть на что-нибудь. И не терпелось отдернуть занавес и своими глазами посмотреть, что же за ним: большой мир с тайнами и загадками нашей профессии или серые провинциальные будни, ехали на практику как в свое будущее.
Пригнувшись, я тащил на плечах чемодан. Накрапывал дождь. Пот струйками катился по спине и лицу, потому что мой чемодан весил не менее двух пудов. У меня сосало под ложечкой, словно я шел в кабинет к грозному Владимиру Никитичу сдавать экзамен по терапии.
– Вы не Каша?
Я осторожно опустил чемодан на асфальт перрона.
Нет, это не ко мне. Незнакомый парень в черном пальто нараспашку, выставив напоказ золотые пуговицы офицерского кителя, стоял метрах в шести от меня. Он всматривался в лица прохожих и у некоторых спрашивал: «Вы не Каша?» От него отмахивались, кто сердито, а кто улыбаясь.
Вот он шагнул к студентику в черном плаще и зеленой шляпе.
– Извините, вы, случайно, не Каша?
– Нет, бифштекс!
Я чувствовал себя оскорбленным. Зачем потешается этот тип над доброй моей фамилией? Я ухватился за ручку чемодана и пошел, куда шли все, – к зеленым вагонам поезда. Вдруг кто-то дотронулся до моего локтя. Взглянул: опять он!
– Постой, постой, ты, кажется, и есть Каша, а? – Он глядел на меня серыми, очень ласковыми глазами, и раздражение мое исчезло.

– Зачем тебе Каша? И кто ты такой? – спросил я.
– Ну, пойдем, пойдем, расскажу. Ну и чемоданище у тебя – давай помогу. – Не ожидая разрешения, он взялся за ручку, и мы пошли к седьмому вагону.
– Я думал, не найду тебя. Вчера я узнал в институте, кто едет на мою базу, и секретарь назвала твою интересную фамилию. Вот и решил познакомиться с тобой как можно раньше. Ясно?
Я ничего ему не ответил. Этот парень, сам еще не знаю почему, начинал мне нравиться. Прежде всего подкупала его простота. Позже, когда мы уже сидели в вагоне, я увидел, что и внешность у него довольно симпатичная. Темно-русые с блеском волосы, зачесанные назад, правильный нос. Я заметил его привычку играть морщинками на лбу: то нахмурится, и тогда две вертикальные морщинки прорезают лоб; то поднимает брови, и тогда морщинки, словно волны, располагаются вдоль бровей. Особое впечатление произвел на меня, конечно, его анатомически правильный нос. Я завидовал всем, кто родился с нормальным носом. Не знаю, как произошло, что у меня, русского человека, нос был горбатый, как у горца. И мои голубые глаза и совершенно светлые волосы совсем не шли к этому носу.
В вагоне мы вспоминали профессоров. Оказывается, они читали лекции и его потоку.
До сих пор я не знал ни фамилии, ни имени моего спутника. Но вот он представился:
– Захаров. Николай. Образца тридцатого года. Национальности – вятской. Происхождения – колхозного. – Все это он произнес одним духом и поиграл морщинками на лбу. – Еще вопросы по биографии есть?
Нет, у меня вопросов не было. Я не любил разговоров на эту тему, потому что у меня не получалось биографии. Когда я в школе вступал в, комсомол, она заняла полторы строчки: родился… учился. С тех пор она не выросла – ведь не будешь писать о сессиях и оценках, особенно когда хватаешь тройки.
Захаров очень удивил меня, сказав, что Владимир Никитич поставил ему по терапии «отлично». Меня Владимир Никитич дважды просил из кабинета, а в третий раз я к нему не пошел. Из нашей группы вслед за мной вылетело из его кабинета еще шесть человек, то есть больше половины. А из тех, кого он не провалил, никто не получил даже четверки. Все дрожали перед ним и забывали то, что еще знали в школе: что сердце в левой половине груди, а селезенка совсем не обязательный для человека орган. Одна девушка сказала, что и печень не обязательна. Владимир Никитич рассердился и показал ей на дверь. Я тогда подумал, что профессором быть не так уж трудно: надо только уметь нагонять страх на студентов и подчиненных. Сотрудники клиники стояли перед ним навытяжку. Студенты перед ним не вытягивались. Наверно, ему это не нравилось. Он любил дисциплину. Когда он приходил на лекцию, вся аудитория вставала, а если кто-либо продолжал сидеть, Владимир Никитич жестом заставлял его подняться. Все двести человек смотрели на провинившегося.
За окном мелькали поля, перелески. Придорожными болотцами брели тонкие березки. Казалось, они хотят выйти на сухую землю и не могут.
– Студентики! Приехали, милые, – сказала пожилая проводница, остановившись возле меня.
– Спасибо, мать, – поблагодарил Захаров. – Дай бог вам хорошего зятя!
– Угадал! Вот кончай – и в наш дом.
– Спасибо, мать. Но не понравлюсь дочери. Профессия больно неспокойная. Как ночь – так меня зовут на работу.
– Что ж это за ночная у тебя профессия, сынок?
– Э-э…
– Скорей! Поезд уж…
Едва мы сошли, поезд тронулся. Проводница помахала нам желтым флажком. Мы помахали ей кепками.
На перроне среди пассажиров мы старались разыскать третьего студента, который должен проходить практику вместе с нами, – Гринина. Но не нашли. Возможно, он еще не выехал из Москвы. Возможно, первым сошел с поезда и был уже далеко от станции. А может быть, заболел. Мало ли что может случиться с человеком.
Всю дорогу мы ехали под дождем, и сейчас небо по-прежнему было обложено темными тучами. Дождь, как видно, зарядил надолго.
Захаров поднял воротник пальто, я поднял воротник плаща, с наших кепок стекали дождевые капли.
Мы пошли к неказистому деревянному домику станции. В правом угловом окне по-домашнему горел оранжевый свет, точно такой, как у нас дома, и я подумал о том, где мы будем сегодня ночевать.
Вокруг домика росли высокие березы. Было слышно, как дождевые капли ударяют по листьям. Слева от станции, в канаве, заросшей густой травой, паслась белая в черных пятнах корова, возле нее стоял босой мальчик лет шести в большой железнодорожной фуражке с красным верхом.
Мне было жаль этого мальчишку, потому что он стоял под дождем, под холодным дождем и мог заболеть. Он почти ничем не был защищен. Темный взмокший мешок, прикрывавший его плечи, конечно, не грел и был, по сути дела, холодным компрессом.
– Сейчас же иди под крышу! – крикнул я строго. – Никуда твоя корова не сбежит.
Он ответил тоненьким слезливым голоском:
– Папка будет бить.
По голосу мне показалось, что мальчик уже простужен.
У дверей станции Захаров вдруг остановился и тревожно посмотрел на освещенное оранжевым светом окно. Я тоже посмотрел туда. Окно как окно, ничего особенного. Но под окном в траве лежал мужчина лицом вверх. Рядом на коленях стояла женщина и тормошила его за плечи.
– Подойдем ближе, – сказал Захаров.
Мы вошли в палисадник. Здесь росли высокая трава и мокрые желтые цветы. Ветер шевелил ветви берез, и на нас полетели крупные капли; мы словно попали под холодный душ. Глядя на мужчину и женщину, я не думал, что с этих минут и начнется наша практика, и совсем не по программе.
– Муж? – спросил Захаров.
– Пьяница он горький.
– Живой?
Я не ожидал такого вопроса.
– Разве не видите? – спокойно ответила женщина.
– Сейчас посмотрим, – сказал Захаров и взял руку мужчины.
На мужчине были кирзовые сапоги с блестящими подковками.
Я осторожно опустил чемодан в траву и взял другую руку мужчины. То ли есть пульс, то ли нет. Не поймешь. Но рука теплая. Попробовал лоб – тоже теплый. Посмотрел на Захарова:
– Ну что?
– Пульс как будто есть, но очень слабый. – Морщинки на лбу Захарова собрались гармошкой. Он подумал с минуту, потом сказал: – Ввести бы ему кофеина, нашатыря дать понюхать, а то и внутрь.
– Нашатырь нюхать? – Женщина засмеялась.
Я не понял, почему она смеется.
– Живете далеко? – спросил Захаров.
Женщина показала рукой на освещенное окно.
Отсюда, из палисадника, хорошо был виден оранжевый абажур с красивыми кисточками, темный старинный гардероб с зеркалом.
– Эх, нашатыря бы ему! – сказал Захаров. – У вас должен быть нашатырь, если он часто пьет.
– Некогда в аптеку сбегать. Да он и не помогает. «Скорая» раз приезжала, давали нюхать и в горло хотели влить. Не помогает!
– Чем же вы его в чувство приводите?
– Проспится и песни начинает петь.
– Эх, нашатыря бы! – проговорил Захаров. – Не верю, что он не помогает.
– Не поможет, – произнес за березами зычный голос.
Мы услышали приближающиеся шаги. Вскоре показался милиционер. На боку висела кобура с пистолетом. Милиционеру было лет сорок. Меня поразили его усталые глаза.
– Это вы сказали «не поможет»? – спросил Захаров.
– Так точно, я.
– Почему не поможет? – спросил Захаров и посмотрел на меня.
– Действительно, – сказал я. – Почему вы так говорите, товарищ милиционер?
Милиционер смотрел на нас, как на малолетних детей.
– Ну, прямо горе, когда люди берутся не за свое дело, – сказал Захаров.
Эти слова, видимо, задели милиционера за живое.
– А вы кто такие, что мне указываете? Документы! – И лихо козырнул.
– Не козыряйте, сами козыряли шесть лет, – спокойно сказал Захаров. – Вызовите лучше «Скорую помощь». У нас нашатыря нет с собою. Помочь человеку надо.

– «Скорую помощь»? – Милиционер усмехнулся, но так, чтобы не видела женщина.
– Ну, чего вы стоите? – крикнул Захаров. – Где телефон?
Мы сами позвоним, если вам трудно. Это не входит в ваши обязанности? Постой здесь.
Каша, я зайду на станцию.
– Не беспокойтесь, гражданин, – сказал милиционер. – «Скорая» сейчас прибудет… Все-таки кто вы такие? Меня, как блюстителя порядка, это касается. Что-то я не встречал вас в нашем городе.
– Скажи ему, Каша, кто мы такие.
– Студенты из Москвы, – сказал я. И хотел добавить: «Медики», – но закусил губу. Поведение милиционера было не совсем обычным, он что-то недоговаривал.
– Студенты? На практику? Химики?
– Да! Химики, – опередив меня, ответил Захаров.
Милиционер подошел ко мне и сказал на ухо:
– Он уже конченый, понятно? «Скорая» приедет лишь для того, чтобы установить факт смерти.
– Да вы что, шутите? – крикнул я и, присев на корточки, схватил руку мужчины. Теперь она показалась мне холодной, пульса я не нащупал.
– Ну, убедились? Между прочим, вы как врачи, те тоже сразу за пульс, а вот я, хоть и не врач, по одному виду определяю. – Милиционер вытащил пачку «Беломора» и закурил. Он стоял напротив окна, и на немолодом лице его застыл оранжевый свет.
– Надо перенести его в квартиру, – предложил Захаров. – Здесь сыро.
– Квартира теперь ни к чему, – сказал милиционер, выпуская изо рта дым. – Все равно придется выносить.
– Это почему? – спросил Захаров.
– Дядя Леша свое дело знает туго, так что вы, студентики, можете не беспокоиться.
– Мелете всякую чепуху, товарищ милиционер, – сказал Захаров. – Вы чересчур ленивый, как я посмотрю. И зачем вас держат такого на службе? – И уже более примирительно: – Сами видите, идет дождь, сыро, человек может простудиться, лежа на земле.
– Уже не простудится. Поверьте дяде Леше, – спокойно ответил милиционер.
– Вот положить бы вас на землю и побрызгать дождичком, – сказал Захаров и, отвернувшись от милиционера, надвинул на лоб кепку.
Только теперь я понял, что Захаров не знает главного. Я сказал ему. Он присел на карточки и начал искать на руках мужчины пульс, и по его лицу я понял, что пульса он не нашел. Тогда он вытащил из чемодана фонендоскоп и, подняв пиджак и рубаху мужчины, приставил фонендоскоп к груди в том месте, где находилось сердце. По тому, как неправильно складывал он фонендоскоп, я понял, что сердце мужчины не бьется.
Кажется, наконец и женщина поняла, что произошло. Она молча заплакала, содрогаясь всем телом.
Жалобно замычала корова.
– Сирота моя горемычная, Гриша, иди… – Женщина плакала, хотела подняться и не могла.
Я сбегал за мальчиком, помог пригнать корову, загнал ее в сарай. Но я не знал, что сказать мальчику, и посоветовал ему идти домой. Он весь продрог, часто икал. Вскоре я увидел его в комнате. Он повесил на спинку стула мешок, а сам быстро разделся и лег в постель, накрывшись с головой. Оранжевый абажур светился все ярче, потому что надвигался темный июньский вечер.
Подкатила машина «Скорой помощи», к нам подошел врач, высокий мужчина в белом халате.
– Десять раз умрешь, пока вас дождешься, – сказал милиционер.
– Дядя Леша, – сказал врач, – хоть бы ты не бросал тень на плетень. Были действительно срочные вызовы. Понимаешь?
– Я-то понимаю, а вот они… претензию к вам имеют. – Милиционер указал на нас.
Мы молчали.
Врач склонился над мужчиной. Халат врача был совершенно оранжевым. Меня не интересовало, что делает врач. Я знал, что сделать он уже ничего не сможет.
Женщина плакала. Мальчик лежал в теплой постели, закутавшись с головой. Я видел его через окно и думал о загубленной жизни. Больше всех мне было жаль мальчика, будто это был я сам.
Врач скомкал фонендоскоп и сунул его в карман халата.
– Вот студенты-химики на практику приехали, может, подвезете? – спросил милиционер у врача. – Подвезите, что вам стоит? Вот у того чемодан пуда три. Кирпичей наложил, что ли?
Меня удивило, что милиционер между делом успел проверить вес моего чемодана.
– Не возражаю, – сказал врач.
Мы сели в машину. На «Скорой помощи» я никогда не ездил. Я смотрел в окно, приподымая брезентовую занавеску. Машина не ехала, а летела по улицам города. Тревожные сигналы будоражили воздух. Прохожие останавливались, смотрели нам вслед, и, наверно, никто из них не подозревал, что на этот раз машина везла совершенно здоровых людей.
Мы были здоровы, но настроение было плохое. Кажется, никогда оно не было таким подавленным.
– Переночуем в гостинице? – предложил я Захарову.
– Лишние деньги пригодятся на выпивку. – Он посмотрел на меня и мрачно улыбнулся.
Машина остановилась у длинного одноэтажного здания. Врач вышел из кабины и взбежал на крыльцо, которое заскрипело под ним. Он скрылся за стеклянной дверью.
– Больница, – услышал я чей-то голос. Кажется, это сказал шофер. Неужели эта лачуга и есть больница?
Все окна темные, лишь одно освещено. Колышется занавеска. Свет падает на толстый ствол дерева, на лепестки белых цветов под окном.
Шофер открыл нам дверку и сказал с изысканной вежливостью:
– Ну, химики, вытряхивайтесь.
Я взялся за свой чемодан и хотел уже вытаскивать его из машины, но Захаров подмигнул мне и сказал, чтобы я посидел. Он и шофер, о чем-то беседуя, пошли к крыльцу, вошли в здание. Минуты через три они возвратились, шофер завел мотор.
Мы опять поехали. Я вопросительно смотрел на Захарова.
– Это у них поликлиника, тут же «Скорая помощь». А знаешь, Гринин нас опередил.
Я не сразу понял, кто такой Гринин, но потом вспомнил, что это третий студент, которого мы искали на станции.
Машина остановилась, и я снова увидел крыльцо, но более высокое и с крышей. «Начальная школа № 2», – прочел я вывеску. Дом одноэтажный, длинный, из толстых бревен.
Шофер начал сигналить. Даже мертвые могли проснуться от пронзительных звуков. В Москве за такой шум шофера оштрафовали бы, а здесь, наверно, шуметь было еще в моде.
Широкие окна школы осветились изнутри. На крыльцо вышел высокий парень в свитере канареечного цвета. «Хороший свитер», – подумал я. Руки парня опущены глубоко в карманы серых брюк, брюки хорошо отглажены. Во рту парня дымилась папироса.
– Добро пожаловать, – сказал он, не вынимая папиросы изо рта.
Поднявшись на крыльцо, я увидел, что он выше меня на целую голову. У него были умные черные глаза, черные вьющиеся волосы, зачесанные назад, и тонкая полоска черных усов на верхней губе. Я узнал его. Он, конечно, с нашего потока. Но только раньше я не знал его фамилии и вообще был с ним не знаком. На потоке двести человек, разве перезнакомишься со всеми даже и за четыре года?
Припоминаю, что я никогда не чувствовал к нему особой симпатии, и если мы встречались где-либо в бесконечных институтских коридорах или на улице, то я не считал себя обязанным здороваться первым.
Он был слишком яркий и шумный, всегда окруженный толпой похожих на него ребят. Постоянно сыпал остротами и анекдотами, которые не казались мне смешными. Он явно метил в вундеркинды. Я же был из другого теста. Я любил только слушать. Мне было бы трудно с ним дружить.
Едва мы сняли свои чемоданы, машина «Скорой помощи» уехала.
Гринин посторонился, когда мы проходили в дверь, и остался на крыльце докуривать папиросу.
Мы вошли в класс. На левой стене черная доска, в желобке сухая тряпка и кусочек мела. На полу поблекшие чернильные пятна, одно небольшое пятно проглядывало даже сквозь побелку на стене. Вдоль окон деревянная вешалка метровой высоты человек на сорок.
Класс казался очень большим и просторным, потому что все парты были вынесены. Остался лишь учительский стол. Три кровати, застланные коричневыми байковыми одеялами, стояли вдоль стен. Крайняя кровать у окна была занята Грининым. Самое лучшее место! Я занял следующую. Захаров бросил свой чемоданчик на кровать, стоявшую у двери. Крышка открылась, вещи вывалились, и я увидел: ни одной книги. Я везу целую библиотеку по трем предметам, а он…
– Ну вот, совсем неплохая дача, – услышал я голос Захарова, – а ты хотел в гостиницу. Сейчас все москвичи на дачах, и мы оказались не хуже.
– Пожалуй, – согласился я.
Вошел Гринин, сел к столу. Раскрыл портсигар и со стуком поставил его на черный лакированный стол.

– Закуривай, ребята.
– Сдуру еще в прошлом году бросил, – сказал Захаров. – Игоря угощай.
А я вообще не курил.
– Образцовые ребята. Кто же из вас Каша? – спросил Гринин.
– А ты угадай. – Захаров открыл форточку. – Давай, парень, сразу договоримся: в общежитии не курить. – Он прошелся по классу. – Ну, так кто же из нас Каша?
– Наверное, ты, – зевая, протянул Гринин.
– Угадал! – засмеялся Захаров.
Гринин щелкнул портсигаром, сунул его в карман и прилег на кровать. В его руках появилась только что вышедшая шестая книга «Нового мира» за 1960 год.
Мы с Захаровым пошли знакомиться со школой, заглянули во все уголки, наконец захотели есть и сели ужинать. Гринин уныло сидел на кровати. У него, должно быть, не было ничего съестного. Первым его пригласил Захаров. Потом и я подал голос.
Гринин долго отнекивался, но затем сел к столу, сказав:
– Если уж вы так хотите, пожалуйста.
Я вытащил из чемодана свиное, сало, черный хлеб, зеленый лук. Захаров выложил два белых батона, сыр и колбасу.
Мы съели все это почти дочиста.
– Жаль, чайку нет, – сказал я, укладывая остатки припасов в чемодан. – Или молочка бы. Люблю горячее молоко.
– А сырой водицы не хочешь? – спросил Гринин.
– Что я, за дизентерией сюда приехал?
– А зачем воду хлорируют? – не отставал Гринин.
– Потому что надо! – Я начал сердиться.
– Ты, я смотрю, чудак, – сказал Гринин и протянул мне стакан воды. – Пей! Клянусь, не заболеешь.
Я спокойно отстранил его руку со стаканом.
– Хочешь – пей, а к другим не приставай! Понял?
Захаров меня поддержал:
– Ну, чего пристал? Не хочет сырой – пусть не пьет. Пусть кипяченой достанет. – Он выпил мой стакан и прибавил, глядя на Гринина: – Хороша вода! Спасибо… Давайте лучше поговорим о завтрашнем дне, ведь завтра идти в больницу.
Но поговорить в этот вечер нам не удалось. Едва мы забрались под одеяла и согрелись, как уснули. Даже свет не успели выключить.
Последние звуки, которые я слышал, были гудки паровоза. Меня удивило, что они слышны очень ясно, словно паровоз катит по школьному двору. Тут я вспомнил, что форточка открыта и за форточкой – дождливая, приближающая звуки тишина.
В половине девятого утра мы вышли из школы и направились в больницу. После Москвы с ее многоэтажными зданиями и шумным нескончаемым потоком машин очень странно идти по улице маленького города. Тихо и пусто, и чего-то не хватает.
Вдоль плитчатого мокрого тротуара длинной цепочкой стоят липы. Их намокшие стволы почти черны, блестит промытая за ночь листва. За желтыми, коричневыми и зелеными оградами раскинулись напоенные дождем огороды, а в глубине, среди плодовых деревьев и кустов, стоят симпатичные замысловатые домики с террасами. Представляю, как хорошо жить в таких домиках: выйдешь утром – и ты в саду.
Первыми, кто повстречался на нашем пути, были пушистые желтые гусята. Они смотрели на нас своими крошечными глазками и оживленно попискивали.
За поворотом улицы мы увидели двухэтажное здание из красного кирпича, крытое розовой черепицей. Это большое здание могло быть и школой, но когда во дворе мы увидели людей в белых халатах, сомнений не осталось.
– Приготовиться к принятию цветов. Оркестр играет туш, – сказал Захаров, глядя на нас.
– Очень мы нужны больнице! – отозвался Гринин.
– Что ты понимаешь, парень! – мягко улыбнулся Захаров. – Сестры будут строить нам глазки. Премудрые доктора свалят писание историй и ночные дежурства. Мы нужны! Ну прямо как воздух, как хлеб.
– Как молоко, – добавил Гринин и посмотрел на меня.
Признаться, я думал, что нас все же будут встречать, ну, не с цветами, не с оркестром, конечно, а просто так, без всяких пышностей. Но, как видно, все были заняты, и никто не догадался даже посмотреть на нас в окно. А мы шли, немного оробев, во всяком случае, я могу это сказать про себя.
На песчаном дворе больницы кое-где стояли высокие голые, словно ощипанные, сосны, ветер раскачивал их из стороны в сторону. Холодные, черные, насквозь промокшие скамейки были пусты.
Четыре громоздкие белые колонны сторожили вход в больницу. Дверь была застекленная, открывалась и закрывалась мягко, не скрипела.
В вестибюле было пусто и тихо, пахло йодом и хлоркой и едва уловимым запахом духов. Недавно здесь прошла женщина..
– Батюшки! Никак практиканты! – вскрикнула старушка гардеробщица. Я не заметил, откуда она появилась.
– Гусей от верблюдов не отличили, мамаша, – деланно-строго сказал Захаров. – Мы же врачи из министерства, больницу приехали проверять. Где тут у вас главный?
Улыбка на лице гардеробщицы погасла.
– Вам кого? Веру Ивановну? Главного врача?
– Ее.
– Нету. Болеет она, бедняжка. Молодая, а хилая. Радикулитом мается.
– Не верю. Врачи не болеют. А тем более – главные.
Старушка смотрела с недоумением.
– Врачи, говоришь, не болеют? – спросила она.
Захаров вдруг рассмеялся и начал снимать пальто. Сказал доверительно:
– Мы, конечно, практиканты, мамаша. Вы правильно определили. А заместитель у главного имеется?
– Михаил Илларионыч? Тут он. Раздевайтесь. Я сейчас доложу.
Она пропустила нас в раздевалку и начала смотреть, как мы раздеваемся, во что одеты. Не очень приятно, когда на тебя смотрят в такие минуты. Она увидела на мне дешевый серый костюм и простые черные ботинки с калошами. Две мои сестры учились, мать работала только дома, одному отцу трудно было нас всех хорошо одеть. Слесарь получает не ахти сколько.
На Захарове был не первой новизны зеленый армейский китель, черные гражданские брюки и черные, хорошо нагуталиненные полуботинки. Выгодно отличался от нас Гринин. На нем было все дорогое, новое: светло-серый костюм, кремовая шелковая рубашка, туфли с узором. Я уже не говорю про серый плащ и серую шляпу с шелковой лентой.
– Вот этот действительно министерский доктор, – сказала мне гардеробщица, глазами показывая на Гринина, – только молод больно. Наши, которые доктора, тоже в шляпах. А Михаил Илларионыч в кепочке, как вы. Не любит форсу.
Я стащил с головы кепку и повесил поверх плаща.
– Ну, а халаты? – спросил Гринин, поглядев сверху на старушку.
– Сейчас узнаю. Вот закрою на замочек раздевалку и узнаю. – Старушка вертела в руках замок, он не хотел закрываться.
Мы вышли в вестибюль. Пол как большая шахматная доска – из синих и красных плиток, стены выкрашены масляной краской в голубой цвет, рамы окон – в белый. Светло.
Широкие стеклянные двери вели в коридор первого этажа.
Через дверь видна была крутая лестница – кажется, чугунная.
Минуты через три на ней показалась гардеробщица. На согнутой левой руке она несла халаты, правой держалась за перила. Видно, лестница была скользкая.
Я гадал: какие она несет халаты – бортовые или с завязками на спине? Мне больше нравились бортовые – их легче надевать, и они красивее.
– Берите, студентики!
Мы начали одеваться. Халаты были с завязками, но зато новые. Мне так редко случалось носить новые вещи.
– А халатики еще ненадеванные, – сказал я, пощупав хрустящую ткань.
– Есть чему радоваться, – сказал Гринин. – Они обязаны были выдать нам врачебные.
– Врачи носят и такие, – сказал Захаров.
Чтобы поскорее одеться, мы завязывали друг другу тесемки на спине и рукавах.
– Шапочки ищите в карманах, – сказала гардеробщица. Она смотрела в окно. На подоконнике стоял зеленый большой чайник. Из стакана с густо заваренным чаем шел пар.
В Пироговских клиниках нам не выдавали ни халатов, ни шапочек, на каждое занятие мы приносили в портфелях собственные. В клиниках мы были лишь студентами. А здесь мы были и студентами и уже не совсем студентами. Я не вытерпел и вытащил из левого кармана брюк круглое зеркальце. Все бы ничего, настоящий доктор, только вот нос…
– Дай, пожалуйста, – попросил Гринин.
Я дал ему поглядеться. Он пригладил брови, поправил черный в белых блестках галстук. Осмотрел левую щеку, правую, погладил подбородок. Хорош!
Во мне вспыхнула зависть, но только на мгновение. «Эх, мать честная, почему я не такой видный!»
– А вот и Михаил Илларионыч, – сказала гардеробщица.
По лестнице со второго этажа медленно спускался грузный человек в белом халате.
Как раз в эту минуту во все окна ярко брызнуло солнце, и я увидел загорелое лицо с маленькими, чуть раскосыми глазами, крепкую толстую шею и кусочек волосатой груди в вырезе халата. На голове волос не было, и она блестела, будто зеркальная.
Я смотрел на Михаила Илларионыча, не отрываясь. Было в его фигуре что-то медлительное, медвежье, косолапое и в то же время добродушное, близкое. Пройдя дверь, он вытянул вперед свою загорелую руку и так шел с нею к нам.
– Добро пожаловать! Чуднов, заведующий терапевтическим отделением. – Подойдя к нам вплотную, он поклонился и долго жал каждому из нас руку большими мягкими ладонями. Сразу словно гора свалилась с плеч, и меня охватило такое чувство, будто после долгой разлуки я попал к близкому родственнику.
Чуднов повел нас в комнату, которую он назвал приемным покоем. Там меня удивили огромные часы в деревянном футляре. Массивный медный маятник качался настолько важно, будто сознавал, что без его движений остановится время.
Чуднов указал нам на кушетку, а сам сел за небольшой стол, накрытый простыней. И халат его и простыня сливались в одно целое, белое, ослепительное; даже больно было смотреть на эту белизну, на эту чистоту, освещенную утренним солнцем.

– Значит, и отдохнуть не пришлось после экзаменов? – спросил Чуднов.
– Здесь отдохнем, – ответил Захаров. – Или не придется?
– Почему же? Вполне сможете и отдохнуть. Перегружать мы вас не собираемся.
– А, говоря откровенно, мы приехали к вам не отдыхать.
– Правильно, – поддержал я Захарова. – Мы будем продолжать учиться. Практика в этой больнице – продолжение институтской программы.
– Золотые слова. Гениальные слова, – заметил Гринин.
Я покраснел.
Чуднов пристально посмотрел на нас. Не знаю, что он подумал.
– Вероятно, каждый из вас мечтает стать хирургом? – спросил он.
– Угадали. Я, например, хочу, – сказал Захаров.
– Я тоже не прочь, – буркнул Гринин. Он был не в духе.
А я спросил:
– Как вы узнали?
Чуднов легонько так, чуть-чуть, улыбнулся.
– Ведь я тоже был студентом. Как вы думаете, был я студентом?
– Конечно! – ответил я. – И академик проходит эту стадию развития.
– Гениально, – шепнул мне Гринин. – У тебя гениальные задатки, юноша.
Я не обижался на Гринина, пусть упражняется в остроумии, если хочет.
С широкого загорелого лица Чуднова не сходила все та же легкая, обращенная в далекие годы улыбка.
– На третьем и на четвертом курсе почти все увлекаются хирургией; это и понятно. Молодость, романтика, жажда подвига. Ну, а на пятом курсе тропинки начинают расходиться. Но вам до этого еще далеко. – Он слегка махнул кистью руки. – Не стоит и голову ломать. Все само собой определится, и однажды вы узнаете, для чего родились. А пока будьте хирургами! Я как терапевт не возражаю. – Он взглянул на часы в деревянном футляре. – Вот минуты через три – так мне сказали – кончится операция, придет заведующий хирургическим отделением, и мы вас поделим. – Он улыбнулся.
– Поделите? – спросил я.
– Да. Между мной и Золотовым.
Дверь шумно распахнулась, и на пороге я увидел красивого седого человека. Ему было лет пятьдесят. Пышная шевелюра. В черных глазах светился ум. Первая мысль, которая пришла мне в голову, была: «Профессор!» – такая же величавость движений и жестов, накрахмаленный белоснежный халат и улыбка человека, знающего себе цену.
– Здравствуйте, товарищи студенты, – сказал вошедший и сел к столику правее Чуднова.
Это и был Золотов, заведующий хирургическим отделением.
Теперь все были в сборе, и Чуднов кратко рассказал о содержании производственной практики. Затем спросил, кто в каком отделении хотел бы начать работу.

Первым откликнулся Гринин:
– Конечно, в хирургическом!
– Почему «конечно»? – спросил Золотов.
– Я привык брать быка за рога, – ответил Гринин.
– Неплохо, – сказал Золотов. – Если уметь это делать.
Врачи переглянулись.
– А вы где хотите начинать? – Чуднов обращался к нам.
– В хирургическом, – ответил Захаров.
– Я тоже. – Мне хотелось быть вместе с Захаровым.
– Нельзя же так, – сказал Чуднов. – Почему всем начинать с хирургического?
– Заговор против терапии, – сказал нараспев Золотов. – Я могу взять сразу троих. Если уж всем так хочется ко мне, могу взять. – Золотов говорил, красиво растягивая слова.
– Возражаю. – Чуднов растопырил пальцы и провел ладонью по голове, очевидно забыв на мгновение, что волос-то давным-давно нет. – Не могу отдать всех. Нерационально. У вас будет густо, а у меня пусто. А потом наоборот. Что хорошего?
Логично! Вот и пускай берет себе Гринина.
– Вы ко мне пойдете, молодой человек, – решительно сказал Чуднов.
Он смотрел на меня. Все, кажется, смотрели на меня и ждали, что я скажу. «Кто-то должен уступить», – подумал я. Захаров не уступит, Гринин, наверно, тоже. Значит, уступить должен я. Другого выхода нет.
– Пойду к вам, – сказал я.
И начал утешать себя, чтобы не было так обидно. Быть в отделении одному даже лучше: больше успею. То, что они будут делить, мне достанется одному. Когда я перейду в хирургическое отделение, все операции пройдут через мои руки, ведь я буду единственным практикантом. Вот тогда-то я и придумаю новую операцию, которую будут потом изучать в институтах. И когда я рассудил вот таким образом, то был даже доволен, что все так хорошо получилось.