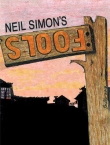Текст книги "Кухня: Лекции господина Пуфа, доктора энциклопедии и других наук о кухонном искусстве"
Автор книги: Владимир Одоевский
Соавторы: Илья Лазерсон
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 39 страниц)
<25>
Кухноисторические и филологические изыскания доктора Пуфа, профессора всех наук и многих других (окончание)
– Все это очень хорошо, милостивый государь, – примолвил мой оратор, сделав какую-то престранную мину, – очень хорошо! Стало быть, вы восстаете против русской народности? ась?
Я вытаращил глаза от удивления.
– По вашему мнению, – продолжал он, – у нас не было даже народной кухни? Так-с?
– Напротив, государь мой, если вы не изволили забыть, я даже открыл неизвестные вам письменные памятники русских блюд…
– Позвольте, позвольте… тут не об учености дело – ученость дело стороннее, а вы утверждаете, что состав русских блюд и способы их приготовления потеряны, что теперь их не различишь с татарским, немецким и какими бишь еще?
– Ну, хоть греческими…
– Не так ли?
– Это в глаза бросается…
– Стало быть, вы утверждаете, что, собственно, теперь нет русской кухни…
– Я утверждаю, что над этим делом надобно хорошенько потрудиться, поучиться и потом определить, что русская, что татарская, что немецкая кухня…
– Долга песня, милостивый государь, – все эти разыскания, учения, труды, все это в вас от западной пытливости, от своеволия, от безнравственности…
– Как, сударь, ученье, труд – от своеволия, от безнравственности?.. Что вы такое изволите говорить…
– Да так, сударь, точно так, я сужу по теории здравого ума; вы говорите – ученье да разыскания, – а зачем разыскания? Оттого что сомневаетесь; а в чем же сомневаетесь? В том, какая была у нас кухня? Следственно, вы не признаете русской кухни, следственно, вы не признаете русской народности – следственно, восстаете против русской народности и против всего святого в мире – это ясно, как дважды два – четыре…
– Довольно чудная логика!
– Что мне ваша логика! Логика – вздор, пытливость, наваждение, – а тут, сударь, не логика, а теория здравого ума и исторических опытов.
Признаюсь, несмотря на мое испытанное мужество, я таки немножко трухнул, но благодаря моей проницательности я не замедлил увериться (что, впрочем, говорят, давно уже заметили читатели), что предо мною весьма любопытное явление по части психической патологии. Мне тотчас вспало на мысль, что субъект в таком восторженном состоянии – почти поэт и должен иметь способность к изобретению самых эксцентрических блюд; как профессор я не мог не воспользоваться столь благоприятным случаем, но как человек благоразумный я стал немножко подальше.
Субъекты такого рода весьма редки и потому тем более заслуживают внимания ученого мира. В них замечательно то, что у них слова перескакивают через мысли, а мысли через слова; это странно, а действительно так: заговорите с ним – он из ваших слов поймет лишь пятое, восьмое, десятое и так далее, всего остального он и не слыхал; заставьте его говорить: сначала кажется, и туда и сюда – как будто есть что-то похожее на смысл, но вдруг дойдет до какого-нибудь слова – и свихнется, словно блудливая лошадь: едет по большой дороге, вдруг махнет на проселочную и пошла через рвы, через буераки, напропалую. Для будущих наблюдателей замечу, что с этими субъектами должно обращаться осторожно; главное правило: не должно им противоречить и между тем надлежит держаться подальше, потому что при дальнейшем противоречии они получают наклонность кусаться, и их слюна не совсем безвредна.
Желая видеть, чем все это кончится, я, предварительно загородившись столом, спросил у моего субъекта очень вежливо:
– Позвольте спросить: к чему вы все это ведете?
– А к тому, сударь, что у меня есть тетрадка, куда я вношу разные вещи вроде ваших наблюдений…
– Очень полезное занятие, – вы по этой тетрадке, вероятно, учитесь…
– Мне, сударь, нечему больше учиться… извините… я не из таких…
– Так на что ж вам эта тетрадка?
Тут мой субъект улыбнулся такою улыбкою, какую могут иметь лишь люди, находящиеся в сем несчастном положении.
– На что? А! это моя тайна.
– Нельзя ли открыть?
– Пожалуй, я могу ее открыть, это дело нравственное; во-первых, эта тетрадка мне годится для того, чтоб поднять на фуфу моих противников, а во-вторых, когда посчастливится, и подставить им ногу, пусть перекувырнутся.
Тут мой субъект страшно захохотал.
– Очень приятно! – сказал я. – Так в эту тетрадку войдут и мои сочинения?
– Не все, а некоторые.
– Как не все? Уж если составляете свою тетрадку с такими благородными намерениями, так уж сделайте милость, вписывайте в нее все.
– Помилуйте! Вы хотите, чтоб я переписал всю русскую словесность со времен Ломоносова?
– Как же вы выписываете?
– Известно как! По моим соображениям! Строчку отсюда, строчку оттуда, как соединишь, и выйдет кока с соком.
Субъект снова захохотал.
– Это весьма благоразумно! Но, позвольте, если вы из моих сочинений выписываете следующее замечательное место: посади на вертел, обмажь маслом и поджаривай на легком огне, и по вашим соображениям вы вздумаете здесь остановиться, ведь можно подумать, что здесь невесть что, и никто не поймет, что здесь дело идет о цыпленке; иной подумает, что я предлагаю паштет посадить на вертел… Ведь подумайте, этим нарушится моя кухонная репутация, скажут: доктор Пуф – невежа, безнравственный повар.
– Что ж вы этим хотите сказать? – вскричал мой субъект, озлобясь. – Что у меня нет соображения, нет смысла, нет ума, нет нравственности?
Да и пошел, пошел, да все ко мне через стол тянется, я прибавил стул к моей защитительной системе и на всякий случай вооружился стаканом воды.
– Да знаете ли? – наконец воскликнул мой субъект. – Знаете ли, что я сам сочинитель?
– Знаю, знаю, – отвечал я смиренно.
– Да, сударь, я сам сочинитель, и в моих сочинениях есть высокие места. Словом, милостивый государь, все мои сочинения наполнены самыми высокими истинами, дышат чистейшею нравственностью и патриотизмом, и поверите ли? Моих сочинений не читают.
– Возможно ли?
– Никто не читает, и книгопродавцы не покупают.
– Может быть, глубина и свежесть ваших мыслей…
– Извините, милостивый государь, я ведь знаю свое дело: у меня нравственность так, для покрышки, но в моих сочинениях есть все, что нужно: и трагическое, и комическое, и историческое, и плачевное, и нежное, и забавное, и всякие, знаете, эдак, штучки, словом, все к пользе и удовольствию публики служащее, и нет, как нет! – не читают, сударь. Хоть что хотите. Стану издавать журнал, приму все предосторожности, напишу самые лучшие объявления, самые нравственные, самые патриотические, выйдет книжка, и кончено, за нею вслед – два подписчика. Соберусь с силами, понатужусь, еще напишу самые трогательные объявления, выдам еще книжку – один подписчик; словом, чем больше видно книжек, тем меньше подписчиков… Не обидно ли это?
– Очень удивительно…
– Нет, вы скажите, не обидно ли это?
– Без сомнения – обидно.
– Стану книги на свой счет издавать, – куда! Уж так они в лавках и известны под названием нечитальных, да и меня самого злодеи книгопродавцы прозвали нечитальным; вот, говорят, идет нечитальный сочинитель; скажите, не оскорбительно ли это?
– Весьма оскорбительно!
– Что ни предвижу, нейдет с рук, да и только! Уж я и письма к важным особам пишу, и отдаюсь им под покровительство, и честию их уверяю, что я самый полезный, самый приятный, самый нравственный писатель, доказываю им ясно, что по чувству патриотизма они непременно должны подписываться на мои журнал и покупать мои книги, – не тут-то было: на журнал не подписываются, книги ко мне возвращают, да иногда еще с нахлобучкой в придачу, – что прикажете делать? От дружбы отстал, себя разорил, жену, сестру, тетку, куму, детей и своих, и что под опекою у меня, всех, всех, – хоть в петлю, если б я не был человек нравственный и не надеялся, что как-нибудь, хотя за молитвы родителей, и потерянное возвращу, да и еще поживу, и за мою добродетель получу награждение…
– Надежды никогда терять не должно…
– А! хорошо! я вижу, что вы читали мои сочинения, – это моя фраза. Отчего же, скажите, другие-то не читают… – ну отчего? Отчего меня не читают?
– Я думаю, что в этом виновата публика…
– Да публика отчего виновата? Отчего? отчего? Ну, скажите…
– Я думаю, оттого, что не читает…
– Оттого, что читает других сочинителей!.. В том вся штука.
– Это очень непохвально с ее стороны…
А отчего она читает других сочинителей? отчего? Оттого, что ей надувают в уши эти проклятые журналы, вот-де вам Ломоносов, вот-де вам. Державин, вот вам фон-Визин, Крылов, Жуковский, Пушкин, Гоголь, – вот великие наши писатели, а об Сели– фонтове, Фомине, Друндылкине, Прощелыгине даже не упоминают, злодеи! У них и Пушкин – поэт; а что он за поэт! Наш великий критик Селифонтов давно доказал, что Пушкин совсем не поэт, а если и поэт, то никуда не годится, а не говорят проклятые журналы о поэтах, каковы, например, наши: Айай, Ивив, Охох, Егоза и Коврижкин; не говорят, что у фон-Физина и у Гоголя сплошь да рядом все выводятся безнравственные лица, следственно, и сочинения их безнравственны, что Капнист выводит напоказ ябедников и взяточников, что фон-Визин выводит ханжей, плутов и тартюфов, что у Крылова посрамляется даже образ человеческий, люди выводятся в образе зверей и скотов, – ну, скажите, на что это похоже! Да ведь это подрывает нашу старинную нравственность в самом корне! И все это не только терпят, но читают, хвалят, уважают… А к чему это все ведет? К просвещению. А просвещение ведет к торговле, к мануфактурам, к богатству, то есть к роскоши, а роскошь ведет к разврату и к вольнодумству – это известно от начала веков. И не знают они, эти журнальные провоз– глашатели, что все их хваленые писатели: Ломоносов, Державин, Карамзин, фон-Визин, Крылов, – все погрязли в римской ереси, что они все латинщики, что…
– Позвольте вас спросить, – прервал я, – вы эдак из староверов, из раскольников или из стрельцов?
– Из кого бы то ни было, – отвечал мой субъект, пришед в полное беснование, – а дело в том, что пора всему этому положить конец – мне надоело век оставаться нечитанным, да и делишки надобно поправить, ведь, в самом деле, не по миру же идти по милости Крыловых, Державиных да Пушкиных…
– Стало быть, ваша тетрадка?..
– Да, сударь; тетрадка моя пригодится, и очень; в ней все выписано, сведено, пояснено, доказано, а особливо до новейших-то и добираюсь; уж эти новейшие писатели у меня как бельмо на глазу, так вот и перебивают всюду дорогу. Погодите! погодите! понесу мою тетрадку тому, другому, третьему, и не раз, не два, а двадцать, тридцать раз, камердинеров подкуплю, заплачу и заплачу, в ногах буду валяться, на площадь кричать, уж услышат и уж что-нибудь да останется, и будет всем карачун, от Ломоносова до Гоголя, все прекратится, и надеюсь, публика будет читать мои сочинения!
– Все это очень хорошо придумано, только опасно немножко; если публика скажет, что все ваши благородные замыслы, так сказать, немножко от оскорбленного самолюбия, от зависти, от лицемерия и от прочих маленьких страстишек… потому что вы, вы сами… с позволения сказать… сочинитель…
– Э! батюшка, не без добрых людей на свете; у меня таки есть приятели, и не один, да еще такие, что никогда ничего не писали, да и писать не будут, так что уж никто их не упрекнет, что они хлопочут из зависти…
– Недурно! Ну да что из всего этого выйдет?
– Что из всего этого выйдет? – вскричал мой субъект в полном остервенении. – А! вы не знаете? Выйдет то, что мы одни с Прощелыгиным и с Селифонтовым будем писать, издавать, озирать, озарять, проникать, понукать, направлять, исправлять, поучать, наставлять, продавать, продавать, продавать, продавать…
Я испугался, плеснул в моего субъекта водою, он опрокинул на меня стол, я выскочил в дверь, он за мною с скамейкою… уж на улице его связали прохожие; до сих пор не могу еще прийти в себя от ужаса…
Вот, милостивые государи, до чего могут доводить самые благородные страсти, даже страсть к кухно-психологическим наблюдениям.
<26>
Письма к доктору Пуфу
Письмо первое
Милостивый государь почтенный доктор!
Не имея высокой чести быть лично Вам знакомым, я чувствую некоторую робость, адресуясь к Вам письменно. Но я знаю по Вашим кухнологическим творениям, что сердце у Вас доброе и открытое всему благонамеренному, и это дает мне довольно бодрости, чтоб обеспокоить Вас моим настоящим письмом. Вы, многоученый доктор, просветили столь многих в той части, которая была у нас доселе в несправедливом пренебрежении; Вы озарили светом истины для многих важнейшую часть их существования, показав, что у них желудочные отправления суть главные и даже единственные, стоящие внимания с точки зрения философской и исторической; Вы несомненно показали, что уметь есть – значит быть образованным человеком и что быть нас образованным человеком значит весьма часто уметь есть. Поэтому к кому же, как не к Вам, обратиться мне в настоящую минуту для разрешения моих сомнений, порожденных Вашим же глубокомысленным учением.
Итак, вот в чем дело. Недавно велением судьбы и вовсе не по своей охоте должен я был проезжать на долгих. Путем-дорогой, знаете, по обрядам езде на долгих, пришлось мне остановиться на привале в одной деревеньке, чтоб лошадей покормить да и самому покормиться. Вхожу в избу, и как дело было около полудня, то застаю семью крестьян за обедом. Сердце у меня встрепенулось от мысли поесть, потому что желудок мой (который, сказать мимоходом, весьма исправен) давно уже ворчал и сердился от праздности. Я поклонился хозяину и хозяйке, пожелал им хлеба-соли и попросил поделиться со мною чем Бог послал и утолить голод странника.
При этих словах хозяин, старик с черной всклокоченной бородой и сверкающими глазами, встал и сделал шаг вперед; прочие члены семейства сохранили свое сидячее положение и не сводили с меня глаз.
Я подошел к столу с чувством гастронома, когда ему подали у Смурова полсотни устриц, и что же вижу: небольшой кусок какой-то серой массы, которая, по моим догадкам, должна была представлять хлеб, и жбан с солью; посреди стола стояла миска с какой-то жидкой смесью, должно быть похлебкой.
– Хлеб да соль! – сказал я еще раз и озирал яству с глазами отчаяния, думая про себя: плохая пожива.
– Милости просим, – отвечал хозяин, не весьма радостным тоном, – чем богаты, тем и рады.
Семья пожалась на лавке к одному углу избы и очистила мне место. Я сел; посмотрел налево и направо, чтоб убедиться в том, что для обеда ничего более нет, кроме того, что было в то время на столе, и как я в нужде умею обходиться чем Бог послал, то, придвинув к себе кусок хлеба и вооружась деревянною ложкою, принялся за еду. Но, боже мой, что это был за хлеб! Вся масса была серая, черная, вязкая, недопеченная, непропеченная; зубы вязли в ней, как в грязи; каждый кусок, проходя горлом, драл его без милосердия; вкуса обыкновенного ржаного хлеба не было и следов. А похлебка! что это была за похлебка! Я уже не мог хорошенько разобрать, что в ней было.
– Отчего же у вас такой дурной хлеб? – спросил я хозяина.
– Отчего же он дурной! Он не дурной. Мало хлеба родилось лета-с; семья большая, так вот и подмешали мякинки – она ведь также хлеб. Ребятишки и то поедят, так как-нибудь и пробиваемся до нового хлеба.
Вот она, подумал я, первобытная, воспеваемая столь многими простота сельских нравов! Вот эта умеренность и довольство малым, которые многими называются чистотою нравов! Недавно случилось мне читать насмешки одного глубокомысленного и человеколюбивого господина насчет филантропов, которые желают, чтоб на столе у крестьянина почаще являлась говядина. Привел бы я этого господина, с его насмешками, в эту избу посмотреть, как люди едят мякину, называя ее хлебом. Этот господин, желая поострить насчет филантропов, советует им позаботиться, чтоб у каждого мужика являлось на столе по бутылке лафита. Но от лафита до мякины большое расстояние. Есть люди, которые, пообедав хорошенько у Леграна или у Дюме, думают, что все из встречающихся им на улице пообедали и сыты. Есть люди, которые могут смеяться и острить над всем, над самыми священными вещами. Бог с ними! Но Вы, почтенный доктор, Вы имеете сердце доброе и ум прямой и широкий! Вы не разделяете мнений этих сытых философов (хотя фигуры их иногда и очень постные); Вы сочувствуете нуждам ближнего. Итак, если Вы уже взяли на себя попечение о желудках своих соотечественников, то оставьте на время трюфели и устрицы – их весьма многие умеют есть и без остроумных наставлений. Скажите-ка лучше, как накормить того, кому нечего есть? Скажите-ка, отчего бывает много-много людей, которым нечего есть? Что уделит ваша богатая наука на долю бедняка, который имеет для своей пищи мякину? Научите, как сделать консоме, сальми, пудинг или ростбиф из мякины и воды. Да, так как Вы в одной из своих лекций доказали, что самое лучшее возбудительное для аппетита средство есть чистый воздух, то научите, как людям не жить в одной избе со скотом. Не забудьте, что это предмет весьма важный. Бедняки, я думаю, по общему закону природы, составляют везде большинство. Итак, вместо десятков желудков, к которым относятся доселе все Ваши наставления, составьте-ка кухнологические лекции для мильонов. Игра стоит свечей, я Вас уверяю. Да не забудьте в Ваших лекциях лафита господина-философа, о котором я упомянул выше.
С душевною преданностью честь имею быть, и проч.
Магистр Кнуф.
<27>
Взгляд и нечто о кухонной нравственности
Кухно-историко-филологические изыскания отвлекли меня на время от одного весьма важного предмета нашей науки, о котором я уже давно собирался поговорить с читателями, а именно: о кухонной нравственности. Предлагаю вам, господа, устремить на сей предмет все ваше внимание.
Но позвольте… как человек ученый я не должен отставать от ученых привычек; вследствие дидактической методы, которой все наши учебные книги одолжены такою ясностию, я должен прежде всего определить, что не естьнаша наука; когда мы узнаем, что она ни то и ни се, тогда, может быть, отгадаем что она такое.
Изволите видеть:
На сем свете есть много разных сортов нравственностей, – все более или менее чистые. Есть нравственность приказная, нравственность супружеская, нравственность канцелярская, нравственность семейная, нравственность журнальная, нравственность купеческая и проч. и проч.
По поводу этих разных нравственностей происходят разные утешительные вещи в мире: почтенный отец семейства крадет и берет взятки для доставления своей супруге и детям приятного препровождения времени – это нравственность приказная; нежные супруги чмокаются под вашим носом и рассказывают вам, как лекарю, муж – о всех подробностях жениной болезни, а жена о всех подробностях мужниной, это нравственность супружеская; основательный чиновник то сгибает спину до повреждения позвонков, то выгибает ее назад почти до той же степени, а между тем практикует искусство молчать и промолчать, сказать, недосказать и пересказать – это нравственность канцелярская; почтительный племянник с утра до вечера играет в дурачки с богатою тетушкою, забывая и книги, и службу, и развлечения, – это нравственность домашняя; благонамеренный журналист прямо и вкось старается уверить своих читателей, что его противник (то есть у которого больше подписчиков) явно нарушает все законы божеские и человеческие, – это нравственность журнальная; купец дерет сидельца за уши, зачем он не обманул покупщика, покупщик бранит слугу, зачем он не обманул продавца, – это нравственность торговая.
Между всеми этими нравственностями отличается нравственность прописная, то есть вся составленная из примеров для прописей, и в том ее особое отличие, что она ни к какому делу не прилагается. Есть целый журнал, посвященный этой нравственности, и уж такие есть для него особые сочинители, которые эти прописи пишут, и такие особые читатели, которые эти прописи читают, особливо когда эта нравственность провозглашается с трубами и тимпанами и кимвалом звенящим. В этом роде особенно отличаются господа Плошкины, Селифантовы, Байбайкины, Мостолыгины и другие известные сочинители и также поэты ejusdem farinae [173]173
Из одной и той же муки (лат.).
[Закрыть]. (См. «Плошку» – журнал здравого ума и разума, нравственности и добродетели.)
А все-таки кухонную нравственность определить трудно – что прикажете делать? Дидактическая метода не помогает; позвольте, господа, обойтись без определения, ведь определять значение слов очень невыгодно в свете: сколько бы хлопот могло наделаться в мире, если б определить значение каждого слова, то есть называть каждую вещь ее настоящим именем, да тогда шага бы нельзя было ступить; вам хочется, да и надобно, необходимо надобно под служиться сильному человеку или распустить небывальщину о вашем благоприятеле не из чего другого, а просто для нравственности кажется, дело самое достойное, и назови его настоящею кличкою – будет клевета, подлость, – ну, скажите, на что это похоже! Итак, прочь определения – объяснюсь просто, примером; недавно попалась мне книжка, содержащая в себе советы, как молодой женщине в доме порядок содержать, как за кухней смотреть, словом, как уметь жить; в этой книге я нашел истинную кухонную нравственность, которую я вельми предпочитаю прописной.
Вот, например, анекдот, приведенный почтенным автором сей нравственной книги.
«Я, – говорит он, – однажды захлопотался и опоздал домой к завтраку; вхожу в столовую, измученный, голодный, – смотрю: уж стол убран и об завтраке не осталось даже никакого воспоминания. Жена меня встречает пресердитая; дочь тоже губки надула. Жена говорит: „Вы, сударь, и меня и дочь уморили с голода, мы вас не могли дождаться; вперед, сударь, когда вы будете опаздывать, извольте завтракать одни, без того всегда будет беспорядок в столовой, вот вам наказание!"
С сими словами жена довольно невежливо втолкнула меня в кабинет, куда я вошел грустный, печальный, и даже собака моя поджала хвост, услыша такие грозные речи. Но что я увидел в кабинете! Возле работного стола моего был поставлен другой поменьше, покрытый чистою скатертью; на этом столе красовались две дюжины устриц, пара шпигованных телячьих котлет, бульбес, молодой горошек на сливках [174]174
См. ниже описание этих блюд. <Примеч. доктора Пуфа.>
[Закрыть], кусок честера, огромная груша и кофейник с мокским кофием, бутылка шабли, заверченная во льде, крупными каплями плакала от умиления, а жена с дочерью хохотали от души при виде моего восхитительного изумления.
– Это завтрак! – едва я мог проговорить, указывая на обольстительную картину.
– В наказанье, – отвечала жена, – ты будешь сегодня без обеда… Я знаю, что у тебя сегодня много работы и что тебе некогда будет обедать; чтоб не нарушить порядка в доме, мы с дочерью решили, что с тебя будет и завтрака; мы его приготовили с нею сами, чтоб не отвлекать слуг от их обыкновенного дела и не приучать их к беспорядку, потому что, ты знаешь, мы с дочерью на это большие педанты; садись же, завтракай и обедай заодно, а затем работай целый день, сколько хочешь».
Как вам нравится, милостивые государи, эта кухонная нравственность, которой я хочу научить вас? Где, в каком курсе нравственности других сортов, вы отыщете такой разительный пример? Там говорят о любви супружеской, о детском почтении, но на этих словах и останавливаются, не говоря о том, как эти слова исполняются на деле в разных обстоятельствах домашней жизни, обстоятельствах часто мелочных, но из которых составляется вся жизнь человека. Перечтите, господа, еще раз этот анекдот и посмотрите, сколько в нем истинной любви, почтения, повиновения, самоотвержения и глубокого здравого ума, не того здравого ума, который выстраивают на гнилых подмостках и подпорках, на живет и на авось, но здравого ума прочной немецкой работы. Эту нравственность, этот ум, настоящие, неподдельные, искренние, не из пустых речей состоящие, я рекомендую моим читателям. От моей нравственности муж любит жену, жена мужа, отец детей, дети отца, не по приличию, не для гостей, но так себе невольно, натурально, просто любят по любви, и избави вас Бог от того пустословия и празднословия, которое замазывает и закрашивает щели снаружи, а внутри оставляет сор и паутину.
По другой нравственности жена в предлежащем случае должна бы сделать жеманную мину и прочитать супругу нежную рацею о том, как неприлично отцу семейства опаздывать к завтраку; по третьей нравственности муж должен бы за эту рацею поколотить свою супругу; по четвертой нравственности ни супруге, ни дочери не должно быть никакого дела до того, что муж воротился домой усталый и голодный; по пятой нравственности жена с дочерью должны были бы дожидаться главы семейства и не сметь садиться за стол до его возвращения, отчего бы целый дом был на ногах, а между тем завтрак бы перешел, котлета бы подгорела, горох бы обратился в камешки и проч. и т. п., но зато приличие было бы сохранено; по шестой нравственности муж должен был найти жену в обмороке, по поводу его долгого отсутствия; по тысяче первой нравственности жена должна была бы при появлении мужа сбить с ног всех слуг и служанок, под предлогом его насыщения, и столько накричать и нахлопотать, что лучший завтрак перевернулся бы в желудке нежно обожаемого супруга.
Посредством сих-то различных сортов нравственностей люди на сем свете мучат и самих себя и друг друга в угоду нескольких слов, без толка и смыла произносимых людьми, которые не имеют понятия ни о жизни, ни о любви, необходимой для жизни, да и не заботятся о том, а думают совсем о другом, каждый о своем.
Не такова моя кухонная нравственность, господа; она проста и чиста, как должна быть всякая порядочная кухня; нет в ней ни подмеси, ни поджоги, не пересолена и не переслащена, да и водой не разведена. Некоторые из ее главных оснований будут сообщены впоследствии.
Описание блюд вышеупомянутых:
Шпигованные телячьи котлеты
Чем больше, чем толще и чем жирнее ваши котлеты, тем лучше, но в особенности хорошо шпиговать котлеты средней руки, которые чаще встречаются в хозяйстве. Нашпигуйте сырые телячьи котлеты тонким соленым (но не копченым) ветчинным салом (шпеком, или шпигом); шпигуйте насквозь самыми тонкими шпиговками.
Между тем положите в кастрюлю кусок шпека, обрезки телятины, две моркови, две репки, четыре луковицы с двумя гвоздичками, половину лаврового листка, щепоть эстрагона или укропа, соли и перца по вкусу, стакан бульона; на все это положите котлеты так, чтоб они были не под смесью, но наверху ее; прикройте котлеты сверху хорошо намасленной бумагой. Поставьте на огонь, и когда начнет кипеть, то накройте кастрюлю крышкою, а на эту крышку положите красных угольев, – под кастрюлю же огонь уменьшите, чтоб кипела чуть-чуть; так продержите кастрюлю полтора часа.
Затем выньте котлеты; что осталось в кастрюльке протрите сквозь сито; этот соус должен быть как самые густые сливки; если он еще жидок – поставьте его снова на огонь, помешивая, чтоб осел; если хотите – помажьте этим соусом котлеты и проведите по ним раскаленною лопаткою; наконец, вылейте соус под котлеты и подавайте; можете к этому соусу прибавить французской горчицы, подержав с нею соус на огне не более пяти минут.
Бульебес
Это блюдо – пьемонтское, одни его пишут: bouille-baisse, другие: bouille-abbesse; как бы то ни было – оно очень просто, каждая простая женщина в Пьемонте умеет его приготовить, а главное, очень вкусно, несмотря на его довольно странный состав.
Возьмите какой угодно рыбы, большой и маленькой, разных сортов, – чем разнообразнее, тем лучше; вычистите начисто, большую снимите с костей и нарежьте ломтями.
Между тем налейте в кастрюлю на четверть хорошего прованского масла; можно употребить и чухонское, но блюдо потеряет свой характер. В эту же кастрюлю положите:
полдюжину луковиц, мелко нарезанных;
две гвоздички;
целую головку чеснока, также мелко изрезанную;
тонко срезанную цедру с одного апельсина;
если можно, пару томатов (pommes d'amour), вычистить из них семечки;
наконец, щепотку соли и перца;
мелкой зелени петрушки.
Некоторые прибавляют щепотку мускатного ореха и шафрана – и очень не дурно.
Вылейте в ту же кастрюлю стакан воды и поставьте кастрюлю в самый пыл, чтоб кипела сильно.
Пробуйте рыбу, когда она готова – все блюдо готово.
Подают это блюдо на двух блюдах; на одно кладут рыбу на другое, глубокое, кладут ломти (неподжаренные) белого хлеба, на которые выливают всю жижу из кастрюли.
Горошек на сливках
Бросьте горошек в кипяток, прибавьте чуть-чуть соли; когда он сварился, что узнаете по вкусу, отбросьте его на сито, чтобы вода стекла.
Между тем положите в кастрюлю добрый кусок мяса (на фунт гороха четверть фунта масла); распустите масло на малом огне, высыпьте в него горошек, тряхните кастрюльку несколько раз на огне и влейте в нее понемногу, беспрестанно потряхивая, стакан сливок (на фунт гороха); высыпьте туда же полторы ложки просеянного сахара, беспрестанно мешая на огне; наконец, составьте с огня и, перед тем как подавать, смешайте горошек с двумя яичными желтками.