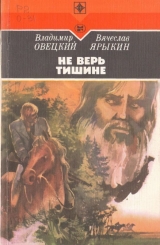
Текст книги "Не верь тишине (Роман)"
Автор книги: Владимир Овецкий
Соавторы: Вячеслав Ярыкин
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
28
– Эй, ты жив еще? Выходи!
Яша поднялся со скамьи и, сутулясь под низким потолком, пошел к выходу. На улице глубоко вдохнул свежий лесной воздух и оглянулся. Банька кособоко стояла среди деревьев. Она была дряхлой, а доски на оконце – свежие, желто-белые.
Провожатый подтолкнул, и Тимонин побрел по узкой тропке к приземистому, сложенному из крупных почерневших бревен дому. У крыльца с тремя грязными, местами выщербленными ступенями Яша еще раз оглянулся: глаза провожатого под сросшимися рыжеватыми бровями настороженно прищурились, правая рука с пистолетом угрожающе поднялась:
– Ну? Испугался, что ли? Мы на испуг не берем, мы сразу, понял? Так что топай!
В большой, на весь дом, комнате все тонуло в сером табачном тумане. В углу, под неясными в плывущей мгле образами, сидел в расстегнутой цветастой рубашке Ваня Трифоновский, слева и справа сгрудились над заставленным бутылками и закусками столом его дружки.
– Ну что, Яшка, надумал? – Голос у Трифоновского охрипший и глухой. – Иди выпей, закуси… Оголодал, чай? Кормили тебя мои разбойники или нет? А может, брезгуешь? Иди же, ну!
– Не зови его, Ваня, не придет. Не по чину, – услышал Яша знакомый голос Митрюшина.
– Сяду, – неожиданно согласился Яша.
Он присел на до блеска выскобленную скамью. «Шаркнуть бутылкой одного, второго, а там…» – он не знал, что будет потом, знал только, что, если сегодня не сумеет убежать, завтра для него уже не настанет.
– Стало быть, снова мы вместе. Свиделись… – Трифоновский поднял большие глаза. – Только не знаю, надолго ли?
– Что до меня… – начал Миша, но Иван перебил:
– Погоди! За что ты его так ненавидишь? Не делал он тебе ничего плохого. Ведь мог выдать своим, когда ты у Тоськи лежал, а не выдал.
– За это еще больше ненавижу, – прошептал Миша. – Спас-то он меня ради нее. Благородство показал, сволочь такая! А потом выслеживать стал… Если бы не ты, он бы меня во второй раз не пожалел. Не пожалел бы, а?
Даже в сумрачном дымящемся свете было видно, как побелело его лицо, напряглись на скулах тугие желваки.
– Нет, не пожалел бы. Да я и тогда тебя не жалел, это ты правильно сказал, – ответил Тимонин, поняв, что еще на шаг приблизился к неизбежному.
– Видал каков?! – словно с облегчением сказал Митрюшин.
– А мне Яшку жалко, – тихо произнес Иван и покосился на образа. «Ну вот и отпели», – горько усмехнулся Яша и вдруг вспомнил, как в детстве его спас Трифоновский.
Яша только-только научился плавать, но плавал он в утином пруду, мелком, тинистом и спокойном. Ребята тянули Яшу на реку. Было там одно опасное и оттого привлекательное место – Крутояр. Клязьма здесь, выскочив из-за поворота, спешила вдаль, бурля и пенясь на стремнине. Тянуло сюда ребят то, что на другом берегу золотился горячий речной песок. Конечно, можно пробраться к нему, переплыв реку в другом месте, но все стремились через стремнину.
Яша долго не решался войти в реку. И когда приятелям надоело звать его, объяснять, уговаривать, советовать и стыдить, Яша, сам не понимая, как это произошло, бухнулся в воду и стал колотить руками и ногами, поднимая брызги. Когда же до берега осталось каких-то полтора-два метра, Яша с облегчением и радостью прекратил бороться. Но близость берега оказалась обманчивой: не достав дна, он погрузился в теплую светлую воду и стал захлебываться.
Потом кто-то потянул за руку, и он, почти теряя сознание, успел глотнуть воздух. Еле передвигая непослушные ноги, вышел на горячий песок и рухнул.
– Обратно пойдешь через брод. Я покажу. – Ванька Трифоновский лег рядом.
Яша понимал, что на этот раз никто его к берегу тянуть не будет. Чтобы сделать спасительный глоток, надо бороться самому.
– Не пойму я одного, – сказал он. – Почему не прихлопнули меня там, у ктитора, а притащили сюда?
– Значит, так надо. – Трифоновский опять потянулся к бутылке.
– Ты, Ваня, исповедуйся ему. Может, на том свете замолвит словечко, – усмехнулся Митрюшин.
– Брось, Миша, – неожиданно спокойно и трезво сказал Трифоновский. – Не разжигайся! Лучше дай ему шанс остаться в живых.
– Вот как! – неприятно удивился Митрюшин. – И ты уверен, что у него такой шанс есть?
– Пока человек жив – всегда есть!
Трифоновский отодвинул стакан, нагнулся над столом и выкрикнул с надрывом и болью:
– Жить-то хочется, Яшка! Хочется! Плюнь на своих барбосов, иди к нам!
– А если…
– Нет у тебя никаких «если», понял? Не согласишься – я тебя в живых не оставлю: мне моя шкура тоже дорога не меньше, чем тебе!
– Дай подумать.
Яша сказал это, чтобы не ответить «нет», зная, впрочем, что другого ответа не будет.
– Он еще собирается думать, – проворчал презрительно Митрюшин.
– Ты бы, конечно, в моем положении сразу согласился!
Смысл Яшиного ответа медленно доходил до сознания Митрюшина. Но когда он понял, рука потянулась к карману.
– Не сметь! – Трифоновский поднялся сухой и колючий, со странно сияющими глазами. – Эй, кто там есть?
Дверь мгновенно открылась.
– Вот этого, – он показал на Яшу, – опять туда же. На два часа. Если ему нечего будет мне сказать, тогда…
Приговор был подписан. Тимонин встал и, не оглядываясь, пошел к выходу.
– А ты, друг Миша, – услышал он за спиной, – два часа будешь сидеть со мной и двигаться отсюда не моги, понял?
Полупьяные конвоиры повели Тимонина по той же плохо протоптанной тропинке.
Что-то изменилось в мире. То ли мохнатые облака закрыли солнце, то ли потянуло болотной сыростью, но стало холодно и тревожно.
Конвоиры шагали сзади. Один бормотал что-то под нос, беспрестанно матерясь, другой, со знакомым прищуром настороженных глаз под сросшимися бровями, шумно дышал в затылок. Яша придержал шаг и сразу почувствовал меж лопаток острый ствол оружия:
– Не балуй, паря, а то и двух часов не проживешь!
И только сейчас Тимонин вспомнил, где слышал этот голос: в тот несчастный вечер, когда его, как желторотого птенца, «взяли» без единого выстрела. Весь поглощенный наблюдением за домом ктитора, он легко откликнулся на уверенное «Яша», даже не взглянув, кто приближался к нему: у него и мысли не мелькнуло, что это могли быть те, кого он выслеживает. А когда понял – тяжелый удар погасил сознание. Очнулся Яша быстро и, когда, попытался высвободиться, услышал: «Не балуй, паря!»
Но сейчас у него руки были свободны.
Яша медленно двинулся по тропинке, думая, что он жив, пока его не бросили под замок. До баньки оставалось два шага…
Остановились.
Один из провожатых вышел вперед, чтобы открыть дверь баньки. Но дверь, старая и рассохшаяся, заупрямилась. Конвоир склонился над ней, другой отошел чуть в сторону, чтобы видеть и Яшу, и своего дружка. На какое-то мгновение он отвел глаза от Тимонина и тут же страшный удар в низ живота срубил его.

Болезненно охнув, он выронил оружие. Яша подхватил маузер. Другой конвоир поднял руки, косясь на винтовку, опрометчиво прислоненную к стене.
Тимонин качнул дулом, указывая на дверь. Бандит рванул ее и скрылся в баньке. Яша накинул запор, прислушался. Поскрипывали сосны, шуршали ели да из приземистого дома доносились обрывки какой-то тоскливой песни.
Тимонин нырнул в лес. Он сдерживал себя, чтобы не побежать: кто знает, как охраняется лагерь Трифоновского. Лишь отойдя от бандитского логова подальше, ускорил шаг, а потом побежал. Лапы елей колко хлестали лицо, сухой валежник бил по коленям, но Тимонин не чувствовал этого. Успокоился лишь, когда сырость и зеленый шатер остались позади. За кромкой леса, поросшей мелким кустарником, виднелось невспаханное поле, за ним – деревня. Яша узнал ее: здесь неделю назад они вели перестрелку с бандой Вани Трифоновского.
Он глубоко вздохнул, но кольнула мысль: «Поверит ли Прохоровский?» И сразу подумалось о Кузнецове.
Яша обошел деревню стороной. Молодые сосенки расступились, и бисерной лентой сверкнула Клязьма. Яша разделся, перетянул одежду ремнем и вошел в реку. Вода обожгла разгоряченное тело. Но сознание того, что скоро он будет в полной безопасности, заставило забыть о холоде.
Барак, в котором в одной из маленьких комнат жил Николай Дмитриевич Кузнецов, Тимонин нашел без труда…
29
Домой Лиза не торопилась.
После пасхи что-то сломалось в доме Субботиных. По этажам, комнатам, коридорам бродила отчужденность. Илья совсем закрылся у себя, мать, измученная и уставшая от волнений и обид, болезненно ощущала свою ненужность. Отец с утра и до позднего вечера ездил по делам, в которые никого не посвящал, мрачнея и сердясь на всех. И только с дочерью Дементий Ильич мог расслабиться и оттаять душой. Они ждали друг друга, с жестокой легкостью не замечая: он – жену и сына, она – мать и брата.
Зная, что отца сейчас нет дома, она решила наведать Веру Сытько.
С ней они не виделись несколько дней. Точнее сказать, с того дня, когда Вера сама не своя от страха выскочила из кабинета председателя Совета, благословляя пропахшего дымом человека, который избавил ее от необходимости что-то придумывать о злосчастном письме, заклеенном хлебным мякишем. Вера сказала подруге, чтобы та больше не давала ей таких поручений.
Лиза посмеялась над Вериными страхами, стараясь все обернуть в шутку, но подруга заявила, что не желает терять место, а может быть, и голову, и убежала. Можно было обойтись без такой трусихи, однако отец отнесся иначе, и Лиза, на ходу придумывая повод, пошла мириться.
Но Веры дома не оказалось.
– В Совете своем сидит. Прибежала перед вечером, как оглашенная, выпила кружку молока и опять убежала, – неторопливо копаясь у печки, рассказывала Верина мать. – То ли совещание у них какое выдумали, то ли еще чего, не знаю. Сами маются и другим покою не дают… Вчерась как с утра убегла, так и проторчала там аж дотемна. Не отпускал, говорит, председатель. Да как так можно, чтоб цельный день не евши! Такого и при старом режиме не было!
Лиза не стала поддерживать разговор и вышла на улицу.
Стемнело. В окнах засветились огни ламп, призывно маня в тепло и покой. Лиза присела на скамейку у ворот, кутая в платок зябнувшие в вечерней прохладе плечи и думая о том, как был прав отец, ругая ее за необдуманную ссору с Верой. «Что-то важное решают, по целым дням сидят, а мы не знаем». Она чувствовала себя человеком, который по глупости или лености пропускает меж пальцев то, что должно остаться в руках. «Плохая я помощница, зря отец хвалил меня перед Александром Сергеевичем!»
Вспомнив о Добровольском, Лиза заволновалась. Не раз в последнее время хотелось думать о нем, рисовать его лицо, руки, глаза, вызывать в покорной памяти слова, фразы. Она с досадой теперь вспоминала, как нагрубила ему в первый день.
«Но ведь я защищала Илью», – старалась оправдаться Лиза. Но это плохо удавалось, потому что теперь брат представлялся ей человеком, недостойным уважения. Временами она, жадно вслушиваясь в разговоры штабс-капитана и отца, с радостью выполняя их поручения, стыдилась брата, как стыдятся самолюбцы родственников-уродов.
Посидев немного, Лиза решила встретить Веру. Она неспешно пошла по затихшей улице, не заботясь ни о том, что о ней могут подумать попрятавшиеся за заборами обыватели, ни о возможных неприятных встречах с пьяными. Она ощущала в себе спокойную силу и уверенность, словно защищенная могущественной организацией, власть которой распространяется повсюду.
На торговой площади меж длинных деревянных рядов толпились маленькими группами загулявшие мастеровые, ремесленники, вчерашние солдаты, крестьяне… Затевались драки, начинались и гасли песни, слышались плач и смех. Проглатывали и выплевывали клиентов кабаки и чайные, лепившиеся бок о бок по всей площади. На все это с болью и гневом смотрели усталые окна Совета.
Лиза прошлась несколько раз мимо входа. Время текло медленно, тягуче.
Основательно продрогнув, она вошла в здание. На первом этаже, у входа, сидел дежурный. Спросил заспанным голосом:
– Вам кого?
– К подруге я, Вере Сытько, – ответила Лиза неожиданно робко и просяще.
– Погоди малость, должны вот-вот кончить. – Дежурный, чтобы согнать дремоту и сосущую скуку, приготовился поговорить с молодой и очень привлекательной особой. Но она отвернулась.
Через несколько минут на втором этаже задвигали стульями, зашумели, и Вера со счастливым лицом человека, окончившего наконец нелюбимую, но обязательную работу, сбежала с лестницы.
Сначала разговор не клеился. Вера, выдерживая тон невинно пострадавшей, отвечала неохотно и односложно, гадая, что понадобилось Лизе, но терпения хватило ненадолго. Лиза с интересом выслушивала то, над чем раньше откровенно издевалась. Перед самым Вериным домом, не меняя ласково-шутливого выражения, посоветовала:
– Ты все же поменьше работай, отощаешь, – парни не взглянут. Мне мама твоя жаловалась, что тебе сегодня даже поесть некогда было.
– Ой, что ты, какой обед! Весь день на ногах, одному – записку, другому – депешу, третьему – конверт с печатью. А к вечеру надумали совещаться. – Вера горестно махнула рукой.
– Подумаешь, – небрежно бросила Лиза, – первый раз, что ли!
– Первый – не первый, – с легкой обидой ответила Лиза, – а такого еще не было. Представляешь, Бирючков с Ильиным прямо сцепились. «Какое имел право один на такое дело идти?» – это Бирючков. А Ильин, – продолжала Вера, все больше оживляясь: – «Не могу допустить, чтоб товарищи мои остались неотмщенными, а гады всякие хлеб топили!» Это он про то, что вчера в Загорье было… Ну потом помирились. «В общем, ты, – Бирючков говорит, – пока поезжай учиться, а приедешь – разберемся как положено».
– Это Бирючков Ильина, что ли, отправляет учиться?
– Ага. Приказ такой пришел. Ильину и его отряду ехать в Богородск. Правда, Кукушкин, ну этот с фабрики Лузгина, противиться начал. Нельзя, говорит, сейчас отряд из города отпускать, обстановка сложная.
– Как же Ильин едет, ведь он, говорили, раненый?
– Вот-вот, ему и Тимофей Матвеевич об этом. А тот смеется. «Мне, – говорит, – такие ранения даже приятны, на мне заживает, как на кошке, на другой день, а у меня в запасе сутки».
– Значит, они в пятницу уезжают?
– В пятницу, – подтвердила Вера.
30
Совещание закончилось быстро. Прохоровский, недовольно морщась, выслушал доклады, которые никакой свежей информации не содержали.
– Плохо работаем. Можно сказать, бесполезно. Зря едим хлеб!
Все опустили головы. Слова были жестокими и несправедливыми. Люди работали много и энергично. Но их желание осилить бандитов, саботажников, спекулянтов, подстрекателей не подкреплялось ни опытом, которого они еще не успели накопить, ни знаниями, которых им негде было получить.
– В общем, – сказал Прохоровский, – нам необходимо максимально усилить свою деятельность. Наша обязательная задача – я не перестану ее повторять – в ближайшие дни ликвидировать банду Трифоновского. Решив эту задачу, нам будет легче уничтожить подобные ей группки и отдельные элементы. Только так и не иначе!
Кузнецов и Госк вышли из кабинета Прохоровского вместе.
– Зайдем ко мне? – предложил Николай Дмитриевич Госку.
Госк согласно кивнул, и они пришли в небольшую комнату, где стояли стол, два стула и узкий шкаф. На окне в горшке стоял цветок, мудреное название которого терпеливо и по нескольку раз объяснял Кузнецов всем сюда входящим.
Николай Дмитриевич первым делом погладил крупные сочные зеленые листья.
– Вот… Цвести скоро будут. – Он показал на невзрачные стручки. – Отвлекает, знаешь ли. Растет себе и растет… н-да…
Он нахмурился, сел за стол, поглаживая затылок.
– Болит?
– Так, временами. Не пойму, чем они меня, – по-детски простодушно удивился Николай Дмитриевич.
– Вероятно, рукояткой револьвера, – сказал Госк. – Могло быть хуже.
– Могло… Я потом раза три туда приходил, где Прохоровский меня подобрал. Все хотел узнать, куда те люди торопились, к кому. Порасспрашивал, да, видно, без толку. Домов подозрительных вроде нет, разве что отца Сергия.
– У него недавно сын вернулся. Из офицеров, говорят…
– В главном Прохоровский все-таки прав, – перевел разговор Кузнецов. – Надо энергичнее делать доверенное народом дело. Наша беда в том, что мы плетемся в хвосте событий, вместо того, чтобы опережать их.
– То есть как, – удивился Госк. – Разве можно предвидеть то, что задумали бандиты?!
– Не можно, а нужно! Конечно, трудно угадать какие-то незначительные действия, но большие, крупные дела мы обязаны предусмотреть. Это, разумеется, очень сложно, но необходимо. В противном случае нам останется только подбирать трупы.
– Как это случилось в Загорье, – вставил Госк.
– Вот именно! Но я не допускаю, что мы должны нацеливаться лишь на ликвидацию банды Трифоновского. Есть бандиты и поматерее. Именно они, умные, хитрые и затаенные до поры до времени, представляют главную опасность. Банда, при всем ее безусловном вреде, не составляет и сотой доли опасности, которую несут в себе затаившиеся враги. Они замахиваются на самую Советскую власть. Вот возьмем для примера саботаж на фабрике Лузгина. Мелочь? Пустяк? Нет, не мелочь и не пустяк, поскольку имеет политическую окраску. – Николай Дмитриевич встал и взволнованно заходил по комнате: четыре шага туда, четыре обратно. – Факт саботажа не только экономическая диверсия, но и прямой вызов Советской власти. Людям дают понять, что большевики не в состоянии ни направлять, ни контролировать события, а значит, подрывают веру в нас. – Он остановился и, внимательно глядя на Госка, спросил: – Вам что-то непонятно, неясно?
– Я раньше думал, что все будет определенней. А то получается, что в банде и нищие и богатые, в саботаже участвуют фабриканты и рабочие, продотряд уничтожают кулаки и крестьяне, а в милиции – и друзья и враги!
– Так будет до тех пор, пока мы не победим окончательно! – подхватил Кузнецов. – Я бы тоже хотел, чтобы все было точно и определенно: этот – свой, этот – чужой! Но не выходит так, понимаешь, не выходит! Не выходит! Ты же большевик, вспомни, чему нас партия учит? Спокойствию, вниманию, трезвой оценке создавшейся ситуации и основе основ – классовому подходу ко всем происходящим событиям. Только с этих позиций мы можем дать оценку и человеку, и его поступкам.
– Но ведь человек может и ошибиться.
– Может. Но ты опять же, во-первых, погляди, почему человек ошибся, какая причина толкнула его на ошибочный путь, а, во-вторых, присмотрись, какой первый шаг этот человек сделает после ошибки. Это я к тому, что если в человеке заложено здоровое зерно, то оно его всегда на правильную дорогу выведет.
– Вы это о ком-то конкретно или вообще?
– И конкретно и вообще!
31
Все эти дни игуменья Алевтина готовилась к разговору с архимандритом. Все эти дни ее не покидало нервное возбуждение. Плохо верилось ей в благодатную помощь всевышнего. За годы пребывания в обители она поняла, что бог нужен лишь слабым людям, но необходимость в нем не укрепляет их, а обезволивает. Трудно было Алевтине и потому, что приходилось таить эти мысли от отца Павла, чутким и чистым в своей вере сердцем догадывающегося о том, что творится что-то неладное. Все чаще стало приходить и раскаяние за свой шаг, который лишил ее многих обычных человеческих радостей. И теперь, когда одолевал великий соблазн, думала она не об избавлении от него, а о возможности использовать шанс, может быть, последний в ее жизни.
Архимандрит прошелся по покоям игуменьи. Остановился у иконы «Утоли моя печали», буднично висевшей в общем ряду, не спеша перекрестился. Игуменья искоса поглядывала на Валентина. Был он выше среднего роста, с длинными черными волосами и тщательно ухоженной бородой, красили лицо точеный нос и карие большие глаза. Мантия с крестом, украшенным драгоценностями, не портила осанки, наоборот, придавала особое достоинство и уверенность. Во всем чувствовалось хорошее воспитание, умение точно определить свое место в обществе. «Таким, наверное, любят исповедоваться женщины», – с иронией подумала мать Алевтина.
– Наслышан я, матушка, – повернулся к ней Валентин, – о благодеяниях монастыря, вам вверенного. Рады мы вашему участию в общих заботах. И тому, что послушницы по городам и весям несут слово правды божией, и тому, что сохранить умеете все, что вам доверено.
Архимандрит подождал, что ответит игуменья, но она, давая понять, что подразумевает под этими словами лишь оружие, доставленное ей Добровольским и его друзьями-офицерами, смиренно ждала. Но Валентин, не веря ни в ее недогадливость, ни в ее смирение, решил разом разрубить гордиев узел.
– Особая благодарность за сохранение сей иконы. – Он прямо и твердо посмотрел на Алевтину, отвергая любые недомолвки.
– Надо полагать, что она мне досталась как бы в наследство, – произнесла игуменья.
Валентин хотел рассмеяться, но, посмотрев на ее окаменелое лицо, передумал: «Сбываются худшие предположения. Однако, как смела!»
– Все ценности, что по воле божьей попали в ваши руки, принадлежат святой церкви, и только она вправе ими распоряжаться.
– Но посредством чьих-то рук.
– И вы полагаете, что эти руки будут вашими, – насмешливо заметил Валентин, в душе начинавший тяготиться неприятным разговором.
– А почему бы и нет! – не смутилась игуменья. – Сохранение иконы дает надежду монастырю принять участие в деяниях церкви, коим вспомоществовать могут драгоценности.
Архимандрит осуждающе покачал головой, но Алевтина продолжала:
– Не дай бог представить, что случится непредвиденное, и пропали они. Да и теперь копейка им цена, поскольку трудно переправить в Москву: по указу Советов, как вы знаете, все драгоценности должны быть переданы в их казну, а неподчинившиеся… – Она не договорила, выразительно посмотрев на Валентина.
– Вы что, матушка, грозите мне? – изумился архимандрит.
– Упаси бог! Наоборот, стремлюсь оказать наибольшую помощь святой церкви, доказав свою бесконечную преданность.
– Мы сумеем оценить по достоинству, – красивые глаза Валентина блеснули. – Но справедливы слова ваши в том, что ехать сейчас с иконой в Москву действительно опасно. – Взгляды их встретились и разминулись. – Посему храните ее пока у себя.








