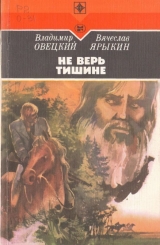
Текст книги "Не верь тишине (Роман)"
Автор книги: Владимир Овецкий
Соавторы: Вячеслав Ярыкин
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 16 страниц)
Владимир Овецкий
Вячеслав Ярыкин
НЕ ВЕРЬ ТИШИНЕ
Роман

1
Дементий Ильич Субботин ждал гостей.
Наступал вечер, в нижнем этаже дома зажгли лампы.
– Уже запалили, – неприязненно пробурчал Субботин. – Будто в старое время.
Толстыми сильными пальцами потрогал ветку яблони. От проклюнувшихся почек шел едва уловимый аромат. Дементий Ильич сорвал одну, пожевал, ощущая ее горьковато-терпкий вкус. Прошелся по саду, где пригибаясь, где бережно отклоняя ветви. Большинство деревьев Дементий Ильич посадил своими руками, когда приехал сюда двадцать лет назад с женой, десятилетним сыном и грудной дочерью.
Тогда на этом месте был полуразвалившийся домик да участок земли, сплошь заросший крапивой да одичавшей малиной. Но прошло время, поднялся двухэтажный особняк с кирпичным низом, ровными рядами вытянулись яблони, груши, вишни, сливы… Сад стал единственным местом, где Дементий Ильич мог позволить себе раскрепоститься душой.
Когда густо опустились сумерки, приглашенные начали собираться. Сначала пришли братья Гребенщиковы – Василий Поликарпович и Иван Поликарпович, через несколько минут Карп Данилыч Митрюшин и Петр Федорович Смирнов, чуть позже отец Сергий и владелец платочной фабрики Тимофей Силыч Лузгин.
– Грех на душу берем, в эдакое время да по гостям, – степенно усаживаясь за столом, произнес Карп Данилыч.
– Греха забоялся, – проворчал Гребенщиков-старший, тощий, лысый, с жидкой бороденкой и высохшим лицом. – Об том ли думать?!
– Что это ты, Поликарпыч, с места в карьер, – улыбнулся Смирнов.
– Ты меня не осаждай, я не лошадь!
– Напрасно, Василий Поликарпович, обижаешься, – сказал примирительно Субботин. – Все мы единоверцы, никто камень за пазухой не держит. Карп Данилыч имел в виду великий пост.
– А-а, – качнул головой Иван Поликарпович, маленький и круглый, удивительно непохожий на брата. – Пост не мост, можно и объехать.
– Мы собрались нонче, – хмуро перебил Лузгин, – чтобы ознакомиться с документом, полученным отцом Сергием. – Он зорко оглядел присутствующих, ожидая тишины, и повернулся к священнику, как бы предоставляя ему слово.
Тот встал, запустил пухлую холеную руку в карман подрясника, достал сложенный вчетверо листок. Начал читать негромко, но закончил грозным басом:
– Зовем всех вас, верующих и верных чад церкви: встаньте на защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне святой матери нашей. Враги церковные захватывают власть над нею, а вы противостаньте нм силой веры вашей, вашего властного всенародного вопля, который остановит безумцев и покажет им, что не имеют они права называть себя поборниками народного блага, строителями новой жизни, ибо действуют прямо против совести народной!.. Подписано патриархом Московским и всея Руси Тихоном.
– Неужто нас одних почтил таким посланием патриарх? – ехидно скривил губы Василий Поликарпович.
– Не юродствуйте, – нахмурился отец Сергий, – сие послание разослано во все русские православные церкви.
– И значит, вы, святые отцы, хотите заключить с нами, грешными, духовный союз? – бросил Василий Поликарпович. – И не смотрите на меня, батюшка, так!
– Да что с тобой сегодня, какая муха тебя укусила? – Субботин как хозяин счел долгом вмешаться.
– Красная муха, красная! – закричал Гребенщиков. – И нечего меня призывать и успокаивать. Нужны ваши слова, когда мы с братом в одночасье всех капиталов лишились!
– Не с вами одними… – сказал Смирнов.
– Ты с собой нас не равняй! – в тон брату закричал Иван Поликарпович. – У нас трактиры, у тебя завод как работал, так и работает!

– Господа, прошу вас! – Лузгин легонько постучал ладонью по столу. – Разве об этом речь? Разве собрались мы, чтобы обвинять друг друга? Кого и в чем? Может быть, отца Сергия, которого церковь поставила вне государства? Или заводчика Смирнова, который хотя и остался хозяином предприятия, но не может самостоятельно решать ни производственные, ни финансовые, ни иные вопросы? Или купцов Субботина и Митрюшина? Так что, дражайшие братья, – закончил Лузгин после короткой паузы, – в этих ли стенах надобно искать виновников несчастий?
– Истинно глаголет уважаемый Тимофей Силыч. – Отец Сергий погладил красивую бороду. – Мало нам ныне говорить о болях и обидах, надо всколыхнуть сердца верующих, ибо не время словам, время деяниям. Объединившись, мы должны начать беспощадную борьбу с сатанистами.
– Говорите прямо, батюшка: с большевиками, – Лузгин посмотрел на него хитроватыми глазами. – В церкви вы более откровенны: богослужения в митинг превращаете. Надобно действовать тоньше, осторожнее.
– «Тоньше, осторожнее»! – вспылил священник. – Нет, не приемлю! Подобное приличествует лишь погрязшим во лжи и непристойности. Я полагаю святым долгом во всеуслышание говорить людям божью правду, открывать глаза на мерзкие дела вероотступников!
– Вы, без спору, правы в своем гневе, – ответил Тимофей Силыч. – Но надобно знать, что ни одно правительство не станет терпеть открытых призывов к его свержению. Это политика. А, скажу я вам, нынешняя политика прежней рознь, и рознь преогромная. Бывалоча, патриархи, митрополиты, протопопы расходились в форме, содержание – государство, церковь, вера – для них оставалось незыблемым. Так же и государство относилось к церкви. Ныне религия отметается как нечто противное духу общества, которое пытаются устроить большевики.
– Именно поэтому мы обязаны бросить вызов богохульникам, смести ураганом священной ненависти!
– Именно! – согласился Лузгин и, уходя от ненужного спора, добавил: – Для того и собрались.
– Вот-вот, – обвел всех строгим взглядом Дементий Ильич, – а ругаемся, как мужики сиволапые.
Митрюшин усмехнулся, это не ускользнуло от внимания Субботина.
– Что тебе не по душе, Карп Данилыч?
– Не любишь мужиков-то!
– А за что их любить прикажешь?! – Многие никли под таким взглядом Субботина, но Митрюшин знал себе цену.
– Забыл, знать, какого ты роду-племени?
– Это как же понимать? – Голос Субботина стал глух и густ, как эхо далекого грома.
– Как хошь, так и понимай. – Карп Данилыч встал, пригладил ладонью рыже-седые волосы на низколобой голове. – Я мыслю: собрались мы для общего дела, стало быть, и согласие промеж нас должно быть. Ан нет! Знать, и проку, что от снега в июньский день, одни убытки. А коли так, затевайте драку с Советами сами, а мне моя рожа дороже.
– За чужими спинами схорониться хочешь?
– Напраслину на меня, Дементий Ильич, не возводи! У меня свои соображения.
Он посмотрел на отца Сергия, словно желая о чем-то спросить, но передумал.
– Прощевайте пока.
Смирнов хотел его остановить, но Лузгин предупреждающе поднял руку. Василий Поликарпович испуганно переглянулся с братом.
– Пойдет в Совет или в милицию, да и расскажет, что видел-слышал…
– Не беспокойтесь, – отец Сергий сказал уверенно, – Карп Данилыч человек истинно верующий, предательства убоится. Сегодня ушел, чтобы завтра вернуться!
Слова священника успокоили, разговор вновь вошел в нужное русло.
– Я так думаю: надо прежде ударить по карману рабочего, их главной опоры. – Тимофей Силыч говорил с легким придыханием. – Остановить заводы, фабрики, не заплатить денег. Вот тогда и поглядим, как они взвоют. Да не на нас, а на власть новую.
– Остановить можно, – с сомнением произнес Смирнов. – Но ведь это расценят как саботаж… Да и убытки.
– А надо по-умному делать, – глянул на него Лузган. – Если у тебя в котельной топлива нет, сможет завод работать? Нет! А какое у нас топливо, сами знаете – торф. Стало быть, надо сделать, чтобы торф этот… – Он сложил трубочкой толстые губы и попробовал свистнуть, но свиста не получилось, и Лузгин улыбнулся. – Одним словом, понятно… Можно и по-другому! Я, к примеру, со своим управляющим кое-что предпринимаю. А насчет убытков… По мне, лучше отдать копейку, чем ждать, пока отнимут рубль.
Все одобрительно закивали головами.
– Стало быть, первое наше дело – торф. Поджечь его нехитро, но сделать это должен человек не нашего круга. Чтобы на нас никаких подозрений. – Тимофей Силыч несколько раз глубоко и шумно вздохнул, потом повторил со значением: – Никаких подозрений. Нам предстоят дела важнее.
– Вот именно, – подхватил отец Сергий. – И здесь нам помощь окажут господа офицеры…
2
Часы пробили одиннадцать. В притихшем доме удары раздавались отчетливо, перед каждым стуком молоточка поскрипывала пружинка. Дементий Ильич поднялся на второй этаж. Дверь в комнату сына была чуть приоткрытой. Субботин, прежде чем войти, постоял секунду-другую, прислушиваясь. Потом спросил:
– Не спишь, Илья?
– Не сплю.
Илья сидел в глубоком кресле. На коленях раскрытая книга. Но он не читал. Дементий Ильич сел рядом. Спросил после минутного молчания:
– Что же к нам не спустился? Я ждал…
Илья не ответил. Он не сменил позы, не поднял голову.
Они никогда не были близки. Дементий Ильич, умножая доходы, не уделял внимания жене и детям, считая, что увеличение богатства есть его первостепенная обязанность перед семьей. Только однажды осенним днем, когда Илья после долгой учебы в столице приехал домой в хрустящей форме поручика, отец впервые в жизни растерялся: его ли это сын? Потом появилась гордость!
Через год началась война… А полтора месяца назад, холодным предвесенним вечером, кто-то постучал в тяжелые ворота. Евдокия Матвеевна, услышав знакомый голос, замерла на полдороге. Дементий Ильич, выйдя вслед, увидел у калитки плачущую жену и сына. Тот был худ, небрит, в драной шинели и грязных солдатских обмотках.
Илья, неразговорчивый, закрывался в своей комнате, ссылаясь на нездоровье, или бродил по дому, ни во что не вмешиваясь, ничем не интересуясь, Дементий Ильич порывался поговорить с сыном, но всякий раз умолкал, услыша просительный шепот жены: «Погоды малость, дай ему прийти в себя, пожалей…»
– Да, я ждал тебя, – повторил Субботин.
– Что ты от меня хочешь? – тихо спросил Илья.
Дементий Ильич прошелся по комнате, подбирая слова убедительные и проникновенные.
– А что может желать отец от сына? Единственно, чтобы тот шел по отцовским стопам, продолжал отцову дорогу.
– Не поздно ли?
– Как прикажешь понимать?
– Как больше нравится.
Дементий Ильич неожиданно усмехнулся.
– Второй раз за вечер задаю такой вопрос и второй раз получаю такой ответ… Купец Митрюшин намекнул на наше мужичье происхождение. – Субботин внимательно посмотрел на сына. – Вот я и спросил.
– И что же?
– Ушел Карп Данилыч, обиделся ли, разгневался – не поймешь.
– Я не о том. – Голос Ильи стал крепче, напряженнее. Я спрашиваю, как ты относишься к нашему мужичьему происхождению?
– Я глаза не опускал, когда жизнь носом в навоз толкала. И не выхвалялся, что дед мой крепостным был. Это сейчас некоторые галдят об этом как сороки, к новой власти примазаться хотят. Я не из таких. Я себе жизнь сам делал. Дед начал, отец продолжил, ну и я лицом в грязь не ударил. Хочу, чтоб и ты…
– Считаешь, что сейчас это возможно?
– Почему бы и нет?
– А как же революция, новый уклад…
– Все это временно, а мы вечны, потому что Субботины – это деньги, а деньги – власть!
– У тебя, я смотрю, своя философия.
– Какая там, к черту, философия! Нынешний уклад исчезнет, как дым! Как он может существовать, если против него все имущие люди, если против него сама церковь?!
– Ради бога, не надо меня агитировать! – Илья швырнул книгу на невысокий кривоногий столик. – Наслышался я всего: большевики, меньшевики, кадеты, эсеры, монархисты, анархисты! Да пропади все пропадом! Я воевал не за них, а за Родину, за Россию! Ради этого и шел под пули, глотал газы, гнил в плену. Хватит! Дайте мне дышать свежим воздухом! – Илья захрипел, словно действительно задыхался.
Дементий Ильич оторопело глядел на его серое лицо. Но Илья быстро успокоился и опять откинулся в кресло. Дементий Ильич посидел еще минуту. Потом поднялся и тяжело направился вниз по крутой лестнице. В спальню вошел всполошенный и испуганный. Евдокия Матвеевна настороженно следила за мужем.
– Чего глядишь? Спала бы давно! – прогудел Дементий Ильич, укладываясь в постель, тонко пискнувшую под его громоздким телом.
– Уснешь с вами, как же, – ответила жена. – То один, то второй, то третий…
– Третий-то хоть кто?
– Лизавета твоя разлюбезная, – в сердцах ответила жена.
– Лиза? Ты говори, да не заговаривайся!
– А ты ее не выгораживай, глянь-ка лучше на нее: никого не признает, все нипочем, мать ни во что не ставит, – выговорилась Евдокия Матвеевна и заплакала.
– Будет тебе, перестань, – Субботин неловко приласкал жену.
– Да как же, Дементюшка, что на белом свете творится, страх господний… Глафира Митрюшина говорит, конец нам всем!
– Слушай ты Глафиру!
– И Лизавета тоже…
– Ну что Лизавета, что Лизавета! Что ты к девке пристала?!
– А то и пристала. – Слезы у Евдокии Матвеевны высохли. – Время за полночь, а она только прибегла. «Где, – говорю, – шлялась?!» А она в ответ: «Шляются…» – и слово такое произнесла! Батюшки-светы, царица-мать небесная. – Евдокия Матвеевна трижды быстро перекрестилась.
– Оно, конечно, нехорошо, но и ты, мать, не больно на нее нападай.
– Так это не все, не конец! – еще горячее подхватилась Евдокия Матвеевна. – «Не переживайте, – говорит, – особенно, маманя, все одно нам всем корне… нет, контербуция!»
– Чего-чего? – Субботин строго посмотрел на жену.
– Контербуция, – повторила она.
– Ну-ка, зови ее сюда!
Евдокия Матвеевна проворно вскочила с кровати и засеменила из комнаты. Субботин поднялся, накинул халат. Прошелся, прислушиваясь к еле слышному шлепанью ног, неразборчивому бормотанью.
«Прав отец Сергий, – думал Дементий Ильич, – большое испытание выпало нам на долю. Главное сейчас – выстоять, вцепиться в землю ногтями, зубами, но выстоять, не поддаться сомнению и отчаянию. Опоры в доме нет, не на кого положиться. Эх, Илья, Илья…»
Мать и дочь вошли в сумрачную комнату. Дочь выше матери, крепкая, черноволосая, с крутыми бровями, больше похожа на отца. С годами сходство – и внешнее и внутреннее – проявлялось все выразительнее.
– Рассказывай, Лизавета!
– Чего рассказывать-то? – Лиза зевнула.
– Будто нечего, – поджала губы Евдокия Матвеевна.
– А уж вам, маманя, все не так, все не эдак!
– Хватит вам! – прикрикнул Субботин. – Я тебя спрашиваю, Лиза, о чем ты с матерью давеча разговаривала.
– Неужто до утра нельзя было подождать?! Я сказала мамане, что была у подружки, и все.
– Все ли? Ты мне слово скажи, от какого мать сама не своя.
– Контрибуция, что ли? Это Верка Сытько сказала.
– Та, что в Совете пристроилась? Ну-ка, расскажи все, о чем вы с ней ворковали. А наперед больше слушай, вникай во все да поменьше разговаривай. Поняла?
3
На лоскутке бумаги бледно-голубоватого цвета было написано: «В народную милицию. Сообщаю! На нашей фабрике некоторые несознательные, а если сказать прямо – контрреволюционные элементы агитируют не работать. У тех же, кто не поддается на злобную агитацию, ломаются станки и другое оборудование, и никто его не ремонтирует. Нам, рабочим, на такие дела смотреть больно, потому, как говорил товарищ Ленин, это наше теперь, то есть народное, достояние…»
– Вы что-нибудь поняли? – спросил начальник милиции Сергей Прохорович Прохоровский у своего заместителя Кузнецова.
– Что ж тут понимать? Фабрикант Лузгин дезорганизует производство. Саботаж, одним словом.
– Это мне растолковывать не надо. Я имею в виду другое: может быть, автор вводит нас в заблуждение?
– Это нетрудно проверить, – сказал Кузнецов. – Мне бы хотелось предостеречь вас от излишней подозрительности: нам работать с народом и для народа, а это пишет рабочий человек…
– Рабочие тоже разные бывают, – перебил начальник милиции. – Я, когда трудился на фабрике, всяких повидал… н-да… А вот замечание меня удивило: не ваша ли большевистская партия постоянно и настойчиво твердит о бдительности?
– Да, наша партия учит бдительности. Но мы не отождествляем бдительность и подозрительность.
– Возможно, – сухо ответил Прохоровский. – Однако автор этого письмеца имеет намерение подорвать у нас доверие к промышленникам, которые трудятся на оборону государства от его извечных врагов.
Прохоровский не желал осложнять отношений с Кузнецовым с первых дней совместной работы. Мелькнула мысль объяснить этому немолодому седеющему человеку, что за те несколько труднейших месяцев работы начальником милиции он ничем не запятнал себя, хотя и догадывается, зачем к нему, человеку, не принадлежащему ни к какой партии, Совет направил большевика. Но Сергей Прохорович сдержался и, чтобы прервать неприятно затянувшуюся паузу, проговорил чуть глуховато:
– Я думаю, расхождения в наших взглядах не должны идти во вред делу.
– Не должны, – согласился Кузнецов и поднялся. – Хватит на сегодня. Пошли, полночь скоро…
Они спустились на первый этаж по выскобленным до блеска сотнями ног ступеням и вышли на улицу. Было свежо и тихо. Дома, деревья, заборы в мягком лунном свете стояли, словно к чему-то прислушиваясь.
– Люблю эту пору, – вздохнул Николай Дмитриевич, – раскрепощает душу. Смотришь в небо и, кажется, плывешь невесомый…
– А для меня ночь – просто ночь, никаких эмоций.
Несколько минут шли молча.
– Ладно, – тряхнул головой Кузнецов, словно отгоняя ненужные мысли. – Что будем делать с письмом?
Свернули на Большую Всехсвятскую улицу, короткую и узкую, названную Большой по явному недоразумению.
– По всей вероятности… – начал Прохоровский и не договорил, насторожился: навстречу с другого конца улицы шли трое.
Увидев Кузнецова и Прохоровского, они остановились, о чем-то посовещались, потом неожиданно быстро скрылись в ближайшем переулке.
Прохоровский, не проронив ни слова, бросился за ними. Николай Дмитриевич догнал его у поворота и выдохнул:
– Что вы хотите делать?
– Еще не знаю, но не упускать же их, не выяснив, куда идут в такой час, – остановился Сергей Прохорович. – Давайте так: пойдем по обе стороны переулка, а в конце, если их не обнаружим, вы свернете влево, а я вправо. Оружие при вас? Если что, стреляйте без предупреждения.
Прячась за заборы и бревенчатые сараи, торцами выходящие на дорогу, они добрались до крайних домов и вышли на соседнюю улицу. Никого не было. Разошлись, как договорились.
Прохоровский исчез сразу. Несколько минут стояла тишина, потом ее нарушил короткий, словно бы робкий вскрик.
Кузнецова вдруг охватило страшное возбуждение. Он проверил револьвер и рванулся на крик. Пробежал метров сто, остановился, прислушиваясь. Ни звука, ни шороха.
«Наверное, показалось», – решил Николай Дмитриевич, повернул назад и… лицом к лицу столкнулся с человеком в военной форме. «Откуда?.. Ведь только что…» Это было последнее, о чем успел в тот момент подумать Кузнецов…
4
Отец Сергий под впечатлением встречи с архимандритом Валентином в Сергиевом посаде и вчерашнего разговора в доме Субботина чувствовал себя уверенно. Потому голос его в просторной церкви звучал раскатисто и грозно.
– …О премилосердный Христос, спаситель наш, – взывал священник, – ради нашего спасения помоги нам шествовать по твоим святым стопам и вновь жить по правде божией! Приведи к погибели тех, кто отошел от тебя!
Слова поднимались к своду купола, собирались там и тучей опускались на согбенные спины прихожан. Тускло мерцали свечи и лампады. Полумрак не рассеивал теней, наоборот, подчеркивав их, делал осязаемыми. Черной тенью казался и отец Сергий.
Тося стояла в редкой толпе молящихся и торопливо крестилась. Долго длившаяся служба утомила. Даже тетя и та украдкой вытирала сморщенное лицо уголком шали. Наконец донеслось «аминь», все заторопились из церкви, и весеннее солнце ослепительно брызнуло в глаза.
Рано в этот год зачахли сугробы. Уже в марте среди заснеженных полей показались земляные шапки холмов. Березы за разорвавшей ледяной покров Клязьмой стояли жалкие и сиротливые. Было такое ощущение, что весна застала врасплох.
– Ну идем же, идем, – ворчала тетя, теребя Тосю за рукав. – Что зря стоять?
Они сошли с паперти. На ступенях сидели нищие.
Им благоволили неохотно. В былые времена перед пасхой милостыню подавали щедро. По неширокой тополиной аллее одноликая толпа вылилась на улицу, разбилась на группы.
Дома были тоже однолики: три-четыре окна по фасаду, крепкие ворота с калиткой. Двухэтажные встречались редко. И именно они лучше любой визитной карточки говорили, что за хозяин обитает в этих стенах.
Мимо такого дома из красного кирпича шли Тося и Матрена Филипповна. У ворот стоял сын хозяина – Миша Митрюшин. Невысокий, широкий в плечах, он походил на гриб-боровик, налитый свежей силой. Румяное лицо расплылось в улыбке.
– Здрасьте. – Миша загородил дорогу.
– Здравствуй, милок, здравствуй, – ответила Матрена Филипповна, стараясь обойти его стороной.
– Моих не видали?
– Видали. Поздоровкались.
– Что это сегодня так долго?
– Да вот уж так. – Матрена Филипповна злилась. Тося молчала, опустив голову. Миша улыбался.
– А я всю дорогу проглядел, стою жду.
– По тебе видно, как испереживался. К тому же не на гулянку пошли родители-то.
– Родители – это само собой, а вот…
– Ну ладно, мил человек, – перебила его тетя, – поговорили, пора и честь знать! Идем, Таисья.
Они пошли, а Миша крикнул вслед:
– Хоть в гости не приглашаете, а приду, не гордый!
– А ведь и впрямь придет, белобрысый черт, прости меня, господи, – недовольно буркнула Матрена Филипповна. Настроение у нее испортилось. – А все ты завлекаешь!
– Да когда мне завлекать-то, – чуть слышно ответила Тося.
– Поглядела бы на тебя мать-покойница, царство ей небесное, не обрадовалась.
Подошли к трехоконному дому с палисадником. Во дворе, небольшом и чистом, Матрена Филипповна опять заволновалась:
– А ну как придет, а угостить нельзя, ведь пост ныне. А как не угостить, был бы кто, а то ведь сынок купеческий!
В сенцах прохладно, полумрак. Тося привычно зачерпнула из кадки воды. Пахнувшая деревом от колодца, кадки, ковша, вода освежала и успокаивала, притупляла и голод.
Тося вошла в горницу, присела на выскобленную до желтизны скамью и обвела равнодушным взглядом комнату. Стол, два сундука, громоздкий шкаф, цветы на подоконниках, занавески, иконы… Благопристойно, прибрано, мертво.
– Ну вот, взгляните на нее, сидит себе!
– Я только на минутку, тетя, голова что-то закружилась.
– Вот те раз, молодая – устала.
– Ничего, я сейчас самовар поставлю. – Девушка поднялась.
Кипятила самовар Матрена Филипповна сосновыми шишками, чему и племянницу научила. Такое пристрастие толковала просто: чай лесом пахнет.
Тося развела во дворе самовар, присела на крыльцо. Солнце клонилось к закату. Деревья просыпались, набухая почками, готовыми вот-вот разорваться и брызнуть зеленой капелью.
– А ты и впрямь побледнела. – Тетя присела рядом, искоса поглядывая на племянницу. – Ничего, сейчас чайку попьем, полегчает.
После первой чашки Матрена Филипповна поднялась, подошла к шкафу и вернулась к столу с кусочком сахара. Протянула девушке.
– Не надо, – робко отказалась Тося.
– Бери, коль даю. Сахар можно. – Она подула на блюдце, отхлебнула глоток, спросила: – Что это Мишка Митрюшин к тебе так, а? Ты гляди… Про родителей его ничего плохого не скажу, а вот Мишка… Всякое об нем говорят, а ты молодая, несмышленая! И чего, спрашивается, стояла перед ним, как голубица, когда он на тебя коршуном глядел?
– Запретить ему, что ли, глядеть на меня? – Что-то неуловимо дерзкое мелькнуло в ее взгляде. Это было так непривычно, что тетя смешалась.
– Дерзить начинаешь? – И хотела еще что-то сказать, но перебил стук в дверь. – Поди открой! Явился, легок на помине!
И демонстративно ушла к себе.
Через минуту раздался чуть смущенный голос:
– Здорово живете!
Матрена Филипповна узнала Яшу Тимонина: «Этого еще лихоманка носит!»
– Здравствуй, тетка Матрена, – повторил Яша, стоя перед цветастой занавеской, прикрывающей вход в комнату.
– Это что ж, так теперь положено – незваным? – послышалось оттуда.
– Шел на дежурство, дай, думаю, проведаю… загляну. – Он комкал слова, не решаясь оглянуться на Тосю.
– А… ну как же! Ты ведь теперь вроде как полиция!
– Не полиция, а милиция, – поправил Тимонин.
– А нам, честным людям, все едино.
– Зато нам не все равно!
Матрена Филипповна вдруг вышла из-за занавески: вид у нее был очень негостеприимный. Яша улыбнулся.
– Может, чаем угостите?
Она не нашлась, что ответить, и с недоумением посмотрела на Тосю. Та подошла к самовару.
Послушав, как уютно булькает вода из краника, Матрена Филипповна все-таки не преминула заметить:
– А чай ноне с «таком».
Что-то задело Яшу в ее тоне, и он спросил:
– Это почему же?
– Время такое, – уклончиво ответила Матрена Филипповна.
– Время? – переспросил Яша. В глазах его вспыхнул огонек. – А я, сколько себя помню, с «таком» чай пью!.. Ну да ладно, не об этом речь… Мне на дежурство. – И пошел, громыхая сапогами.
– Поди проводи до ворот, – бросила тетя Tоce. – Нехорошо-то как…
У ворот Яша оглянулся. Тося шла за ним как по повинности. На лице ее с опущенными уголками рта и тонкими, в ниточку, бровями застыло желание поскорее остаться одной.
– Ты не сердись на меня. – Яшина ладонь легла на Тосино плечо.
– Я не сержусь, – и отстранилась.
Яша смутился, стал поправлять картуз, торопливо приговаривая:
– Как-то неловко получилось… И что пришел, и насчет чая…
– При чем тут чай – пост.
– А у нас с матерью всегда пост: и в троицу, и в пасху, и в рождество Христово, – теперь он сказал это беззлобно и с тоской.
Тося внимательно посмотрела на него, высокого и нескладного, но промолчала.
– А что навестил, не обиделась?
– Что обижаться, пришел и пришел.
Нет, не так хотелось ему разговаривать, не о том спрашивать, не то слышать в ответ. Простились.
Совсем стемнело. Красновато светились окна. Свет был дрожащим, скудным: горели свечи, керосин – у кого и остался – берегся на черный день. И это не считалось странным, потому что многие, привыкнув, что вся их жизнь сплошь состоит из черных дней, ждали, что может случиться нечто еще более худшее.
Посвежело. Яша засунул руки в карманы куцего пиджака и зашагал к центру города. Навстречу нетвердой походкой шли Миша Митрюшин и Ваня Трифоновский.
– Вот, Ваня, смотри и запоминай. – Миша силился засмеяться. – В доме, откуда только что вышел наш бывший дружок Яша, живет девушка, к которой я сегодня не пришел, потому что не пригласили. А он пришел. Каково?
Тимонин ответил чуть осипшим голосом:
– Шли бы своей дорогой. А еще лучше – взялись бы за разум.
– Ты гляди, как меняются люди: прилепился к новой власти – и видали мы ваших! Жить нас учит!
Миша все балагурил, картинно жестикулируя. Но вдруг, резко шагнув вперед, схватил Яшу за грудь:
– Или забыл, чей хлеб жрал, кто не дал вам с голоду подохнуть, с кем…
Яков яростно рванул Митрюшина, упустив на миг второго, и тут же полетел в придорожную пыль. Редкие прохожие, увидев их, торопились повернуть обратно или скрыться в ближайшем переулке.
– Ловко ты его перехватил, я б не успел увернуться. – Михаил одобрительно хлопнул Трифоновского по плечу.
– Чего там… Дай-ка лучше закурить. – Тот старался не смотреть на лежащего в пыли Тимонина.
Прикурили от одной спички.
Яша застонал.
– Помочь ему, что ли, – то ли спросил, то ли предложил Иван.
– Во-во, помоги, да еще покайся в жилетку. – Митрюшин зло сплюнул.
– Ты это брось! Все ж дружками были!
– Вот именно: были! – И засмеялся. – Пойдем-ка махнем по рюмочке, пока Яшка не очнулся и не обрушил на нас свой пролетарский гнев!
Трифоновский покосился на Тимонина и проворчал:
– Что-то ты дюже развеселился… Ну да ладно, пойдем…








