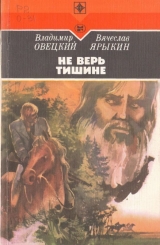
Текст книги "Не верь тишине (Роман)"
Автор книги: Владимир Овецкий
Соавторы: Вячеслав Ярыкин
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
34
Красногвардейцы толпились в небольшом дворе военкомата. На крыльцо вышли военком Боровой и командир отряда Ильин. Они осмотрели притихших красногвардейцев. Семьдесят вчерашних красильщиков и набойщиков, плотников и ткачей, токарей и жестянщиков, людей других буднично-мирных профессий готовились теперь к тому, чтобы начать постижение науки побеждать. Руки не умели держать как следует оружие, а глаза ловить в прицеле беззащитно-податливые человеческие тела. Но они выбрали себе эту дорогу, понимая, что, кроме них, защищать мирный труд некому. И все-таки, уезжая, не верилось, что эта учеба когда-нибудь пригодится.
Боровой кивнул Ильину, и тот крикнул чуть охрипшим голосом:
– По коням!
Красногвардейцы взобрались на коней.
– Ну, бывай здоров! – Боровой крепко пожал руку командиру отряда. – Не очень хочется тебя отпускать, но, как говорится, приказы не обсуждают.
– Не обсуждают, – подтвердил Ильин. – Чугунову привет передай.
Оба грустно улыбнулись. Чугунову вырезали пулю, но началась послеоперационная горячка, и врач говорил, что теперь раненому может помочь только он сам…
Дежурный открыл ворота, и всадники выехали на улицу. Боровой вышел следом и стоял на дороге, пока не стих топот копыт.
Провожал он красногвардейцев не один: на дальнем конце улицы, на завалинке ничем не приметного дома сидел Василий Гребенщиков. Не торопясь, вел со стариками разговор о том о сем. Когда конный отряд скрылся за поворотом и пыль, теплая и густая, опустилась на дорогу, поднялся и направился к дому Лавлинского. Его ждали. Герман Георгиевич сам открыл дверь и пропустил в комнату, где собрались офицеры и Субботин.
– Да, – выдохнул Василий Поликарпович, не скрывая ликования, – сведения, полученные Дементием Ильичом, подтвердились. Отряд ускакал!
Субботин, покряхтывая от удовольствия и радости за себя и дочь, нетерпеливо-ожидающе посмотрел на Лавлинского.
– Обстоятельства складываются самым благоприятным образом. И я полагаю, что сегодня, сейчас, необходимо назначить день и час выступления.
Герман Георгиевич умолк. Все понимали, что от слов, которые сейчас прозвучат, будут зависеть судьбы и жизни очень многих людей. И их в том числе…
– Согласен с вами, – поднялся Гоглидзе. – Больше откладывать нельзя. – Ротмистр начал горячиться, хотя никто ему не возражал: – Оружие у нас есть, люди готовы поднять его по первому приказу, а большевики и без того слабы, теперь и вовсе остались ни с чем.
– Не забывайте о милиции, – подсказал Добровольский.
– Что милиция, какая милиция? – Гоглидзе засмеялся. – С какой-то бандой не может справиться, а что говорить о нас!
– И все-таки, ротмистр, стоило бы подумать о том, как избавиться от нее.
– А вот начнем и избавимся!
– Милицию тоже можно убрать из города, – сказал Лавлинский, – известно, что начальник милиции все силы направляет на уничтожение банды Трифоновского, ничто другое его не интересует. Поэтому если организовать нападение банды на какой-нибудь отдаленный волостной Совет, то начальник милиции бросится туда, как говорят в народе, сломя голову. Причем организовать нападение в самый канун нашего выступления…
– Это неплохо, – поддержал Гоглидзе. – А если поднять крестьян?
– Сложно, – возразил Лавлинский. – Они не подготовлены.
– А кто, по-вашему, разбил продотряд?! – начал опять горячиться Гоглидзе. – Да банде стоит только начать, а там… В конце концов, мы можем послать туда своего человека.
– Я готов выполнить эту миссию. А заодно и встретиться с Трифоновским, – твердо сказал Добровольский.
– Благодарю вас, штабс-капитан. – Гоглидзе встал, торжественный и суровый. – Итак, господа, час испытаний близок. Я предлагаю начать наше выступление послезавтра.
– Воскресенье… праздник, – произнес Субботин.
– В полдень, – уточнил ротмистр. – Сигнал: удары колокола Вознесенской церкви.
Гоглидзе и Добровольский ушли из дома последними. Пройдя несколько шагов, ротмистр произнес с раздражением:
– Вы знаете, почему опять не было Смирнова?
– Вероятно, предпочел общество какого-нибудь кабака нашему с вами.
– Напрасно шутите, штабс-капитан. Кто, как не вы, предложил мне приехать в ваш город, чтобы… ну вы понимаете, о чем я говорю… И вот один из нас, боевых офицеров, начинает заниматься черт знает чем… Нет, нет, не возражайте, я не ханжа, все прекрасно понимаю, но не в это же время, когда дорог каждый человек!.. Кстати, хотелось бы уточнить и кое-что о его отце.
– Что уточнять? – сухо сказал Добровольский, уязвленный словами и тоном ротмистра. – Петр Федорович наотрез отказался участвовать в нашей, как он выразился, «авантюре». – Но взглянув на лицо Гоглидзе, заторопился: – Неужели вы допускаете мысль, что он…
– Я все допускаю, – ротмистр шагал, уверенно глядя прямо перед собой.
И такая холодная и твердая решимость прозвучала в этой фразе, что штабс-капитану, который немало повидал и узнал, стало не по себе…
35
Направляясь в Загорье, Добровольский имел лишь один адрес: Гребенщикова Ивана Поликарповича, но его дома не оказалось, и штабс-капитану стоило большого труда доказать жене Гребенщикова, суровой и подозрительной, свои благие намерения. Наконец она объяснила, куда идти, предупредив:
– Прямиком по деревне не идите, чужого сразу заприметят.
Он поблагодарил и околицей добрался до нужного дома.
Иван Поликарпович отворил дверь не сразу. Добровольский повернул назад, когда его окликнули… Несмотря на полдень, занавески на окнах были наглухо задернуты. Гребенщиков, торопливо задвигая засов, объяснил штабс-капитану, что дом этот – свата, который подался в город, а сам он отсиживается здесь.
– Мы тут продотрядников малость пощипали. Небось слыхали? Ну вот… а как приспела к ним помощь, начали нас трусить – и пошло и поехало, люди наши кто где по углам попрятались. Через пару дней краснопузые ушли. Правда, несколько осталось, ну да это не беда. – И, посмотрев на Добровольского, спросил без обиняков: – А вы к нам на помощь или, может, наоборот, в нас нужда оказалась?
– Да, Иван Поликарпович, – начал горячо Александр, – мы все нужны друг другу в такой час. И я надеюсь, я верю, что вы, как истинный патриот отчизны…
– Ну нет! – оборвал Гребенщиков. – Вы эти шуточки бросьте! Одни словеса! Не люблю, не понимаю и не признаю!
Он забегал по горнице, маленький, толстый, с багровым лицом, приглушенно выкрикивая:
– Слыхали и про отчизну, и про патриотов! Бабьи сказки! Думаете, мы продотрядников били за свободу? Пустое! За себя, за свой карман и жизнь свою! А вы за отчизну хотите совдеповцам хребет переломить? Ерунда, за свое добро бьетесь! Потому что свобода – это деньги, а без денег кому нужна свобода!
– Пусть так, – с трудом остановил его Добровольский, – пусть так! И хотя я с вами не согласен, в данном случае важно другое…
– Все, что вы скажете, я знаю наперед, – тяжело дыша произнес Иван Поликарпович, зло поглядывая на штабс-капитана. – Вы будете призывать меня подняться против большевиков. Но уговаривать меня не надо, я и сам… того…
– Вот и прекрасно!
– Прекрасного-то мало. Не пойдут за вами наши люди, веры вам мало. Мы уж как-нибудь сами.
– Но это же самоубийство! – начал волноваться штабс-капитан. – Мы хотим совместных действий.
– А оружие у вас есть? – спросил вдруг совсем другим тоном Гребенщиков.
– Оно, можно считать, на полпути к вам, – быстро ответил Добровольский.
– Да ну! – удивился Иван Поликарпович. – Стало быть, ехали сюда в уверенности…
– Пусть будет так, – ответил Александр, чуть заметно улыбнувшись.
– Так, да не так, – не поддержал Гребенщиков. – Народ у нас кондовый, объяснять что – живот надорвешь.
– Попробуйте, Иван Поликарпович, вас послушают.
– Может, послушают, может, нет, – уклончиво ответил тот.
Продолжать разговор становилось бессмысленным, и Добровольский, обещав вернуться к ночи, отправился в лесную сторожку.
Если бы несколько месяцев назад Александру Сергеевичу сказали, что он сумеет за один день отмерить столько верст, скрываясь от людей, штабс-капитан счел бы это нелепой шуткой. Но сейчас, возбужденный предстоящими событиями, в которых ему отведена далеко не последняя роль, он уверенно шагал по тропе, чутко вслушиваясь в ласковый лесной гомон.
Тропа крутила меж деревьев. В некоторых местах сосны, высокие и безукоризненно стройные, так переплелись кронами, что лучи солнца едва просачивались сквозь живую крышу. Легкий сумрак напоминал о доме, отце с матерью. Вспомнилась Лиза. Ясная прежде судьба ее вырисовывалась теперь в беспокойно-тревожном, свете. Многое испытала она, но предстояло несравненно больше. Подумалось: не напрасно ли кладет на ее плечи такую тяжесть, выдержит ли?..
Потом начало подкрадываться беспокойство. По подсчетам он должен был уже выйти к сторожке, но лес шел сплошным массивом, не виднелся ни густой березняк, ни сцепившийся ветвями ельник.
Постояв минуту в раздумье, Добровольский вернулся немного назад, к теряющему силы после ухода вешних вод лесному ручью, что бежал близ засохшей сосны, от которой надо было взять круто влево.
Увидев умершее дерево, штабс-капитан решил хоть чуточку передохнуть, но, услышав пофыркивание лошади, спрятался в густом кустарнике, приготовив оружие.
Всадник ехал спокойно. Что-то в его молодом лице показалось знакомым. «Вроде бы Карпа Данилыча сын? Не начал бы палить с испугу».
Но штабс-капитан плохо знал Митрюшина. Услышав предупреждающее покашливание, Миша повернулся к Добровольскому и выжидающе посмотрел, стараясь вспомнить, где встречал этого исхудалого, почерневшего, в пропыленной офицерской форме человека.
Добровольский назвался, и Митрюшин усмехнулся:
– Так это вы сын отца Сергия. А меня откуда знаете?
– Наслышан…
– А караулите кого?
– Не вас. Но рад, что именно вас встретил. Не удивляйтесь, моя радость эгоистична: по-моему, наши пути идут в одном направлении и вы не откажетесь подвезти усталого попутчика.
– Ловки, – ответил Митрюшин. – Да что там, – продолжил он после короткого раздумья, – коли так, садитесь.
Ехать вдвоем было неудобно, но штабс-капитану эти последние версты показались самыми удачными.
Дорогой молчали. Но в сторожке, где их встретил Карп Данилыч, Миша не выдержал:
– Не возьму я в толк: чего вы добиваетесь?! Поднимете народ, постреляете, в вас постреляют, а вдруг все останется на месте?
Добровольский посмотрел на Карпа Данилыча, ожидая от него ответ на вопрос сына, нравоучений, но получилось наоборот.
– Не надо было допускать столпотворения в октябре, – сказал Митрюшин-старший с сожалением и болью, – не ломали б теперь головы.
– Не сидеть же сложа руки!
– Абсолютно с вами согласен! – живо подхватил штабс-капитан слова Михаила. – Нельзя давать большевикам ни минуты передышки. И это одна сторона. Другая – заставить тех, кто стоит в стороне, взять оружие и встать в наши ряды.
– А кто не пожелает? – спросил Митрюшин-младший, но Добровольскому показалось, что вопрос задал Карп Данилыч, и он повернулся к нему.
– Значит, превратиться во врага… Со всеми вытекающими последствиями.
– Но ведь мы, люди, с которыми я связан, не в ваших рядах, – отвлекая внимание от отца, произнес Михаил, все сразу поняв и оценив в отношениях Карпа Данилыча и штабс-капитана. – Нам все едино. Ваня Трифоновский, к примеру, что при царе дела свои делал, что при Советах, и плевать ему на политику! И мне тоже.
– Ни Трифоновский, ни вы сами даже не догадываетесь, что давно помогаете нам, – со снисходительной усмешкой ответил Добровольский. – Вот мы сейчас с вами вместе ехали к вашему батюшке. На одной лошади. И заметьте, хоть ехать нам вдвоем было не очень удобно и мы предполагали это, но я к вам попросился, а вы не отказали, ибо и цель и дорога у нас были общие… Может быть, по форме пример и не очень удачный, но по содержанию…
– Чего уж там, – проворчал Карп Данилыч, – яснее ясного.
– Да, господа, – с пафосом произнес Добровольский, – все мы воюем против Советов, и в этой борьбе не должно быть разногласия из-за причин, заставивших взяться за оружие! И вот я обращаюсь к вам, Михаил Карпович: если мне понадобится помощь, могу я на вас рассчитывать?
– Смотря какая помощь, – уклончиво ответил Миша, перехватив предостерегающий взгляд отца.
– Для вас несложная, – успокоил штабс-капитан. – Мне необходимо увидеть Трифоновского.
– Это можно, – согласился Митрюшин. – Не знаю только, необходимо ли это Ване…
В версте от лагеря Трифоновского их окликнули. Михаил выехал вперед, что-то объяснил двум охранникам.
Трифоновский встретил гостя равнодушно. Лишь на секунду в прищуренных глазах появилось любопытство, сменившееся настороженностью, и взгляд опять стал безразличным.
Добровольский, бегло оглядев просторную, но сумрачную избушку, хотел назвать себя, но не успел.
– Не трать попусту время, – произнес Трифоновский, лениво растягивая слова, – я тебя знаю. Говори, что надо.
Штабс-капитана от такого обращения покоробило, но он сдержался, благоразумно решив, что ничего хорошего ссора ему не сулит. Мягко, но с достоинством ответил:
– То, что вы меня знаете, неудивительно. Удивительно то, что вы не догадываетесь, почему я здесь.
– Уж, конечно, не затем, чтобы вступить в мою банду. – Он так и сказал «банду», хотя обычно этого слова никогда не употреблял.
– Разумеется, нет, – быстро ответил Добровольский, – однако помощь ваша нужна.
– Пошел нарасхват Трифоновский, – засмеялся Ваня. – Всем нужен!
– Не знаю, кого или что вы имеете в виду, однако хотел бы надеяться, что вы…
– Красиво говоришь, – перебил Трифоновский, – но все вокруг да около, а ты мне точно скажи: в чем помощь?
– Не мне лично, нашему делу!
– Э, нет! – повысил голос Иван. – В политику меня не путай. Я сам по себе, с вами идти резону мало, одни убытки. В прошлый раз из-за поганой кучи торфа двоих потерял. А на кой ляд, спрашивается, мне нужен был ваш пожар! Так что хватит!
– Но послушайте, – не сдавался Добровольский, – нельзя же безвылазно сидеть в этой избушке на курьих ножках и ждать удачу!
– Это не твоя забота!.. Так ты скажешь, наконец, что за дело?!
– Надо твоим людям пример показать, чтобы народ поднять против этих… – штабс-капитан неопределенно мотнул головой. – Где и когда, я объясню.
– Шум большой будет? Убивать придется? Да говори ты, что мнешься?
– В общем да… В некоторых случаях, – ответил Добровольский, с неприязнью подумав: «Наверное, хочет под этот шум карманы набить! Ладно, придет время и до тебя доберемся, бандитская морда», – и отвел взгляд, с неприятным холодком заметив улыбку, тронувшую тонкие губы Трифоновского.
36
Этого не ждали. В семь часов вечера в милицию сообщили о том, что на заводчика Смирнова Петра Федоровича совершено покушение. Через час Госк докладывал Кузнецову о результатах осмотра места происшествия.
Смирнова, тяжело раненного выстрелами в спину и левое плечо, нашли у окна, одно стекло которого было разбито. Единственный в доме человек – служанка, – средних лет женщина, услышав выстрелы, спряталась в самой дальней комнате и просидела там, пока тишина и любопытство не заставили подняться на второй этаж. Увидев лежащего в крови хозяина, она с криком выскочила на улицу.
Кто приходил к Смирнову, не знает, ходила за продуктами, а когда вернулась, услышала у Петра Федоровича в кабинете возбужденные голоса, а потом стрельбу. По ее словам, разговаривали двое – хозяин и еще кто-то, уходили тоже двое или трое. Уходили торопливо, но не бегом. В комнате Смирнова порядок, следов борьбы или обыска нет. Хозяин без сознания, иногда очень невнятно произносит имя, похожее на «Ваня».
– Может быть, Трифоновский? – предположил Госк.
– Вряд ли, – ответил Кузнецов после короткого раздумья. – К убийце так не обращаются.
– Но ведь стреляли в спину. Смирнов мог и не ждать выстрелов, спокойно разговаривать.
– Но служанка говорит, что голоса были возбужденные.
– К этому моменту, к моменту выстрелов, могли успокоиться.
– Почему тогда разбито стекло? Наверняка он пытался что-то крикнуть, позвать на помощь. К тому же какие у заводчика Смирнова могут быть дела с главарем банды?
– Какие обычно, – усмехнулся Госк.
– Но ведь ничего не взято!
– Так утверждает служанка, но она могла и не знать, что хранит у себя хозяин.
– Но зачем стрелять? Шум, риск. А это должно быть оправдано.
– А зачем было стрелять в часовщика Бабурина? – вопросом на вопрос ответил Болеслав Людвигович. – По манере очень похоже на Трифоновского: тот не любит свидетелей.
– То, что преступление на Соборной улице совершил Трифоновский, еще не доказано.
– Почти доказано, Николай Дмитриевич.
– Вот когда у нас не будет слова «почти», – поправил Кузнецов, – тогда и начнем сравнивать, обобщать и делать выводы.
– Но ведь предположение, что в преступлении на Соборной замешан Трифоновский, – ваше!
– Я и сейчас этого не отрицаю. Но это именно предположение, требующее, как и любое другое, проверки и подтверждения.
– Но когда предположение перерастает в уверенность, я думаю, тратить время на всевозможные проверки и перепроверки нецелесообразно.
– В русском языке есть мудрая пословица: «Семь раз отмерь – один отрежь!»
– Вряд ли она подходит под все случаи жизни.
– К нашей работе это должно подходить всегда, и я хочу, чтобы меня правильно поняли: чем острее нож, тем осторожнее им надо пользоваться. – И неожиданно спросил: – Помните, как зовут сына Смирнова?
– Кажется, Иван… Да, Иван Петрович… Ваня… Вы думаете?.. – Госк вопросительно посмотрел на Кузнецова.
– Допустим, разговор шел о сыне, – произнес тот медленно, словно что-то перебирая в памяти. – Тогда мы должны спросить себя: почему отец вспомнил о нем именно в эти минуты?
– В эти минуты, – пояснил Госк, – поручик проводил время в трактире Гребенщикова. Это установлено совершенно точно.
– Тем более! Из чего можно сделать вывод, что Смирнов-старший знал стрелявшего или стрелявших и разговор, а может быть, спор шел о каком-то общем деле.
– Кто-то из бывших? Субботин? Добровольский? Гоглидзе? Или все трое?
– Вполне возможно, – все так же неторопливо ответил Кузнецов. – И если это так, то дело надо рассматривать совсем в другом свете… Сходи-ка, Болеслав Людвигович, к Боровому, он занимается бывшими.
Вопрос Боровому не понравился.
Госк понял это, увидев, как поморщился и затеребил военком свои вислые усы. Но отвечать надо было, и он ответил:
– Гоглидзе в городе всего три недели, никогда здесь прежде не бывал, приехал сюда вместе со своими друзьями-офицерами, с которыми познакомился на фронте. Сам из Батума, но туда возвращаться не может. Почему? А кто его знает, верно какая-то история, сам понимаешь, Кавказ, свои обычаи. Ну да нам от этого не легче. Все эти куцые, прямо сказать, сведения мы добыли от других лиц. По крохам. Нас ротмистр не удостоил, так сказать, чести своим посещением… С другими и проще и сложнее. Оба у меня были. Поручик, теперь, понятно, бывший поручик, Субботин, как мне кажется, будет работать у нас. Да-да, не удивляйся! Об этом уже был разговор с Бирючковым. У того, правда, отношение к офицерам недоверчивое, да и у меня тоже, но я, однако, убежден, что все они, все, как один, врагами быть не могут, есть среди них и просто запутавшиеся. Как, например, Субботин. К тому же человек он стеснительный и ранимый. Совсем не похож на Добровольского – слишком вежливого и предупредительного… Позвольте, говорит, отказаться, дело, знаете ли, сложное для меня, вряд ли я смогу вам быть чем-либо полезен. – Военком произнес это с особым выражением, и Госк сразу представил себе красивого, благовоспитанного и осторожного штабс-капитана. «И это только три человека – и каждый загадка, – подумал он. – А сколько таких! И они проходят мимо нас!»
37
В саду гомонили скворцы. Дементий Ильич любил эту пору, когда природа, окончательно стряхнув снежные сны, спешит расправить плечи, дать жизнь всему, что сумело пересилить зиму, когда все кругом набирает силы, радуясь теплу и свету. Это заставляло забыть о прожитых годах и видеть только то, что впереди. Этого не хватало Субботину в последнее время, когда что-то темное и холодное начинало тяжело ворочаться в груди, едва он оставался один, пугая и раздражая новизной ощущений. Он хотел утопить тоску в кипучей деятельности: встречах, разговорах, поездках, десятках других больших и малых дел. Потому днем для тягостных предчувствий не оставалось места и времени, зато ночью они владели им полностью. И он сокращал ночь, поздно ложась и рано вставая.
Все удивлялись его энергии, а он питал свои силы ненавистью к тем, кто встал на пути, переворошил и поставил под сомнение все то, что создавалось им все эти многотрудные годы. Никогда еще Субботин с такой ясностью и четкостью не понимал, насколько беспощадна в своей необратимости грозящая катастрофа.
«Уничтожать и без жалости! – возбуждал себя Дементий Ильич. – Уничтожать всех, кто мутит народ! Правду говорил Герман Георгиевич: нет середины – если не мы их, то они нас. Под самый корень! А если меня, то и сад, а если сад, то и птах этих».
Субботин, вслушиваясь в птичье бормотанье, вскинул голову, отыскивая взглядом скворцов. Они быстрыми остроносыми комочками неудержимо перелетали с места на место.
– Ишь… каковы… нет на вас угомону, – улыбнулся в бороду Субботин.
А увидев сына, сразу посуровел.
– Ждать заставляешь. Нехорошо, – проворчал он, усаживаясь на скамейку под раскидистой яблоней.
Илья не ответил, присел рядом.
В тот вечер они так и не сумели ни поговорить, ни объясниться, к чему Илья, впрочем, и не стремился. А Дементий Ильич, узнав, что сын ходил в военкомат, приготовил разные слова: злые и добрые, убедительные и угрожающие, но все они ушли, едва увидел Илью. Было у того посветлевшее лицо и глаза, в которых пряталась неожиданная решимость, не отчаянная – от загнанности, а спокойная – от уверенности.
Отец, удивленный и настороженный, спросил только:
– Ходил все-таки?
– Ходил, – ответил Илья без привычного вызова. И это насторожило еще больше.
И Дементий Ильич решил отложить разговор, чтобы понять, что произошло. Но после вчерашнего вечера ждать было нельзя… Поглядывая на сына, вспоминал приготовленные слова, но сказал другие, наболевшие:
– Не говорил ли я тебе, что жизнь свою теперешнюю начал, имея полторы копейки, а в этот город приехал с двумя рублями? Сколько трудов и унижений стоило мне нажить все, что теперь у меня есть, знаешь?
Он замолчал, хмурясь и сдерживая подступившее волнение.
– Догадываюсь, – тихо ответил Илья с выражением, которое более всего раздражало отца.
– Хорошо, если догадываешься, – сумел, однако, не поддаться вспыхнувшему чувству Дементий Ильич. – Тогда попробуй догадаться, что для меня означает расстаться с этим и что для меня значат те, кто хочет пустить меня по миру!
Илья промолчал, и отец продолжил:
– Я это к тому, что все мои капиталы принадлежат только мне и… – он выдержал паузу, – тебе.
– Мне твоих денег не надо! – быстро ответил Илья.
– Надо, ох, как надо! – снисходительно улыбнулся Субботин.
Илья посмотрел на него и вдруг вспомнил пасмурный и холодный весенний день и замерзающего под окнами мужика, страдающего из-за субботинских денег…
– Не надо! – повторил он и отвернулся.
– Ну, ладно, на нет, как говорится, и суда нет. Но мы с тобой мужчины, а сестра и мать – они как проживут?
Неприятно удивило Илью то, что возник вопрос не у него, а у отца, который не видел ничего, кроме своих бесконечных дел, и вряд ли мог любить кого-то и помнить о ком-то, кроме себя и денег.
«Он лучше, чем есть, чем я о нем думаю, или я хуже, чем вижу себя?» – подумал Илья, но отложил пока эту мысль, потому что надо было отвечать на вопрос.
– Не знаю… я не думал, – признался он и продолжил неуверенно: – Служить пойду…
– Кому? – живо спросил Дементий Ильич, обрадованный возможностью сказать– наконец самое главное: – Если нам – раскроем объятия. Если им – значит, против меня. Против сестры. Против матери. И знай: случится со мной что – они у тебя и куска хлеба не возьмут. С голоду помирать будут, а не возьмут.
Отец нашел слабое место и бил по нему расчетливо и жестоко, понимая, что только жалость к матери и сестре сможет удержать сына.
– И торопись решать! – закончил Субботин. – Время пришло: завтра будет поздно!
И пошел через солнечный сад.
Илья проводил его тревожным и завистливым взглядом, с обидой сознавая, что, наверное, никогда не сможет стать таким, как отец. Не в делах и поступках, которые не могли быть приняты Ильей, но в непоколебимо твердой уверенности в самом себе.
«Мальчишка! Слабый безвольный мальчишка! – ругал себя он. – Пора научиться быть верным цели. Выбирать ее и идти к ней!»
Илья старался не вспоминать, что буквально день назад томился неопределенностью, думая даже об уходе из жизни. Он был как больной, преодолевший кризис и не желавший вспоминать о тяготах минувшего времени. И не потому, что ужасала сама болезнь, а потому, что не хотелось признаваться в неожиданно легком рецепте победы над ней.
«Какая мне цена, чего я стою, если один толчок способен отбросить меня, отшвырнуть, толкнуть под чужие ноги! – думал Илья. – Ведь если я нащупал тропинку, пусть даже с чужой помощью, должен идти по ней. Тем более что нутром чувствую: не за отцом правда. Чем же он тогда меня остановил? Именем близких мне людей… Лиза? Пусть так. Но мать. Разве может у нее быть одна правда с отцом?!»
Он хрустнул пальцами, встал, задев головой тяжелеющую от листвы яблоневую ветку, и направился в дом. Мать, увидев возбужденное лицо сына, заволновалась:
– Случилось что?
– Ничего, – успокоил Илья. – С отцом поговорили. – Он на секунду замолчал, по-отцовски из-под бровей посмотрел на мать. – Спросить хочу… Только ты прямо скажи… Мне это очень важно.
Евдокия Матвеевна напряженно ждала.
– Скажи. – Илья тщательно подбирал слова. – Ты была с отцом счастлива? – И видя, как побелела она, спросил другими словами: – Хорошо ли прожила ты с ним? То есть я хотел сказать – живешь?
– Как-то это все… не пойму я…
– Ты не волнуйся, – нежно дотронулся он до ее не потерявшей былой красоты руки. – Я не из любопытства. Поверь.
– Я верю, но право же…
– Сколько ты с ним прожила? – пришел он к ней на помощь. – Лет тридцать?
– Тридцать два года… Тридцать два, как один… Всяко бывало…
Она потянулась за платком, чтобы вытереть набежавшие слезы.
– Любил он тебя?
Его настойчивость пугала, но Евдокия Матвеевна догадывалась, как важно теперь для сына все, что скажет.
– Может, и любил… Любил, конечно, любил, – повторила она. – Иначе зачем же… Он ведь с батюшкой моим в крепкой ссоре был. В Твери мы тогда жили. Не знаю, что там промеж них произошло, у Лизаветы спросить надо, ей отец, по всему видать, рассказал… – Евдокия Матвеевна умолкла, с обидой и досадой сознавая, что значит для мужа меньше, чем дочь. – Не хотел батюшка меня за Дементия выдавать, – продолжила она, немного успокоившись, – а он добился-таки своего. Засватал и увез. Не согласны были родители, а добился-таки своего. И приданого никакого за мной батюшка не дал. Потом, однако, сумел Дементий Ильич вытребовать… Да не впрок пошли деньги-то, не в радость…
– Почему так? – спросил Илья. Семейные тайны, о которых он ничего не знал, раскрывали перед ним близких людей в новом свете.
– Как потребовал он деньги с батюшки, так тот вскорости и помер.
– Может быть, и не из-за этого?
– Я тоже так спервоначалу думала, а потом, как и за матушкой-то смерть пришла, поняла: из-за них, из-за денег проклятых… Бабушку-то помнишь?
Илья помнил ее очень смутно, но, чтобы не обидеть мать, утвердительно кивнул.
– Жила она с нами после батюшкиной смерти. Я потребовала, – сказала Евдокия Матвеевна, словно сама удивляясь тому, что когда-то могла требовать. – Пожила, а потом хворать начала. Дементий Ильич и отправил ее к сестре моей младшей, Маняше. Денег дал. Двести рублей. На пропитание. Пообещал: поживешь пока у нее, а потом опять к себе заберем. Обещал, да обманул.
Мать заплакала. Илья не утешал, понимая, что утешение ничего не стоит перед суровой памятью прошлого.
– Обманул… ох как обманул… Матушка-то все спрашивала Маняшу, когда, мол, меня Дуня опять к себе заберет – очень уж она меня любила, – а сестра-то и открыла: «Не возьмут они тебя. Насовсем сюда привезли. И денег для этого дали…» Не верила маманя долго, потом затосковала и померла… А Дементий-то Ильич чуть не судиться с сестрой хотел; не могла, мол, старуха за два месяца двести рублей проесть, верни остальные. И здесь своего добился. Видишь, как деньги-то застили: не человека жалко, а рубли.
Что-то давнее, независимое и гордое, мелькнуло в материнском взгляде. Это поразило Илью. «Вот как один человек может сломать другого. Без сожаления и без пощады. А ведь так может быть и со мной. Вернее, уже начинается. Завтра будет поздно, так, кажется, сказал отец», – внезапно вспомнил Илья, начиная понимать весь смысл, заложенный в короткой фразе.
– Что с тобой, Илюшенька?
– Ты не волнуйся, мама! Мне надо ненадолго уйти.
Илья поцеловал мать и торопливо ушел.
«Только бы Бирючков оказался на месте», – молил он судьбу, боясь, что решимости хватит ненадолго, а ему надо было сделать этот шаг, может быть, самый важный в жизни.








