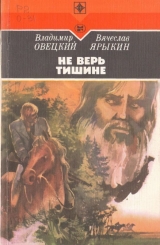
Текст книги "Не верь тишине (Роман)"
Автор книги: Владимир Овецкий
Соавторы: Вячеслав Ярыкин
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
24
Сытько торопливо отыскал в резном заборе хитро спрятанную кнопку звонка, с силой нажал и нетерпеливо прислушался. Наконец звякнула дверь, зашуршали шаги.
– Кто? – спросил строгий женский голос.
Максим Фомич назвался. Прямая, высохшая до желтизны экономка пропустила вечернего гостя, тщательно заперла высокую калитку. Максим Фомич остался ждать в полутемной гостиной. Он не успел сообразить, что стало с некогда богато обставленной, а теперь черневшей пустыми углами комнатой, как вошел Лавлинский.
– В чем дело? Почему вы здесь?
– Беда, Герман Георгиевич, беда! Лузгина арестовали!
– Когда?
– Только что.
– За что?
– За контрибуцию… Как председателя союза фабрикантов за отказ выполнить решение городского Совета.
Герман Георгиевич плотнее затворил дверь, за которой слышался возбужденный разговор.
– Кто знает об аресте?
– Пока никто. Но мне кажется, этого не скрывают.
– Что ему грозит?
– Все, что угодно. Они на все способны!
– Интересно. – Лавлинский смотрел за спину Сытько чуть прищуренными глазами. – У меня к вам просьба. Постарайтесь регулярно информировать меня обо всем… вы меня, разумеется, понимаете… И не здесь.
Лавлинский подождал, пока уйдет Сытько, достал папиросу, подержал в нервных пальцах, прикурил от свечи. Пламя качнулось, зеркально отразившись в темно-синем стекле окна. «Почему-то люди считают, – подумал он, – что бог добр и участлив. Напрасно. Только злой шутник мог придумать такую подлую и коварную штуку, именуемую „жизнь“. Жизнь, которая зависит от тысяч неподвластных человеку случайностей… Придет однажды какой-нибудь Кукушкин, дунет – и погаснет свеча. Впрочем, здраво рассуждая, бог тут не так уж и виноват. А Кукушкина ждать не надо…»
Он вернулся в кабинет, спокойный и решительный.
– Скверные новости, господа! Большевики арестовали Лузгина.
– Это неслыханно! – Смирнов швырнул карты на стол. – Они начинают распоряжаться, словно хозяева!
– А мы своим бездействием тому способствуем! – Гоглидзе сверкнул злым взглядом.
– Не надо горячиться, господа офицеры, – остановил Добровольский. – Выслушаем сначала Германа Георгиевича.
– Мне, собственно говоря, нечего добавить. Но, по всей вероятности, большевики этим арестом хотят повлиять на союз фабрикантов.
– Вот-вот, – крикнул поручик. – Сначала дань соберут, а потом к стенке!
– Что делать, – произнес Добровольский.
На этот раз они нас опередили.
– Вы хотите сказать, – ротмистр хмуро посмотрел на штабс-капитана, – что деньги для большевиков надо собрать?
– Да, другого выхода пока не вижу!
– Никогда! – Смирнов вскочил со стула. – Слышите, никогда! Я скорее пущу себе пулю в лоб, чем допущу такое!
– Не торопитесь, – не разжимая губ, улыбнулся Лавлинский. – Не оказывайте лишней услуги большевикам. И попробуйте трезво понять, что, если мы, вернее союз фабрикантов, не выполнит требование Совета, можете заказывать панихиду по Тимофею Силычу.
– Не посмеют!
– Посмеют, господин ротмистр. Я в первую минуту тоже не допускал такой мысли, но теперь… Поймите, Совет сейчас находится в таком положении, когда только решительные меры спасут его от гибели. В этой ситуации большевики ни перед чем не остановятся. Но, господа, – он уже весело смотрел на офицеров, – согласиться на требования большевиков еще не означает выполнить их. Сначала надо обговорить с ними условия освобождения председателя союза фабрикантов, потом попросить день-другой подумать, потом начать, но не торопясь, по крупицам, собирать дань, оброк, контрибуцию – называйте как хотите. А тем временем усиленно готовиться к тому, чтобы неожиданным ударом…
– Выходит, – повел широкими плечами Гоглидзе, – большевики, сами того не подозревая, ускорили свою собственную гибель! Ха-ра-шо, ах, хорошо! Давно пора! А то сидим тут, вино распиваем, в карты играем. Называется, приехали бороться!
– Ну это вы напрасно, – успокоил Лавлинский, – немало все-таки сделано.
– Значит, будем действовать решительно! – Гоглидзе встал.
Офицеры откланялись. Герман Георгиевич проводил их до калитки и торопливо вернулся в дом.
25
– Доколе же терпеть мне такое наказание! Уж я ли его не лелеяла, не берегла. А он с этой бездомной, с этой… – Глафира Ивановна всхлипнула.
– Зря ты… Она девка скромная, работящая. Да и любит Мишку. Чего ж тебе? – буркнул Карп Данилыч.
Тося забыла, почему оказалась в комнате, где за громоздкой печкой ночевали Мишины родители. Она стояла, оцепенев, не в силах повернуть назад. Карп Данилыч закашлял, пробурчал что-то неразборчиво и примирительно, но жена наседала, торопясь выговориться:
– Зачем ты ее сюда привез, зачем? Кто она нам? Ни сноха, ни работница!
– «Ни сноха, ни работница», – передразнил Митрюшин. – Человек она, сирота. И хватит об том, ишь завела, с утра спокою нет!
– Ах, спокоя тебе захотелось? – с мстительной решимостью воскликнула жена. – Так вот: скажи дядьке Еремею, чтобы духу ее здесь не было! Иначе… иначе я не знаю, что сделаю, – и заплакала.
Тося, не помня себя, выскочила на задний двор, остановилась среди стоящих торчком оглобель, широкого прогнившего чурбака, тележного колеса с заржавленным обручем и сломанной деревянной спицей, долбленного, как корыто, бревна, обернутого коричневой трухой. Сипло надрываясь, прокричал петух, загремел цепью пес, намереваясь залаять, но только со вздохом зевнул, блеснув крепкими зубами, томно выгнулся на крыльце кот, рыжий с серыми лапами.
«Ну почему так, господи? – думала Тося. – Что я сделала плохого?» Бессильно опустив руки, она прижалась щекой к шершавой доске забора, слизывая тепло-соленые слезы.
Ей вспомнилось детство, поблекшая от безмерных забот мать, отец, всего себя подчинивший главной цели – «выбиться в люди» и почти достигший ее по деревенским понятиям. В то лето стояла страшная сушь с ее извечным спутником-пожаром. Не спаслась от беды и их деревенька: за несколько часов от нее остались лишь курящиеся головешки. Оказался погребенным под ними и отец, пытавшийся спасти хоть что-то из того, что наживалось потом и кровью. Потом умерла младшая сестренка, а вскоре Тося схоронила и мать. И будто оцепенело что-то внутри… Но как на месте выгоревшего бора сквозь обуглившуюся землю тянется к небу зеленая поросль, так и в человеке жизнь берет свое. Она не задумывалась над отношениями, которые возникли между ней, Яшей и Мишей. И трудно сказать, как долго тянулась бы эта неопределенность, если бы не Мишин приход в ту ненастную ночь. Ухаживая за ним, обессиленным и беспомощным, Тося поняла, что ближе и дороже этого человека у нее нет на свете.
– Эй, девка, ты чего это? Таисья, тебя, кажется, спрашиваю!
Тося торопливо вытерла лицо уголком платка и обернулась.
– Ничего, Карп Данилыч.
– По ночам плачут, когда «ничего», а теперь утро. Ну-ка, сказывай, что там у тебя приключилось. – У него был строгий голос человека, не привыкшего и не умеющего вызывать на откровенность, оттого ворчанием скрывающего смущение и сочувствие.
– Слыхала я… об чем вы с Глафирой Ивановной… – прошептала она, опустив голову.
– Хм, н-да, – смешался Карп Данилыч, не зная, что сказать. – Ну слыхала и слыхала, что с того. Мало ли об чем муж с женой по утрам толкуют. Вот сама выйдешь замуж, – попробовал он свести дело к шутке. – Ну будет тебе, будет… Пойдем в избу. Чаю попьем, пораскинем умом – все пойдет чередом.
Чай пили втроем: Еремей Фокич еще не вернулся из церкви. Карп Данилыч прихлебывал шумно и зло, Глафира Ивановна – с молчаливой обидой, Тося – боязливыми маленькими глотками.
Потом Митрюшины пошли в церковь, а Тося – к Мише. Он спал спокойным сном выздоравливающего. Она опустилась на стул, по-старушечьи сложив руки на коленях.
Миша проснулся, открыл глаза.
– Ты что, так всю ночь и просидела здесь? – удивился он. – Боялась, украдут? – Миша улыбнулся и потянулся к Тосе рукой.
Она отодвинулась.
– Ты не думай, я отступлюсь. Как только окрепнешь – отступлюсь… Ничего не надо!
– Что не надо?
– Ничего не надо! – Тося вскочила, но он остановил, больно схватив за руку.
– Сядь!
Она покорилась, не зная, что ждать от него в следующую минуту.
– Где моя одежда?
– Ты что удумал? – испугано спросила Тося.
– Ничего. Просто мы сейчас убежим отсюда. И убежим туда, где тебя никто не обидит.
Миша и Тося сидели у остывающего самовара, когда Карп Данилыч и Еремей Фокич вернулись из церкви.
– Ай да Миша, ай да молодец! – Ктитор заторопился к шкафу. – По случаю счастливого выздоровления не грех и по лампадке, а, Карп Данилыч?
– Оно, конечно, греха в том нет. К тому ж и потолкуем. По-семейному, – добавил Карп Данилыч.
Тося вспыхнула и хотела выйти из-за стола, но Миша удержал. А Еремей Фокич повернулся к Митрюшину-младшему.
– Если поправился – уходи куда поукромнее. Ищут тебя.
– Понятно, – усмехнулся Миша. – Ну а ежели я желаю встречи, что тогда?
– Не впутывали бы вы меня. Вам что: молодо-бедово, а я господу-богу служу, к встрече с ним поманеньку готовлюсь.
– Готовься, дед, готовься, только прежде скажи, где Яшка?
– Ты лучше у Вани Трифоновского спроси, с ним твой дружок бывший ушел.
– Ты что, дед? Как это он может быть у Ваньки?! По своей воле?!
– Э-э, внучок, – закашлял смехом Еремей Фокич, – кто ж нынче по своей воле живет! Царь-батюшка и тот черной силе поддался, а уж про нас, червей безголовых, комаров болотных, и говорить нечего.
– Ну вот, Таисья, – сказал Миша, – дорога теперь нам ясна. – Встал и объявил: – Уезжаем мы. Отгостевались. Благодарствуйте за привет и ласку, – и шутливо поклонился деду Еремею.
– Слаб поди, – глухо произнес Карп Данилыч. – Поокреп бы малость.
– Окрепну. Только не здесь.
Карп Данилыч нахмурился, но ктитор перебил:
– Ежели надумал уезжать, уезжай, не задерживайся, а то гляди, возьмут тебя здесь, тогда не только тебе, другим не поздоровится.
Глаза Карпа Данилыча и ктитора встретились.
– Слышь-ка, Таисья, и ты, Еремей Фокич, – сказал Карп Данилыч, – вышли бы вы пока, потолковать мне с Михаилом надо.
Митрюшкин проводил их взглядом, повернулся к сыну. Тот стоял перед ним такой же невысокий и крепкий, с такими же, отцовскими, упрямыми глазами. Карпу Данилычу хотелось сейчас сказать о своих тревогах и заботах, обидах и надеждах, и он тяжело, будто пудовые гири, складывал в уме слова.
– Опять к этому… к этому каторжанину! Опять позор… на отцову голову позор!
– А куда прикажешь деться? За мной теперь, как за волком, – тихо и грустно сказал Миша.
– Ах, Мишка, ах ты дурачок, я же все для тебя, кому ж оставлю! Я тебе и братов с сестрами не завел, чтобы не сцепились из-за денег… Ну зачем тебе этот душегуб? У меня много чего есть – все тебе, все для тебя!
– Да не из-за денег я, не из-за денег! Скушно мне, муторно! Успокоения душе не нахожу. Потому и в лавке твоей стоять не могу и по делам твоим ездить.
– Чего ж ты хочешь? – растерялся Карп Данилыч.
– Знать бы… – Миша отвернулся.
– Моя вина, – вздохнул Митрюшин. – В том вина, что в бога малую веру тебе внушил. Оттого и маета, оттого и злобствуешь.
– Бог тут ни при чем. Видал я и таких, кто в бога верует шибко, а человека им загубить, что Муху раздавить.
– Цыть! – опять нахмурился Карп Данилыч. – Не тебе об том судить. Да и не время. А люди… оно что… оно, конечно, всяк свой разум имеет, у всякого своя корысть, а в душу не заглянешь. – И, покосившись на сына, закончил: – Взять хотя бы Таисью.
– Ну ей-то от меня никакой корысти нет, одна растрата, – засмеялся Миша.
– Как знать… Матери, вишь, не пришлась она… Да и что сказать: голь перекатная.
– А тебе? – спросил сын.
– И мне не находка. Однако по нынешним временам лучше иметь под боком такую Таисью, чем… – Он оборвал себя, перешел на другое. – А уехать тебе, пожалуй, надо. Отлежишься, окрепнешь, мозгами пораскинешь… Дам я тебе один адресок – полная надежа. Может, и сам вскорости туда наведаюсь. А к Ваньке не ходи, не гневи отца и бога!
Наказ Миша выполнил наполовину.
Выехав без задержки из города и добравшись до маленькой лесной сторожки, он оставил Тосю у отцова приятеля, молчаливого и заросшего, как остаревшее дерево мхом, мужика, обещал вернуться. А сам через два часа уже подъезжал к лагерю Трифоновского.
В полдень Прохоровский проводил совещание.
Госка выслушал не перебивая. Болеслав Людвигович рассказал о происшедшем за день. Два уличных ограбления, драка в трактире – один человек тяжело ранен, поставлены на довольствие два новых сотрудника.
Мало утешительного было в деле банды Трифоновского. Не удалось найти Михаила Митрюшина. Когда усиленный патруль прибыл на место, где, по словам Сытько, должен был ждать Тимонин, его там не обнаружили. «Еще бы, – бросил начмил, – он не так глуп, чтобы ждать, пока вы придете! Обвел Сытько, как мальчишку, и был таков!» Сытько говорил, что Тимонин не назвал дом, где находится Михаил Митрюшин.
Без интереса выслушал начальник милиции рассказ Кузнецова о бывших царских офицерах.
– Офицеры с их политическими делами проходят по другому ведомству! Для нас самое важное – банда, и только банда! – требовал Прохоровский. Он заметил, как поморщился его заместитель, и добавил: – Что касается офицеров, то мое мнение совершенно определенное: вряд ли от них можно ожидать сколько-нибудь серьезных шагов. Во всяком случае, в ближайшее время!
26
Архимандрит Валентин назначил встречу в Леонове.
Путь до этой подмосковной деревни архимандриту сократили беспокойные мысли, связанные со смертью монахини Серафимы. Валентин решил прежде всего определить, обнаружила мать Алевтина драгоценности или нет. Потом уже действовать…
Незаметно подъехали к Яузе. На пологом холме показался небольшой храм Положения ризы пресвятой богородицы. Архимандрит нетерпеливо хмурился, поджидая, когда к нему подойдут. Его проводили к настоятелю отцу Владимиру.
– Где же гость? – сразу спросил архимандрит, не затрудняя себя долгими приветствиями.
Отец Владимир отдал распоряжения, и через минуту в комнату вошел штабс-капитан Добровольский.
– Я весьма признателен вашему высокопреподобию за то, что вы, несмотря на большую занятость, изволили встретиться со мной. – Он учтиво поклонился.
Архимандрит посмотрел на отца Владимира, и тот, сославшись на неотложные дела, вышел. Добровольский был в полувоенной форме и этим смущал архимандрита. Вглядываясь в крепкую, стройную фигуру, спокойное лицо, Валентин подумал: «Священнослужителем мог бы стать приметным».
– Должен сказать также, – продолжил Добровольский, – что прежде я обратился к митрополиту Макарию, однако его высокопреосвященство направили меня к вам, уверив, что вы вполне можете решить возникшие вопросы.
– Меня радует такое доверие. Но две преамбулы – не много ли даже для штабного офицера?
– Они необходимы, – ответил, чуть покраснев, штабс-капитан. – Поэтому перехожу к главному. Большевики арестовали председателя союза фабрикантов, созданного в противовес большевистскому Совету, господина Лузгина.
– Чем, однако, арест одного человека может повредить общему делу?
– Тем, что он играл ведущую роль в обеспечении нас средствами. Тимофей Силыч организовал сбор средств для известных вам целей. Большевистский Совет принял решение о контрибуции. Союз фабрикантов не может оставить в беде своего главу. Большевики могут пойти на крайние меры. Средства, предназначенные для нас, пойдут в казну Совета. Как видите, мы поставлены в чрезвычайно трудное положение…
«Боже мой, как он многословен», – с тоской подумал архимандрит.
– Поэтому общность задач, – продолжал Добровольский, – позволяет нам надеяться на помощь и поддержку со стороны русской православной церкви и в вашем лице – ее руководства.
«Наконец-то», – с облегчением вздохнул Валентин, но сказал без всякого выражения:
– Ваша надежда не беспочвенная.
– Надежда надеждой, но… – начал было Добровольский, но архимандрит остановил его властным жестом:
– Хочу, чтобы вы верно истолковали мои слова. Церковь готова оказать помощь своим сынам и дочерям. Но помощь сия была, есть и будет тем более весомой, чем более реальной может быть отдача. Во всяком случае, мы должны твердо знать, насколько жизнеспособно то, во что мы вкладываем средства.
– Но это коммерция! – воскликнул штабс-капитан.
– Что здесь удивительного? Церковь всегда учитывала существующую реальность.
– Следовательно, вам хотелось бы знать, насколько мы сильны? Мы сильны, слово офицера! Но наша жизнеспособность зависит от размеров помощи!
– Круг замкнулся, вы хотите сказать? И все-таки меня несколько удивляет одно обстоятельство. Неужели в городе не осталось сил, кроме союза фабрикантов и его уважаемого главы Тимофея Силыча, которые могли бы оказать вам необходимую помощь? Ваш батюшка, например.
Валентин говорил спокойно, стараясь не показать напряжения, с которым подводит штабс-капитана к интересующему предмету и ради которого приехал из Москвы в Леоново.
– Отец Сергий активно помогает нам. Но эта помощь, так сказать, духовного плана.
– А монастырь? Он располагает известными возможностями.
– Я не вправе подвергать сомнению ваши слова, но то, что выделила мать Алевтина, просто смехотворно.
«Не нашла, – успокоился архимандрит. Но через секунду вновь заволновался: – Нашла, но…»
Подумав, произнес твердо:
– Хорошо, сын мой. Укрепите в сердце веру в счастливый исход нашего святого дела. Господь да благословит вас.
Добровольский поклонился, и архимандрит закончил деловым тоном:
– Мы изыщем возможность приехать к вам. Скажем, в светлый четверг.
27
Чугунов не знал усталости. С того момента, как было принято решение о создании продотряда, жизнь пошла в ином измерении. Ом всегда жил стремительно и азартно, но сейчас для него время словно спрессовалось, ни минуты попусту, все подчинилось главному: дать городу хлеб!
Он бегал по учреждениям, встречался с нужными людьми, отдавал приказы, требовал, доказывал, просил, и уже утром следующего после заседания дня были созданы два продотряда, один из которых Чугунов возглавил сам.
На первых порах дела шли более-менее удачно. Но в четвертой по счету деревне они натолкнулись на стену, глухую и враждебную. Более всего удивило то, что на защиту кулаков поднялось все село, и Чугунову понадобилось много сил, чтобы убедить бедняков помочь продотряду. Этот случай заставил задуматься.
В следующей деревне оказалось еще труднее. Здесь уже знали о продотряде и сумели принять необходимые меры.
Тогда Чугунов распорядился полнее загрузить продуктами часть подвод, выделил охрану и отправил в город! Он чувствовал, как росло подогреваемое кулаками озлобление против них, и все же продолжил путь по деревням. Чугунов не исключал возможности открытого выступления кулаков, но думал об этом с молодой самоуверенностью как о чем-то маловероятном. Но это случилось…
Сначала сквозь розово-серую марь Чугунов увидел изломанное небо. Он прикрыл глаза и сразу вспомнил, как после выстрела упал с телеги.
– Ты глянь, еще дышит! – услышал он голос.
– Нехай, все одно перед смертью не надышится.
Чугунов хотел повернуться на бок, и не почувствовал тела. «Позвонок задел! Ну нет, – злобно подумал он, – валяться гнилым бревном я не буду!» И напрягся.
От дикой боли бросило в жар.
– Ты глянь, – услышал он опять, – плачет!
– Знать, совесть не совсем потерял, кается перед смертью.
– Может, его того… чтоб не мучился, – клацнул затвор.
– И думать не моги! Мы ж не ироды какие!
– Что-то не пойму я тебя, дядька Митрофан: когда палил по ним, о покаянии не думал, а теперь?
– А теперь другое дело!
– Коли так, – сказал первый, – давай его к другам-товарищам оттащим. Им сейчас Иван Поликарпович грехи отпускает не хуже иного батюшки.
– Ох и балабол ты, Петруха! Подведет тебя язык…
– А вот когда подведет, тогда и отмолчусь, – смеясь ответил Петруха. Они подхватили Чугунова и потащили по кочковатой земле. Он потерял сознание.
Его бросили рядом с расстрелянными, исколотыми вилами и изрубленными топорами товарищами из продотряда. Они лежали у памятника Александру II. Перед ними поднималась церковь, слева блестел пруд, справа грудились телеги с мукой и зерном, которые они не сумели довезти.
Маленькими группками и порознь стояли люди. Теперь им было страшно вспоминать бой, и они старались не глядеть на убитых. Но взгляды знобко тянулись к ним.
– …понесли суровую кару… – Иван Поликарпович Гребенщиков, маленький и потный, бегал по мешкам и кричал, размахивая короткими руками. – А хлеб – он наш и мы его никому не отдадим. Никогда и никому, чтоб все это поняли!
«Поняли, – подумал Чугунов. – А ведь это я так говорил».
Наверное, не стоило задерживаться в этой паршивой деревне, до города оставалось каких-то верст тридцать, но Чугунов прикинул, что пудов сто можно «отагитировать». Однако по домам прошли без пользы, а на сход мужики явились угрюмыми. Чугунов старался не замечать этого. Теперь он мог признаться себе, что говорил громко, но неубедительно. А когда спросил: «Ну что, товарищи, все поняли?» – сзади ответили:
– А как же, теперь все поняли! Вразумил!
Он хотел повернуться, но выстрел в спину выбросил его из телеги…
Все заметнее темнело. С сумерками побежал по земле холодок. Мужики суетились у возов, ругались, спорили. Ворочали мешки.
– Бери, все бери! – подгонял Иван Поликарпович. – Сегодня вы отбили у антихристов чужое добро, завтра ваше отобьют – и не будет им спасения!
«Что вы делаете, дураки-черти, остановитесь!» – кричал немым ртом Чугунов. Но мимо тяжело топали сапоги, сбитые, грязные, латаные и натруженные.
Чугунов глядел в серое небо и думал: если умрет, то ничем не сможет помочь своим, когда придут. А помочь он хотел. Например, надо обязательно рассказать про Гребенщикова Ивана Поликарповича, о мужиках запутавшихся, о бабах, сразу пускающих слезу, едва речь заходит о хлебе, о детишках, глядящих взрослыми глазами. Потом сказал бы, что притаились где-то дядька Митрофан и балагур Петруха, которые очень удивились его живучести. А зря удивились, зря… зря…
Сознание уходило…
– Что «зря», Саня? Ты говори, слышишь?! На водички, сделай глоток.
Вода была ледяной и душистой. Ломило сердце: «Свои!»
– Ну как, полегчало? Крепись.
«Ильин! – улыбнулся Чугунов. – Хорошо, что его прислали, он спокойный, рассудительный, горячиться не станет».
«Всех, у кого найду награбленный хлеб, расстреляю, – думал Ильин, глядя на неподвижное тело Чугунова и вспоминая изуродованные тела продотрядников. – На этом же самом месте, где их…»
– Ты только не торопись, – прошептал пепельными губами Чугунов. Ильин кивнул головой, занятый другими мыслями. – Мужики изголодались… помоги.
– Кому помочь? – опешил Ильин.
– Помоги, темные они еще…
– Ты! Святой! – заорал Ильин. – Да ты знаешь, что я с ними сделаю?! Я… – но, подчиняясь строгому взгляду, смолк.
– Уезжай! – прошептал Чугунов. – Злой ты сейчас….
– А ты бы хотел, чтобы я с ними обнимался! Они моих товарищей, а я чтоб не злой!
– Нет, я хочу, чтобы ты их понял… Дай воды… Если поймешь, что перед тобой враг – стреляй, – передохнул, облизнув сразу пересохшие губы. – Но таких мало.
– Считал ты их, что ли, – с досадой отвернулся Ильин.
– Считал… Мало.
– Ладно, счастливого пути. – И добавил, сжимая холодную руку: – Мало, тем лучше для них!
Он отошел от него и крикнул шоферу и двум красногвардейцам:
– Чтоб довезли живым!
Машина сверкнула фарами и, дребезжа деревянным кузовом, заторопилась в город. Она скрылась в лесу, и скоро в нем растаяли последние звуки мотора.
«Минут через тридцать будут, – прикинул Ильин. – Если, конечно, ничего не случится. Эх, Саня, Саня…»
– Товарищ командир. – Пожилой красногвардеец стоял поодаль, переминаясь с ноги на ногу.
– Слушаю, докладывайте.
– Так что не нашли мы.
– Как это не нашли? Идемте-ка в дом, там все расскажете.
Рассказ, однако, занял мало времени и ничего не прибавил. Красногвардейцы обошли все дома, выявляя зачинщиков и участников расправы. Зачинщиков обнаружить не удалось – скрылись, а участники – ну что ж, говорили им, считайте, что все участники, потому что на сход собралась вся деревня.
– Ну это дудки! Мало ли что вся! Убивали-то не все! Значит, надо узнать, кто конкретно участвовал в расправе. – Он скрипнул зубами. – И сейчас же, немедленно, по горячим следам!
– Может быть, завтра начнем, ночь ведь, – предложил кто-то.
– Завтра мы будем хоронить своих товарищей, – четко произнес Ильин, и голос его дрогнул.
– Не торопись, – сказал Боровой.
– Товарищ военком! Не успокаивайте меня! Не могу…
– Не можешь – отправляйся домой! А отряд я тебе погубить не позволю.
Боровой выругался еле слышно, подергал вислый рыжеватый ус и подсел к Ильину. Обхватил за плечо широкой ладонью, притянул к себе.
– Ты что-то совсем раскис. Думаешь, у меня сердце не плачет? – Они остались вдвоем в небольшой комнате на втором этаже покинутого барского дома. – Гляди в окно, темень – глаза коли, а ты, не зная местности, обстановки, хочешь искать этих гадов ползучих. Да они нас всех из-за углов и подворотен! Этого ты хочешь?! Или стал как Прохоровский?
– При чем здесь Прохоровский! – поморщился Ильин.
– Да при том, что у того, как шлея под хвост попадет, – пиши пропало!
– Ну знаешь!
– А ты не обижайся, ты прежде всего о деле думай. Нынче важно не только хлеб вернуть и зачинщиков обнаружить и обезвредить, но и так с народом обойтись, чтобы не запугать, не оттолкнуть от себя, заставить поверить нам, иначе сказать, подрубить у врага корни. Им ведь без народа труба. И нам тоже.
В полночь Ильин вышел из затихшего дома. У крыльца и во дворе ходили часовые. Ильин присел на высокое крыльцо, прислушиваясь к недоброй тишине. Улица тонула во мраке. Звезды дрожали в холодных колодцах почти невидимых туч. Луна невесело выглядывала из-за деревьев. «Что-то не верится мне в эту тишину», – подумал Ильин и поднялся со ступенек.
Он дернул гимнастерку, кивнул часовому: «Пройдусь малость, ноги разомну», – и пошел к церковному кладбищу.
Здесь было еще тише и однообразнее, лишь в маленькой часовенке за стеклом подрагивал язычок свечи, оставленной заботливой рукой. Он потрогал камни часовни и повернул обратно. На дороге постоял в раздумье и зашагал к пруду.
Пруд лежал недалеко от церкви, в лесу, превращенном сбежавшим за границу помещиком в парк. У берега в траве лежало дерево. Ильин присел на него. Черные тени словно уснули в воде. Он хотел закурить, но передумал, прислушиваясь к возникшим легким звукам. Потом тихо плеснула вода, и шорох побежал по деревьям. Ильин насторожился, вглядываясь в противоположный берег: там шла какая-то работа. Он прикинул, с какой стороны быстрее и незаметнее подкрасться.
Пруд оказался овальным, и вскоре Ильин стал различать вскрики, реплики, понуканье. Подобравшись поближе, он увидел людей, складывающих на берегу какие-то мешки.
«Оружие? Но зачем топить? – думал он и вдруг понял: хлеб! – Ах, гады, ни себе ни людям!.. Лишь бы не успели сообразить, что я один!»
Ильин оглянулся на потерянную в ночи деревню, на зелено светящийся пруд и крикнул копошащимся фигурам:
– Отойти от берега! Даю предупредительный!
Выстрел ахнул, как взрыв.
Люди, не понимая, что произошло, послушно отступили от мешков, озираясь по сторонам.
– Стоять, не двигаться! Стреляем без предупреждения!
«Услышали наши или нет? Поймут? Должны понять!» – решил Ильин, прикидывая, как незаметнее перебраться к мешкам. Черные фигуры у берега сбились в кучу. Ильин бросился из-за деревьев к пруду, упал за мешки, дважды выстрелив наугад. В ответ грохнул недружный залп. Вода брызнула фонтанчиками. Ильин раздвинул мешки, переждал секунду, выглянул в просвет. К нему, пригибаясь к земле, бежали двое. Ильин выстрелил. Один из бежавших упал, другой резко свернул в сторону.
«Отлично! – Ильин торопливо перезарядил наган. – Теперь всю деревню на ноги подняли!» Осторожно выглянул: никого. «Ну что ж, помолчим и мы!
Посмотрим, у кого нервы крепче». Он притаился, ощупывая руку. Пуля, видимо, задела ее.
Через минуту Ильин насторожился. За прудом нарастал шум. Это спешили свои…








