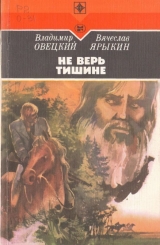
Текст книги "Не верь тишине (Роман)"
Автор книги: Владимир Овецкий
Соавторы: Вячеслав Ярыкин
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц)
8
Окна кабинета председателя городского Совета выходили на площадь. Когда-то многолюдно-бурлящая и в будни и в праздники, сейчас обнажилась ребрами пустых торговых рядов, пялились выцветшими вывесками «Мясная, колбасная, рыбная гастрономия В. Л. Выдрина», «Галантерейная и книжная торговля С. П. Зарубина», «Готовая обувь. Валенки Глинкова»… Двери лавок и магазинов опоясались железными запорами. Лишь два-три трактира из былого обилия надрывались и галдели бесшабашным весельем, заглушая боль за прошлое и настоящее и страх перед будущим.
– Так что будем делать, товарищи? – Тимофей Матвеевич Бирючков отошел от окна и сел за стол, положив перед собой тяжелые рабочие руки. – Положение с каждым днем осложняется. Запасы сырья и топлива заканчиваются, еще полторы-две недели – и остановятся последние фабрики и заводы. Но самое страшное – голод. Продуктов, хлеба практически нет и ждать неоткуда… Мы запрашивали Богородск и Москву, но и там не лучше… Товарищ Чугунов, вы отвечаете за продовольствие, вам слово.
– Единственное, что сейчас можно предложить, это создать продовольственные отряды и направить их по деревням.
– Как будто там легче, – возразил кто-то чуть слышным голосом.
– Не легче, – ответил Чугунов, и молодое его, почти юношеское лицо словно постарело. – Но хлеб там есть!
– Я согласен, – поддержал военком Боровой. – Потрясем кулака, да и середнячки кое-чем могут поделиться с рабочим классом. Надо только подобрать товарищей посознательнее, растолковать задачу. А мы выделим красногвардейцев.
– Хорошо, так и порешим, – после короткого молчания согласился Бирючков. – Ответственными назначаются Чугунов и Боровой. Сегодня же уточните детали – и к делу. Что касается топлива, то есть мнение направить на торфоразработки энергичного, надежного товарища. Нет возражений? Тогда третье…
Он сделал паузу и, оглядев всех потвердевшим взглядом, произнес:
– Казна Совета, как вы знаете, почти пуста, а без денег мы с вами – кучка пустословов и демагогов. На прошлом заседании решение вопроса о контрибуции было отсрочено. Теперь этот час пришел. Совету надо не менее восьми миллионов, и мы должны их добыть, хоть кровь из носа! Город задыхается от голода, того гляди вспыхнут болезни, а некоторые из нас беспокоятся о том, как бы Не обиделись лузгины, смирновы, субботины! Да нас надо всех расстрелять к чертовой матери как самых злейших врагов народа! – Он перевел дыхание и закончил почти спокойно: – В общем, мы должны принять решение о контрибуции.
У Прохоровского надоедливо ныла рука, остро покалывало в горле – видно, прихватил свежий ветерок с реки, – мелькали перед глазами перекошенные болью и страхом лица, исходил в предсмертном крике Лыньков, и он не сразу понял, почему произносят его имя.
– Сергей Прохорович, да что с вами? Где ваш заместитель, мы приглашали и его?
– Он болен… ранен…
С трудом подбирая слова, начальник милиции рассказал, как преследовали они ночью трех подозрительных людей и как потом он нашел Кузнецова без сознания у чьих-то ворот.
– Ладно, товарищи, будем заканчивать… Попрошу остаться военкома и начальника милиции… Так что же произошло в лесу под Демидовом? Говорят, чуть ли не бой, – спросил Бирючков, когда остальные члены исполкома ушли.
– Говорит тот, кто там не был, – ответил Прохоровский, пристраивая поудобнее раненую руку. Дочь перебинтовала ее, и он выбросил перевязь: необъяснимое чувство стыда заставляло скрывать рану. Было не по себе еще и потому, что от него ждали новых объяснений. – О банде сообщили слишком поздно. Когда мы приехали в Демидово, она была уже в другом месте. Решили преследовать… Неожиданно встретились в лесу… Есть потери с той и с другой стороны.
– Подробнее можно? Что за банда, ее численность, кто главарь?
– Выясняем.
Помолчали. Бирючков хмурился. Боровой выстукивал пальцами дробь. Прохоровский отвернулся к окну. Ему хотелось рассказать про демидовского председателя Маякина, но останавливала мысль: «Еще подумают, что оправдываюсь», – а оправдываться не хотел.
– Скажите, Сергей Прохорович, – нарушил молчание председатель Совета, – когда вы позвонили мне и сообщили, что выезжаете, были уверены, что справитесь с бандой?
– Конечно!
– А я сомневался! Поэтому передал командиру красногвардейского отряда Ильину, чтобы он был в полной готовности. Но Ильин ждал напрасно.
– Вы меня в чем-то обвиняете? – Прохоровский прямо и твердо смотрел на Бирючкова.
– Только в том, что понадеялись на легкую победу.
– А в результате – пшик! – произнес Боровой.
– Вас это радует? – резко повернулся к нему начмил.
Военком побагровел, но Бирючков опередил его:
– Зря вы, Сергей Прохорович. Я понимаю, что творится у вас на душе, но зачем же так?!
– Я действительно плохо себя чувствую. – Прохоровский встал и, не прощаясь, вышел.
– Не нравится он мне! – Боровой зло посмотрел ему вслед.
– Почему? Прохоровский смелый, честный и решительный человек.
– Может быть. Но добавь – самолюбивый. Таким я не очень доверяю.
– Я тоже самолюбивый. – И, чуть улыбнувшись, Бирючков добавил: – Меня только тронь, сам знаешь!
– Знаю. Только ты совсем наоборот. – И, увидев удивление во взгляде Тимофея Матвеевича, пояснил: – Ты самолюбивый за дело, оно для тебя главное, а у него – чтобы дело ему служило, а он на первом месте, пуп земли в общем!
– Ладно, о нем в следующий раз, – перевел разговор председатель Совета, – сейчас сложнее и важнее другое.
Он опять подошел к окну и несколько минут смотрел на уныло-безлюдную площадь. Потом повернулся к Боровому.
– В Богородске, в укоме партии, мне сказали: рассчитывайте только на свои силы и возможности, помощь можно ожидать только в самом крайнем случае… Хотел бы я только знать, что это за крайний случай.
– Понять их можно, – ответил, помедлив, военком, – положение везде тяжелое. Особенно теперь, когда и немцы, и японцы, и французы, и англичане вместе с нашими соотечественниками-генералами хотят набросить на нас петлю.
– Вот именно, вместе «с соотечественниками». А нам предлагают активнее привлекать к себе бывших царских офицеров. А эти офицеры на нас волками смотрят!
– Не все…
– Все – не все, поди разбери, что у него на уме, генералы и те врут, что ж взять с какого-нибудь поручика!
– А разбираться придется. Тем более что бывшие офицеры появились и в нашем городе.
– Что ж, разбирайся, это по твоей части, – ответил Бирючков. – А я думаю собрать коммунистов всех партячеек и обсудить с ними создавшееся положение.
9
В келье было тихо и покойно. Мать Алевтина любила тишину, но сейчас она тревожно волновала. Игуменья подошла к двери, набросила крючок, хотя знала, что никто без разрешения к ней войти не посмеет, потом нащупала за иконой маленький шуршащий конверт.
Вчера она лишь мельком пробежала текст: при офицерах читать не хотелось, а когда они ушли, заботы со смертью сестры Серафимы не позволили выкроить и пяти минут. Близоруко щурясь, она вгляделась в подпись: «Валентин, архимандрит».
Тот писал: «…Его святейшество патриарх Московский и всея Руси Тихон так поучал на сей трудный час пастырей православной церкви: при национализации церковных и монастырских имуществ священник должен объяснить пришедшим представителям нынешней власти, что он не является единоличным распорядителем церковного имущества и потому просит дать время созвать церковный совет. Если это окажется возможным сделать, то приходскому совету надлежит твердо и определенно указать, что храмы и все имущество церковное есть священное достояние, которое приход ни в коем случае не считает возможным отдать. Если бы представители нынешней власти не вняли доводам настоятеля храма и приходского совета и стали проявлять намерение силой осуществить свое требование, надлежит тревожным звоном (набатом) созвать прихожан на защиту церкви…»
Игуменью, наверное, ничего бы не насторожило в письме, если бы не слова Добровольского:
«Архимандрит Валентин просил также передать, чтобы вы особое внимание проявили к монахине Серафиме».
Кажется, тогда она вздрогнула, и штабс-капитан спросил:
«Что с вами?»
«Ничего, – ответила она, быстро справившись с волнением. – Но что значит „особое внимание“? Нам, живущим за монастырскими стенами, не всегда понятны мирские выражения».
«Увы и еще раз увы, я передал единственно то, что меня просили».
«Странно… Хотя слова сии уже не могут иметь значения, ибо господь незадолго до вашего приезда призвал сестру Серафиму в свои небесные обители». – Она повернулась к божнице и перекрестилась.
Добровольский перекинулся взглядом со своими спутниками. Они встали и вежливо откланялись…
И теперь, перечитывая письмо, мать Алевтина не могла избавиться от чувства досады и недовольства: ей не доверяли. Мысль эта, правда далекая и неясная, мелькала у нее еще в тот период, когда Валентин служил здесь, в монастырской церкви. Потом, после отъезда архимандрита к новому месту службы, в Москву, она вроде бы растворилась в повседневных делах и заботах. Но теперь, вспоминая свои подозрения, сопоставляя их с посланием архимандрита и его устной просьбой-приказом, игуменья приходила к убеждению: что-то происходило и происходит за ее спиной.
Мать Алевтина аккуратно сложила письмо и снова спрятала его за божницу. «Доверяют, не доверяют – не это главное, – успокаивала она себя. – Главное – надо немедленно узнать, что связало покойницу монахиню и архимандрита Валентина».
По длинному и узкому коридору, в котором даже в самые жаркие и солнечные дни сумрачно и зябко, игуменья прошла к келье Серафимы. У двери остановилась, перевела дыхание.
Ржавые петли скрипнули коротко и пронзительно. В келье сладко пахло ладаном и еще чем-то неуловимым, одурманивающим.
Мать Алевтина осмотрелась. Все, как и прежде, стояло в суровом и едином для всех порядке. Прощупала подушку, скромные монашеские одеяния, постучала в пол, стены, заглянула за иконы. Ничего, кроме пыли и паутины.
Это сначала возмутило игуменью, потом удивило и насторожило: монахини воспитывались в образцовой чистоте и следили за ней неустанно. И если сестра Серафима допустила пыль и паутину, значит, боялась, не смела даже прикоснуться к иконам.
Мать Алевтина торопливо перекрестилась и осторожно сняла одну. Внимательно осмотрела, повесила на место. Потом вторую, третью… Икону «Утоли моя печали» едва удержала в руках: она оказалась необычайно тяжела…
10
К ночи погода испортилась. Прислушиваясь к резким порывам ветра, к скрипу, стону, шлепанью, к десяткам других тревожных звуков за окном, Лиза Субботина засобиралась домой.
– Куда ты в такую темень? Оставайся, заночуешь.
– Нельзя мне, тетя Клава, дома волноваться будут, время-то какое!
– То-то и оно, – приговаривала Клавдия Сергеевна, помогая Лизе одеться. – Не приведи господь чему случиться, сраму не оберешься, в голос все скажут: Сытьковы, такие разэдакие, выгнали девку на ночь глядя.
– Ничего со мной не случится!
– Не зарекайся, береженого бог бережет. Верка, чего сидишь? Проводи подружку.
– Не надо, – отказалась Лиза. – Трусиха ваша Верка. Ну проводит она меня, а потом что? Мне ее провожать. Так и будем до утра провожаться. Лучше я одна.
И она убежала, весело попрощавшись.
– Ох и бедовая девка! Не то что ты, рохля, – Клавдия Сергеевна вернулась из прихожей в комнату, с сожалением поглядывая на дочь, которая собирала со стола лото, обиженно надув губы.
– Не поймешь вас, маманя; то говорите, с бедовыми – горе, то обзываетесь.
– Обзываетесь! – передразнил отец. Он сидел в углу и, усиленно делая вид, что читает газету, за весь вечер не произнес ни слова. – Вымахала с коломенскую версту, а ума и на грош не накопила!
– Ты чего это, Максим? – удивленно вскинула брови жена.
– А то! Чего, спрашивается, повадилась эта преподобная Лизавета к нам?
– Так уж и повадилась, – вступилась за подругу Вера. – И пришла-то в третий раз. Подумаешь…
– Вот и подумаешь! – Сытько вскочил и засуетился по комнате. – Раньше она к нам ходила? Я тебя спрашиваю, ходила?
– Ну не ходила.
– А теперь скажи, как ее фамилия?
– Субботина, – еле слышно ответила Вера.
– Вот! – Максим Фомич победно поднял палец кверху. – А знаете ли вы, что Субботины никогда и ничего зря не делают?!
– От нас-то им невелик прок.
– От вас, дражайшая Клавдия Сергеевна, им вообще никакого проку нет. А от Верки есть! Что рты раскрыли, не сообразите никак? Где Верка работает? В Совете!
– Эк куда хватил, – засмеялась жена. – Велика госпожа, нечего сказать: бегает по городу, что твой почтальон, туда-сюда, туда-сюда!
– И вправду говорят: волос у бабы длинный, а ум короткий, – вздохнул Сытько. – Неужто непонятно, что курьер, он, может, в ином случае наипервейшая фигура. Куда пакет? От кого пакет? Что на словах передать? Кому передать? Кто к председателю ходил? Когда приходил? Ан, гляди, узнать можно и зачем приходил? Вот вам и прок. – Он опять повысил голос: – Сидит у нас субботинская дочка, ласковенько так выспрашивает, а Верка развесила уши и мелет языком что попадя… Бежит сейчас Лизавета и радуется: вот как я глупую подружку надуваю. Папаше расскажу, что надо, а уж папаша знает, что к чему. Глядишь, при удобном случае и намекнет эдак со смыслом, и будешь их приказы исполнять. А не будешь – Максим Фомич перешел на шепот, – кому надо намекнут – и в распыл Сытьковых.
– Не пугай, Максим Фомич, – побледнела жена.
– А я не пугаю! – вдруг закричал он тонко и пронзительно. – Не надо нам ничьей дружбы!
– Ишь ты, – прищурилась Клавдия Сергеевна. – Ну а как все вспять повернется, а дочка твоя в Совете работала, а сам ты в этой самой ихней милиции, что тогда?
– Ни-че-го! Мы тогда все по-другому повернем. Кем Верка была в Совете? Маленьким подневольным человеком. А как же, жить-то надо, с голоду хоть к черту на рога. Но иной раз и сведения кое-какие давала. Разве нет? Спросите хоть у Лизаветы Субботиной, дочки Дементия Ильича, известного в округе человека, торговля – на многие тыщи! Да и про себя я знаю, что сказать. – Сытько ядовито засмеялся. – Тонкость нужна в понимании. Нам иначе нельзя. Это пусть другие революции устраивают, восстания, а мы люди тихие. Как раньше жили, так и сейчас проживем…
А Лиза спешила домой.
Ей было жаль потерянного вечера, но она улыбалась, вспоминая безудержную радость и глубокое огорчение – два единственных чувства, владевших матерью и дочерью во время игры, которую Лиза терпеть не могла. «Как глупо – зависеть от слепого случая. В этой игре и думать незачем». – «Вот и хорошо, – отвечала Верина мать, – не женское это дело – думать». Особенно смешон был Максим Фомич. Закрывшись газетой, он остро переживал за своих. К концу каждого кона дыхание его учащалось, переходило в тонкое посвистывание, потом с шумным – удовлетворенным или разочарованным – выдохом все обрывалось, чтобы через несколько минут повториться сначала…
Ей оставалось добежать до дома совсем немного, когда она увидела человека. Шел он, сильно подавшись вперед, и, казалось, переставлял ноги для того, чтобы не упасть. Несколько раз останавливался, прижимаясь к забору, и снова шел, неуверенно и трудно.
Лиза испугалась.
Темная, проветренная насквозь улица сразу стала нескончаемой и бесприютной. Глухие ставни, высокие заборы, непробиваемые ворота отталкивали от себя, выставляли напоказ и ждали…
Девушка оглянулась. Никого. «Господи! Ну чего я боюсь? Ничего он мне не сделает. Да и не видит он меня», – успокаивала себя Лиза, стараясь поймать пересохшими губами дождевые капли. До рези в глазах всматривалась в расплывающиеся очертания бредущего человека, сама стараясь превратиться в дождь, в тень, в ветер.
Через сотню шагов был переулок, совсем маленький переулок, пробежать который – считанные секунды, а там – дом! Лиза уже приготовилась шмыгнуть в спасительную брешь, но что-то остановило. Сначала она не поняла, что человек хочет сделать. Любопытство оказалось сильнее страха, и девушка, притаившись, стала ждать. Тот толкнулся в ворота какого-то дома. В ответ скучно, на всякий случай, гавкнула собака. Тогда он повернул к палисаднику и тяжело перевалился через невысокий заборчик.
«Вор!» – мелькнула мысль, но Лиза ее сразу отмахнула, услышав негромкий стук. Человек стукнул раз, второй – и упал, с шумом придавив молоденькие кусты сирени. «Наверное, пьяный… А к кому стучался? Чей это, интересно, дом?»
Лиза после пережитого страха почти совсем успокоилась. «Перед прогоном – дом Сахаровых, напротив – Демишевых, потом Масловых, Сычевых, а рядом… кто же рядом? А, Толстошеевой, тетки Матрены! Но стучался-то он не к ней. А… Ох ты!.. Ну и Тоська, сирота казанская, праведница богомольная!»
Прислушалась. Тихо. Только ветер теребил ветви деревьев да шлепал дождем по крышам. Надо было идти, но неодолимая сила тянула к палисаднику. Жадно глотнув воздух, Лиза побежала к соседнему дому, потом к другому и хотела уже подкрасться к самому заборчику, чтобы заглянуть, кто же там, как в палисаднике затрещали кусты, человек медленно подтянулся к окну и умоляюще громко постучал. Девушка притаилась, боясь шелохнуться.
Томительно долго тянулись минуты. Потом скрипнула дверь.
– Кто там?
– Не бойтесь меня, отоприте!
– Да кто ты?!
– Тося… Тосенька… Впусти меня… Я ранен…
Стукнула задвижка, чуть приоткрылась дверь в воротах. Человек стал перелезать через изгородь, но зацепился и рухнул бы на землю, если бы не цепкие руки, подхватившие громоздкое тело…
Дома не спали.
Лизу встретила мать, крепко сдавшая за последние дни. Лицо ее было решительно и сердито, но, увидев дочь, мокрую, растрепанную, взволнованную, только и произнесла:
– Ну слава богу, пришла.
– А куда я денусь? Напрасно только себя изводите.
– Напрасно – не напрасно, да характер такой. Будут свои дети – поймешь.
– Вот еще, дети! Была нужда!
– Ладно, увидим, какая нужда. Пойдем-ка переодеваться. И где только носит, промокла до нитки…
Евдокия Матвеевна проводила дочь и, помогая ей надеть сухое, с намеками и загадочными улыбками рассказала, что у них в доме гость, долго сидел у отца, теперь у Илюшеньки.
– Да не томите, мама, что за гость? – не выдержала Лиза.
– Санечка Добровольский, – почему-то шепотом сказала Евдокия Матвеевна и поправилась: – Теперь-то Александр Сергеевич. Такой стал, такой стал! Прямо красавец!
– Отца Сергия сынок, что ли?
– Никак забыла? – удивилась мать.
– И не собиралась помнить!
– Как же это? А я-то думала…
– Напрасно! – Лиза посмотрела прямо и строго, по-мужски сдвинув брови. И в который раз Евдокия подивилась ее сходству с отцом. «Вот ведь послал господь доченьку – что твой губернатор».
И хотя губернатора она никогда не видела, ей показалось, что он должен быть именно таким: строгим, красивым, решительным. И от этого сравнения стало до слез обидно. Маленькой и, в сущности, никому не нужной увидела вдруг себя в этом большом и крепком доме рядом с дорогими людьми. У каждого были свои дела и заботы, надежды и сомнения, радости и печали, которыми почему-то никто не хотел делиться с матерью. Это ранило глубоко, в самое сердце.
Евдокия отвернулась от дочери, собрала мокрое платье и молча вышла. Лиза не остановила мать, потому что ничего не заметила. К тому же она торопилась к отцу. С ним было легче и интереснее.
Но они не успели переброситься и двумя словами, как вошел гость.
– Прошу простить, Дементий Ильич, но, узнав, что пришла Елизавета Дементьевна, я не смог себе отказать в удовольствии засвидетельствовать ей свое глубочайшее почтение. – Он церемонно раскланялся и попытался поцеловать Лизе руку.
Но девушка, сделав вид, что не заметила его движения, сказала отцу:
– Удивительно! Вместо того чтобы сказать просто «здравствуйте», человек произносит десяток бессмысленных слов.
– Узнаю Лизу! – засмеялся Добровольский. – Все та же, вся в колючках.
– Да уж не то, что вы: чистенький, гладенький, сладенький, – произнесла она с такой презрительной усмешкой, что тот растерянно и смущенно заморгал глазами.
– Лизавета! – прикрикнул Дементий Ильич. – Как можно! Три года не видела Александра Сергеевича и так встречаешь. А человек с фронта, кровь за родину проливал.
– Хм, проливал! В штабе отсиживался. Это Илья…
– Прекрати немедленно!
– Дементий Ильич, дорогой, ради бога, не сердитесь на Елизавету Дементьевну. Как у всех девушек, у нее собственное понятие о геройстве. Нас действительно вместе с вашим братом направили в штаб фронта. Но Илья подал вскоре рапорт о переводе на передовые позиции. Я не поддержал. И знаете почему? Вижу по вашим прекрасным глазам, что вы приготовили колкость. Напрасно! Армия – это прежде всего дисциплина. В особенности на войне, где у каждого строго определенные обязанности. Ну представьте: генерал сидит в окопе вместе с солдатом или бежит рядом с ним в штыковую атаку. Смешно и нелепо!
А вы что там, в штабе, себя генералом возомнили?
– Право слово, вы ко мне слишком суровы. Чем я заслужил такую немилость?! – Штабс-капитан с шутливым прискорбием склонил голову.
– Вы не обижайтесь, Александр Сергеевич, это у нее бывает. Иной раз и на отца родного так насядет, только пух и перья летят.
– Избави бог, разве вправе мужчина обижаться на женщину, тем более такую, как ваша дочь! А сейчас позвольте откланяться. Благодарю за приятную беседу, Елизавета Дементьевна. Всех вам благ.
Штабс-капитан щелкнул каблуками и вышел.
Субботин проводил его до порога и, прощаясь, тихо сказал:
– Значит, как уговорились.
Добровольский кивнул. Мужчины крепко пожали руки, и Дементий Ильич поднялся к себе. Лиза рассеянно перелистывала книгу. Субботин сел, хмуро глядя на дочь:
– Ты что это себе позволяешь, и еще в моем присутствии?!
– Да я…
– Знаю! Все, что ты хочешь сказать, знаю! А надобно тебе понять и другое: чувства в этом мире вредны. Чувствительный человек беззащитен, как какая-нибудь букашка. Ну наговорила ты всякие слова и думаешь, вот, мол, как я офицерика отделала. А того не поймешь, что это тебя он отделал, потому как и слово последнее за ним осталось, и знает теперь, как ты к нему относишься.
– Я этого и не скрывала.
– И напрасно! Тебе о том и толкуют, что не всем и не всегда свои чувства настоящие показывать надо. Это наипервейшее условие, если хочешь чего в жизни добиться. Уразумела? То-то… Ну а теперь рассказывай, что у тебя.
Ничего вроде бы в Лизином рассказе Дементия Ильича не заинтересовало. Он задал только один вопрос:
– Кто это был, узнала?
– Узнала: Мишка Митрюшин.








