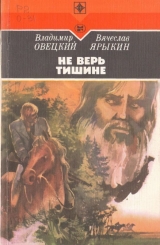
Текст книги "Не верь тишине (Роман)"
Автор книги: Владимир Овецкий
Соавторы: Вячеслав Ярыкин
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
41
Тишина оказалась обманчивой.
Трифоновский не поверил в нее сразу. Не поверил потому, что штабс-капитан, покончив одним залпом с теми, кто сопротивлялся мятежу деревенских кулаков, вернулся из леса в барский особняк с довольным лицом победителя. Картинно усаживаясь в кресло, он произнес тоном полководца, выигравшего решающее сражение:
– Ну вот и все!
– Что «все»? – спросил Иван, не поднимая головы.
– Все в том смысле, что с этого часа в Загорье Советской власти больше не существует. То же самое – теперь я могу открыться – произошло в полдень в городе. В ближайшие часы мы соединимся и…
– Я ни с кем соединяться не собираюсь, – оборвал штабс-капитана Трифоновский. – Вы заварили кашу, вы ее и расхлебывайте!
– Отчего же… э… – Добровольский вдруг подумал, что за все, пусть и недолгое, время знакомства ни разу не назвал ни имени, ни фамилии этого хмурого и жестокого человека и не знает, как к нему обратиться. – Мне кажется, что вы тоже не остались в накладе.
– Барахло считаешь? – произнес Иван, темнея лицом. – А трех моих хлопцев кто сосчитает? Тех, кто ночью в той паршивой деревне лежать остались? Это хорошо еще, что Мишка Митрюшин поумнее милиции, оказался, а ежели б в клещи попал, между теми, кто в деревне, и теми, кто из города прискакал, сколько тогда бы насчитал?
– Но вам-то что за забота? – Добровольский удивленно посмотрел на Трифоновского. – Вы ведь в это время были здесь, со мной…
– Только и забот, что не терять тебя из виду!
Взгляды их встретились и сказали друг другу больше, чем сотни слов. Добровольский встал и вышел из комнаты, громко стуча каблуками.
«Дурак ты, хотя и офицер, – подумал Иван, глядя ему вслед. – Все только начинается, меня-то тишиной не проведешь».
И словно вторя его мыслям, в лесу заахали выстрелы, потом затараторил пулемет. «Такого оружия у мужиков не было, – прикинул Трифоновский, вслушиваясь в короткие хлесткие очереди. – Значит, прибыли из города, кто-то сообщил… А раз из города, значит, ничего у господ офицеров не получилось…»
Он выскочил во двор. Конь потянулся к хозяину влажными губами. Иван прикоснулся к его теплой, чуть подрагивающей шее, но в седло не торопился, оценивая, откуда надо ждать наибольшую опасность.
Из домов выскакивали люди, клацая на ходу затворами винтовок и обрезов. Увидев атамана, сгрудились около него, готовые и ринуться в схватку, и отступить.
Трифоновский, почувствовав, что с каждой минутой все ближе к деревне подходит яростная перестрелка и сдержать нападавших восставшие не смогут, приказал:
– По коням! Все уходим!
И банда ринулась из Загорья. В деревню неудержимо катилась волна красногвардейцев. Кулаки отстреливались на ходу, растекались по закоулкам и дворам.
Трифоновский прибавил ходу, увидев, как у лошади справа, потом у лошади слева подкосились передние ноги, и обе повалились на землю, подминая под себя седоков. Одна пуля царапнула плечо, но Иван не оглядывался. Потому и не видел стрелявшего в него Добровольского, его перекошенное криком лицо: «Куда, мерзавец! Стой! Стой, тебе говорят!»
Штабс-капитан выстрелил в бессильной ненависти последний раз в удаляющуюся фигуру главаря банды, перемахнул невысокую изгородь и побежал через сад к амбару, где стоял конь – последняя надежда на спасение.
42
Аресты шли вторые сутки. Милиция и прибывшие из Москвы чекисты тщательно и упрямо, как муку в решете, просеивали всех, кто собрался в воскресный полдень на торговой площади, кто поднял мятеж в деревне Загорье, определяя меру вины каждого.
Допрос был скор и результативен. И немудрено: при стольких свидетелях несложным оказалось установить, кто стрелял, поджигал и убивал, кто стоял в стороне, наблюдая и выжидая по стародавней обывательской привычке.
К вечеру понедельника стали окончательно вырисовываться детали и масштабы заговора, но дело не могло считаться завершенным без поимки главных действующих лиц. Их имена установили без особого труда, и теперь все силы бросили на то, чтобы не дать им уйти из города.
Это и было главной темой совещания в милиции. Предлагались и отбрасывались одни варианты, брались за основу другие. На одном из последних настоял Госк, сумевший убедить товарищей оставить еще на день на свободе Сытько: «Уйти от нас он не уйдет, а привести к другим может, он у мятежников остался один, кто открыто ходит по улицам. А отказать им он не посмеет, не та натура…» Все стали ждать сообщений…
Еремей Фокич, давший приют Карпу Данилычу Митрюшину, приносил слухи о расправах большевиков над мятежниками.
– Беснуются, – говорил он, вытирая платком взмокший от пота лоб, – лютуют… Страшный суд реша сотворити…
Карп Данилыч болезненно морщился, а ктитор, шаркая валенками, сообщал самые невероятные вещи. И Митрюшин, разумом сказываясь верить в них, все-таки верил, выпытывая все новые и новые подробности, не замечая ни их надуманности и нелепости, ни очевидной цели, которую преследует Еремей Фокич.
– …и кто б ни молил о милости, нет им пощады.
– И многих, – Карп Данилыч глухо откашлялся, подбирая слова, – многих жизни лишили?
– Несть числа!
– Почему так? Не все стреляли и поджигали! Я, к примеру, даже оружия не имел.
– Отчего же таишься?
– Мало ли что… Сам говоришь.
– Об этом раньше думать следовало. – Ктитор смотрел строго и сожалея. – Учил тебя папаша, светлая ему память, учил, да не впрок, гляжу, наука пошла.
Карп Данилыч промолчал, хотя в другой момент не спустил бы упрека. Он медленно поднял на Еремей глаза, но лишь на мгновение в них мелькнула былая уверенность и твердость. Еремей Фокич подсел к Митрюшину, не зная, как утешить себя и его, не имея даже подходящих слов на такой случай.
– Ведь знал, старый дурак, чуял, что беда стережет! – на одном дыхании выкрикнул Карп Данилыч, крепко схватив ктитора за плечо.
Боль охладила Еремея, и он, высвобождаясь от цепких митрюшинских пальцев, ответил прежним равнодушно-рассудительным тоном:
– Стало быть, наперед умнее будешь…
– Наперед! – со злой досадой перебил Карп Данилыч. – Будет ли это «наперед», вот в чем заноза.
– Сие от бога.
В гнетущей тишине подкрались сумерки. За окном неспешно густела ночь. Она несла с боязливо примолкших улиц тягостное ожидание приближающейся расплаты.
Еремей Фокич, бормоча что-то под нос, собрал ужин, потеребил и без того плотно задернутые занавески, зажег лампу. Так прикрутил фитиль, что робкая ленточка огонька едва держалась за него. Мрак в доме не рассеялся, а лишь отодвинулся, громоздясь в углах чудовищными тенями.
Карп Данилыч безучастно смотрел на боязливую суету ктитора, на нервно дрожащий свет вот-вот готовой погаснуть лампы, все яснее осознавая свое положение. Чужая еда показалась горше полыни. И он вышел из-за стола. Еремей Фокич не остановил.
Обоих волновала одна мысль. Как быть дальше? Но каждый при этом думал только о себе.
Часам к десяти хозяин надумал ложиться спать. Шумно зевал, толкался у печки, исподлобья поглядывая на сгорбившегося на скамейке Митрюшина. Наконец не выдержал, сказал:
– Может, того… где в другом месте схоронишься?
Карп Данилыч, с трудом различая в полумраке фигуру, горько усмехнулся:
– Гонишь, что ли?
– Ты уж не обессудь, сам понять должен.
– Разбойников прятать не боялся, а меня, стало быть…
– Не серчай на старика, Данилыч, однако по нынешним временам ты поопаснее их будешь.
Митрюшин далее не успел обидеться, потому что в окно постучали. Они, не скрывая испуга, переглянулись. Стук, торопливый и настойчивый, повторился. Ктитор, повинуясь жесту Митрюшина, засеменил к двери.
Слышно было, как он дважды спросил «кто?», бесконечно долго возясь с запорами, как коротко и жестко скрипнули дверные петли. «Не мог смазать, старый скупердяй», – подумал Карп Данилыч, обреченно ожидая грохота сапог, бряцанья оружия, мстительно-радостных взглядов.
Но ничего не произошло. Еще минуту стояла тишина, потом дрожащий голос ктитора позвал:
– Данилыч, слышь, что ли? Выдь-ка сюда. Ждут.
«Кто?» – хотел спросить Митрюшин, но вовремя сообразил, что «они» ждать бы не стали.
С трудом сдерживая рвавшееся из груди дыхание, Карп Данилыч прошел в темные сени. У дверей стоял незнакомый человек. Митрюшин в нерешительности остановился.
– Не признали? Сытько я.
– Не признал.
– Бывает… За вами я. Просили кое-что передать. – Он умолк.
Ктитор его понял и, разочарованно потоптавшись около них, робко, словно боясь согласия, предложил:
– Может, в дом?
– Нельзя, – отказался Сытько.
– А-а-а, – облегченно протянул Еремей Фокич. – Ну тогда помогай вам бог, счастливый, как говорится, путь!
Прощай, Еремей Фокич, благодарствуй за приют.
– Да что уж там, Данилыч, люди, чай, свои.
– Вот я и говорю – свои, – подтвердил Митрюшин и вышел из дому.
Сытько проводил его до ближайшего переулка и, объяснив, как идти дальше, пропал в ночи.
Митрюшин постоял в раздумье, обдумывая происшедшее и одолеваемый сомнениями, потом зашагал по указанному пути, не замечая, как от дома к дому за ним неотступно следует легкая тень.
Страх опять остаться одному, мучаясь ожиданием ареста, оказался сильнее туманной надежды выйти невредимым из этой беспощадной карусели. К тому же подгоняла предательски успокоительная мысль о том, что там, куда его позвали, собрались люди военные, бывалые, которые наверняка знают, как поправить положение. Но роились и другие думы. Он гнал их прочь, но они, как острый гвоздик в сапоге, напоминали о себе на каждом шагу.
Ему обрадовались.
– Вот и Карп Данилыч!
– Слава богу, жив-здоров!
– Приходи, садись. Мы уж и не чаяли!..
Митрюшин отвечал на приветствия, пожимая руки, чувствуя, что радость искренняя. От этого стало спокойнее и приятнее. Сомнения и тоска уходили.
Он осмотрелся. Амбар был велик и добротен и, хотя им, как сразу стало ясно опытному взгляду, не пользовались по прямому назначению, сохранил свежесть и чистоту. Почти посредине стояла железная бочка, на ней – порядком оплывшая свеча. Огонь горел ровно и смело, вселяя уверенность.
– Таким образом, можно сделать вывод, и вывод вполне определенный: мы переоценили свои возможности и недооценили возможности большевиков. – Добровольский, продолжая, видимо, давно начатую речь, говорил размеренно и чинно. – Мы понадеялись на стихийное возмущение масс, а следовало провести серьезную работу.
– Да прекратите вы, штабс-капитан! – с досадой оборвал Гоглидзе. – Здесь не Учредительное собрание!
– Однако…
– Что «однако»? Что «однако»? – выкрикнул Смирнов. – Ротмистр прав: нечего заниматься словоблудием, надо стрелять, вешать и рубить, стрелять, вешать и рубить!
– Мы не мясники и не палачи, – сделал попытку успокоить Добровольский.
– Мы солдаты!
– Мы – офицеры, – поправил штабс-капитан.
Смирнов недовольно поморщился, но промолчал.
– Ладно, не будем ссориться! – Гоглидзе порывисто встал и зашагал по земляному полу быстрыми твердыми шагами, торопливо выговаривая: – Сейчас не время для взаимных обвинений. Мы перешли Рубикон, все, обратной дороги нет! Первая атака не удалась – и что ж?! Соединим ряды – и снова в бой!
Эти слова морозом проходили по спинам купцов. Напуганные неудачей, они, однако, не могли признаться в малодушии даже себе и одобрительно кивали ротмистру.
А Митрюшин смотрел на укрытые тенью лица, на бодрящихся офицеров, и притаившаяся обида вновь тревожила сердце: «Лей теперь воду на пустую мельницу. Подняли всех, а сейчас что? Сиди скрывайся… Офицерам что, у них планида такая: воюй, гоняйся за врагом да от врага, а нам каково? Жили б себе тихо, глядь, и без нас бы управились!»
В углу что-то зашуршало, потом шорохи послышались за стеной. Карп Данилыч обеспокоенно повернул голову, но звук смолк.
– Ты что вертишься? – прошептал Субботин. – Или сучок в скамейке?
– Вроде как скребется кто-то.
Он сказал это, чуть приоткрыв губы, но все услышали.
Гоглидзе остановился рядом с Добровольским, прислушиваясь, спросил:
– Может быть, мыши?
– Может, и они, их к голодному году тьма разводится.
– Бросьте вы, – с досадой проговорил Смирнов. – Пуганая ворона и куста боится.
– С вами станешь хуже вороны! – неожиданно для всех и прежде всего для себя произнес Митрюшин.
Все посмотрели на него, не понимая или, вернее, не желая понять его слова. А он пожалел о сказанном. Но не потому, что испугался, а потому, что вновь изменил себе, раскрылся. Самолюбивая натура, уставшая от непривычной борьбы, не могла удержаться и понесла:
– И нечего на меня глядеть волками! Не по своей воле пошел за вами, но пошел же! А я человек не воинских чинов и всех ваших диспозиций не знаю, хотя, может быть, оно не так и важно… Да, гляжу, и вы не то чтоб особо их знали, потому откуда к ним, в Совет-то… к тем, кто там обретался, подмога такая скорая пришла, а?
– Ты в эти дела не лезь, – остановил Смирнов. – До них еще черед не дошел.
– Может, и не дошел, – живо повернулся к нему Карп Данилыч. – Однако мы-то сейчас здесь, в этом амбаре, как тати ночные, от людей хоронимся…
Но договорить Митрюшин не успел: дверь амбара содрогнулась под градом ударов. Резкий голос из темноты оборвал оцепенение:
– Эй, вы там! Открывай дверь, выходи по одному! Без оружия!
И в напрягшейся тишине опять:
– Приказываю именем Советской власти! На размышление минута!
– Идиоты, дураки! – прохрипел Гоглидзе, непонятно к кому обращаясь, и дунул на свечу.
Наступила тьма. В узкое оконце под крышей заглянула дрожащая звездочка, непостижимо далекая и недоступная, как вечность.
– Перестреляют в этой мышеловке, как собак. А я на тот свет не тороплюсь, – снова прохрипел Гоглидзе. – Будем выходить, посмотрим, сколько их там. Откройте, поручик. – И громко крикнул: – Мы выходим!
Смирнов подошел к двери. Деревянно стукнул запор, и ночь открылась навстречу. Ротмистр постоял секунду и шагнул к выходу. Его остановили, обыскали, кто-то приказал отрывисто и звонко:
– Проходи! Следующий!
Вышли Добровольский, Субботин, Смирнов.
Гребенщиков жался в угол. У Митрюшина мелькнула мысль остаться, притаиться, как мышь, но он лишь тоскливо усмехнулся на свою наивность. Ноги стали ватными, во рту появилась горькая сухость. Он замешкался в двери, но его грубо схватили за рукав.
– Давай-давай, пошевеливайся!
После душного амбара предрассветная свежесть показалась особенно приятной. Карп Данилыч глубоко вздохнул, слыша, как внутри холод сжимает сердце, а оно загнанно бьется, отбивая одно и то же: «Вот и все… Вот и все… Вот и все…»
Его подтолкнули к другим. Они выстроились короткой угрюмой шеренгой.
– Все, что ли? – спросил невысокий с коротким ежиком волос человек. – Проверьте, – приказал красногвардейцу.
Митрюшин не понял, что произошло: в амбаре послышался глухой шум борьбы, и человек с ежиком волос, а с ним еще двое бросились на помощь красногвардейцу.
Карп Данилыч так и остался бы стоять на месте, если бы его не подтолкнул в бок Добровольский, шепнув жарко и страстно: «Бежим!» И он рванулся в сторону, не слыша ни криков «стой!», ни выстрелов.
43
Тяготила неизвестность. Догорала свеча, а архимандрит Валентин никак не мог успокоиться. Роившиеся мысли переносили за пределы Москвы, в тот небольшой городок, где должна начаться открытая борьба против Советов. Но сведений оттуда пока не было, и в сердце закрадывалось мрачное предчувствие.
Архимандрит погасил ножницами мигавший огарок. Сумерки сплели паутинки вечера в мягкую серую ткань. Небо начинало высвечиваться звездами.
Валентин отошел от окна. Шаги гулко отдались в комнатах. Архимандрит никак не мог унять неприятной дрожи в теле. Голова отяжелела, мысли потеряли привычную четкость и стройность.
– Ваше высокопреподобие, – вывел из задумчивости вкрадчиво-осторожный голос. Перед Валентином стоял монах-келейник. – Депешу велено передать. – Келейник протянул пакет.
– Да-да, – словно очнувшись, заторопился архимандрит, но взял себя в руки. Равнодушно принял конверт, спросил: – Из какого прихода?
– Не сказано. Черница передала, а в подворье войти не пожелала.
– Хорошо, ступай.
Келейник удалился.
Валентин хотел сразу вскрыть пакет, но сдержался. Секунду подумал и направился в свой кабинет. Там чуть подрагивающими пальцами распечатал.
«Его высокопреподобию архимандриту Валентину.
Ваше всемилостивейшее высокопреподобие!
Считаю необходимым сообщить вам, что дело, так усердно готовившееся в известной вам округе, успех не возымело.
Молю господа, да поможет он всем нам в дальнейшем правом деянии и сохранит верных слуг беспреткновенно в нынешних лютых для церкви обстояниях.
С любовью о господе
Алевтина, игуменья Покровско-Васильевского
монастыря».
Архимандрит прочитал письмо, ощущая, как боль невидимыми молоточками застучала в виски. Он опустился в кресло. Подумалось о том, каков будет результат поражения, как скажется оно на других и о том, что следовало бы во всем разобраться спокойно и внимательно, ибо это только начало, а за спиной другие города и другие приходы. «Узнать, изучить, извлечь уроки – и с божьей помощью вперед! А икона с драгоценностями? Начнутся допросы, обыски, могут добраться и до нее. Значит, надо торопиться!»
Исчезли неуверенность и слабость: деятельная душа, определив главное, отбрасывала тягость неизвестного.
Валентин вздохнул, встал. Он знал теперь, что ему делать, как поступить.
44
В маленькой и сырой полуподвальной каморке стало еще тоскливее. В узкую щель окна виден был часовой, надоедливо отмерявший пространство справа-налево, слева-направо. Иногда он останавливался, к чему-то прислушиваясь, потом снова раздражающе-нудно отправлялся в четко очерченный короткий путь.
День с рассвета до заката пролетел мгновенно, но им показалось, что сидят они здесь вечно. После утреннего допроса их отправили в эту временную тюрьму. Ближе к полудню пожилой красногвардеец принес бачок с железной кружкой, поставил у двери и, не отвечая на вопросы и угрозы поручика, вышел.
Они понимали, почему так происходит, догадывались, что их ждет, но не хотели в это верить. Оставалась надежда, что придет помощь, и они обсудили ее во всех вариантах, вспоминая и Лавлинского, и отца Сергия, и бежавших Добровольского и Митрюшина, прикидывали и другие, самые, казалось, невероятные возможности, могущие способствовать их освобождению.
Но вечер угасал, и угасали надежды…
Смирнов, устав от непривычной душевной работы, заставлявшей и негодовать, и просить, и надеяться, и требовать, прислонился к стене, устремил взгляд в густо-сиреневую прорезь окна.
– Неужели все? Неужели нас покинули? – прошептал он. – Боже мой…
На него посмотрели угрюмо.
– К нему-то, к всевышнему, напрасно обращаешься, право слово, напрасно, – откашлялся в углу Гребенщиков. – Ежели б был он за тебя, сидел бы ты тут?
– На бога надейся, а сам не плошай, – проворчал Субботин, наливая тепловатой, с запахом тины воды. Все это время его изводила нестерпимая жажда. Горело внутри, сохло горло.
Хворь эта зародилась в ту минуту, когда Дементий Ильич услышал яростный рев бегущей массы людей, заглушающий даже звуки выстрелов. Ему показалось, что бежали только на него, стреляли только в него и хотели, жизнь отнять только у него… Видимо, каждый, кто стоял перед догорающим зданием Совета в тот неожиданно для них начавшийся миг горестного похмелья, почувствовал то же самое. Потому, наверное, всего секунду назад грозная и сильная в общем порыве толпа сразу превратилась в кучку обезумевших от страха людишек.
– Хорошо сказано – «а сам не плошай», – повторил Гоглидзе. – Нас здесь четверо, и мы кое-что можем…
– А знаете, чего я больше всего боялся на фронте? Выстрела в спину, – вдруг признался Смирнов, продолжая смотреть в оконце. – Расквартировались мы как-то под Гродно вместе с казачьим корпусом и сошелся я накоротке с хорунжим… Впрочем, его уже нет в живых… – Смирнов подавил вздох и продолжил: – После одной истории хорунжий сказал мне: «Не помереть тебе, Иван Петрович, своей смертью. Либо лиходей в постели зарежет, либо жена отравит, либо свои же мужики из-за угла пристрелят». Посмеялся я тогда, а потом всю ночь не спал. Поверите ли, господа, – он повернулся, – во всех углах мерещился эдакий верзила с палашом в руках. – Поручик через силу улыбнулся: – Девиц остерегался, дал зарок не жениться раньше пятидесяти.
– Не того, оказывается, боялся. – Гребенщиков теребил куцую бородку, исподлобья поглядывая на Смирнова. – Не того, – повторил он со значением, будто зная что-то такое, чего не знает и знать не может молодой поручик. – Да и все мы… И бога боялись, и царя-батюшку, и германца… Ан нет, не с того боку глядели, не в ту, стало быть, сторону.
– В ту, не в ту, чего теперь, – глухо произнес Субботин. – Богу молиться надобно, грехи замаливать: час, видно, недалек…
– Не смейте, – крикнул Смирнов. – Не смейте меня хоронить!
– А ты не ори, – возвысил голос Дементий Ильич. – Не в казарме.
– А вы… А ваш сын… – заторопился поручик, подыскивая слова, чтобы побольнее ударить этого хмурого, с поседевшей нечесаной бородой человека, и не находил их. Он переводил взгляд от Гоглидзе к Гребенщикову, ожидая поддержки. Но ждал напрасно. Василий Поликарпович отвернулся, кривя узкие губы в усмешке, а ротмистр дрожащим от злости голосом проговорил:
– Это прекратится или нет?! Если вы хотите перегрызть друг другу горло – пожалуйста, но только тихо. Вы отвлекаете меня! Или вы хотите побыстрее быть повешенными?
Свобода была рядом и бесконечно далеко. «Да и какое дело можно сделать с этими мокрыми курицами? – думал Гоглидзе. – Или вызвать часового, а там…»
Но вызывать часового не пришлось. Он сам распахнул дверь и выкрикнул:
– Гоглидзе, Смирнов, Субботин, Гребенщиков – выходи!
Они испуганно переглянулись и не двинулись с места. Им уже казалось, что эта сырая и убогая каморка-камера верней и надежней, чем спокойный вечерний свет, открывающий путь к такой желанной, но теперь пугающей свободе.
– Выходи, сколько повторять!
Ротмистр поднялся первым, сцепил руки за спиной, пошел к выходу. За ним потянулись остальные.
В нешироком дворике, обнесенном высоким и крепким забором, выстроились красногвардейцы с винтовками на плечах. В некоторых глазах пряталось любопытство, другие светились гневом, третьи смотрели строго и настороженно. Но ни в одних не нашлось жалости. Арестованных вывели со двора и под усиленным конвоем повели по тихим улицам и переулкам за город. Разговаривать не разрешали. Да и о чем сейчас могли говорить эти, в сущности, совершенно чужие люди, связанные лишь одним чувством – ненавистью. А это чувство никогда и никого не объединяло надолго.
Дорога оказалась неблизкой. Сразу за окраиной началось неровное, в кочках и выбоинах поле, зарастающее густым разнотравьем. Вдали виднелся редкий, из березок и сосенок, молодой лесок. Он как бы предварял другой лес, плотной стеной закрывающий горизонт.
Солнце скрылось. В поле из леска тянул ветерок, пахло листьями, хвоей, прелью. Остановились в мелколесье.
Человек в кожанке, подпоясанный ремнем с кобурой на боку, глухо произнося слова в вислые желтые усы, зачитал приговор ревтрибунала.
Они молча выслушали рубленые жесткие фразы, закончившиеся словом «расстрелять», отказываясь верить, что сказанное относится именно к ним, четверым.
Но когда медленно поднялись винтовки, выстроившись в готовый полыхнуть смертью ровный ряд, поручик не выдержал:
– Остановитесь! Я не хочу!
Он задыхался, как безумный мотал головой.
– Стыдитесь, поручик! – больно сжал его локоть ротмистр. – Покажите этим скотам, как умирают офицеры!
У Смирнова странно косило рот, Гребенщиков плакал, что-то шепча высохшими– губами, Субботин судорожно сжимал и разжимал кулаки, Гоглидзе, бешено раздувая ноздри красивого тонкого носа, хотел что-то крикнуть. Но не успел: рука человека в кожанке упала вниз…
Эхо залпа, спугнув тишину, побежало в лес, поле и там пропало.








