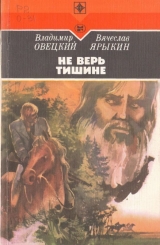
Текст книги "Не верь тишине (Роман)"
Автор книги: Владимир Овецкий
Соавторы: Вячеслав Ярыкин
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
11
Приближался полдень, ясный апрельский полдень, когда набравшие силу солнечные лучи насквозь пронзают хрупкую зелень деревьев, щедро и ласково, как бывает только в это время года, помогают земле забыть метельные сны.
Отец Сергий ушел в церковь с рассветом, но давно отслужили утреню, а он все не возвращался. Не пришел и Саша. И Марфа Федоровна, чтобы как-то ускорить ход времени, позвала служанку и приказала готовить обеденный стол.
– Сколько приборов ставить, матушка?
– Ставь четыре.
Марфа Федоровна сделала девушке еще несколько замечаний и прошла к себе. В комнате она без надобности переставила с места на место стулья с широкими резными спинками, провела рукой по столу, покрытому кружевной скатертью, подлила масла в лампаду и вышла в сад.
Здесь было тихо и прохладно. Но это не успокаивало. Сердце страшила мысль, что чужая и непонятная жизнь-круговерть ворвется и сюда, сметая покой и благополучие, беспощадно растопчет все, чем были наполнены годы совместной жизни с отцом Сергием.
Счастливо зажили они в этом городе, где молодому священнику дали приход. Ревностно начал он службу, умело нашел тропку к сердцам прихожан, среди которых были и люди, власть имущие. Чем могла помогала ему матушка. До удивления быстро привыкли они друг к другу, даже многие привычки оказались у них схожими, о чем с тайной радостью думала Марфа Федоровна. Думала и волновалась, потому что муж и сын оказались сегодня там, где бушевала стихия.
– Мама, вы здесь!
Марфа Федоровна вздрогнула от неожиданности, оглянулась. И улыбнулась с облегчением сыну и его приятелю, ротмистру Гоглидзе.
Едва вошли в гостиную, тенькнул звонок. «Батюшка», – догадалась Марфа Федоровна. И не ошиблась.
– Ждем тебя с обедом.
– Не до яств ныне, – пробасил священник и повернулся к сыну и ротмистру: – Рад, что вы здесь. Но сначала подкрепитесь чем бог послал, а на меня, старика, не обращайте внимания.
«Бог послал» обед обильный, хотя и постный. Матушка гостеприимно потчевала гостей, однако сама к еде почти не притронулась. А молодые ели дружно и с аппетитом…
Поблагодарив хозяйку дома, Гоглидзе с Александром поднялись на второй этаж, к отцу Сергию.
– Прошу, господа, усаживайтесь и выкладывайте все до единого и откровенно, – грубовато потребовал священник, четко давая понять, что здесь не место и не время разводить дипломатию.
– Если откровенно, – Александр переглянулся с Гоглидзе, – то мы не очень довольны тем, как разворачиваются события. Полагали, что достаточно маленького толчка – и народ поднимется! А оказывается, надо подталкивать тех, кто пострадал от большевиков.
– Мрачно живописуешь. Почему?
– Почему? Приехали мы утром к Смирнову на завод. Принял нас Петр Федорович весьма любезно, а дело не вытанцовывается. Мнется Петр Федорович, во всем с нами согласен, а как патроны и бомбы дать – увольте!
– Дать? – переспросил священник.
– Ну отдать, передать, вручить, продать, какая разница! – поморщился Александр. Гоглидзе сидел в мягком кожаном кресле и, казалось, не слышал разговора.
Отец Сергий перевел взгляд с одного на другого, словно пытаясь понять, действительно ли они так наивны, как рассуждают. Потом встал, прошелся по комнате, закинув руки за спину:
– Песнопевец, настраивая свои гусли, до тех пор натягивает или послабляет струны, пока они не будут согласны одна с другой гармонически. Так и мы в нашей деятельности обязаны согласовывать все до мелочей. В том числе и то, что касается разницы между словами «дать» и «продать». Для заводчика Смирнова и его коммерции не существует слова «дать», есть лишь слово «продать». И это вы должны знать не хуже меня.
– Да о какой коммерции может идти речь, когда родина гибнет!
– Ты прав, Александр, и горячность твоя понятна и простительна. Но увы, «все мы суть человеци», а посему низменное живет в каждом из нас. Однако, когда вы слышите: «Отдавай кесарево кесарю», разумейте под этим только то, что не вредит благочестию. Все противное благочестию дань диаволу.
– Вы, батюшка, очень хорошо объяснили, очень! – улыбнулся Гоглидзе. – Но где нам взять кесарево, чтобы отдать или, чтобы быть точным, заплатить господину Смирнову?
Вопрос резонный. Надо сообща подумать.
– Долго думаем, – хмуро заметил Александр. – Большевики резвее нас оказались: не мудрствуя лукаво приняли решение о контрибуции. Так что пока будем договариваться между собой «дать» или «продать», советчики обдерут всех как липку.
– Откуда известно?
– Дементий Ильич передал.
Отец Сергий промолчал. Вспомнился трудный и неудачный разговор с иеромонахом Павлом, духовником женской обители.
…Только что отслужили службу, они остались в ризнице вдвоем. Момент для разговора был не Очень подходящий, но выбирать не приходилось: торопило время, а с монастырем связывалось слишком много планов.
– Суровая нам выпала доля, – говорил отец Сергий, переодеваясь. – Живем в мире, проданном антихристу. Разрушаются святые устои нашей духовной жизни. Земля русская обагрена реками крови, свинцовые тучи над некогда светлым горизонтом. И как невыносима и омерзительна вонь невысыхающей краски на плакатах, призывающих уничтожать ближнего, разрушать святую церковь. Чад поднимается к небу. И разве мыслимо иное служение церкви, чем яростная борьба за чистый горизонт!
Иеромонах спокойно выслушал горячую речь отца Сергия. На бледном лице с куцей рыжей бородкой ласково светились огоньки глаз. Спросил тихим и чистым голосом:
– Вы что-то хотите от меня?
– Единственно, быть в рядах тех, кто поднял руку возмездия, – быстро ответил отец Сергий.
– Мой долг – нести людям божественную истину, учить их словом во всех проявлениях жизни.
– Но люди хотят и люди должны слышать от вас не только доброе слово, но и видеть доброе дело. Ужели нет?
Иеромонах промолчал.
– Всякое твое учительское слово да будет подкреплено постоянным примером личной жизни твоей, – повторил отец Сергий.
– Вся моя жизнь – действие промыслительной десницы божьей, – все так же спокойно ответил Павел.
– А разве не бог говорит нам сегодня аграфом: «Царство диавола пришло. Боритесь с ним. Оружие наше – мой крест. Сила – в нем. Смойте кровью отступников кровь мою с честнаго и животворящего креста». Око за око, зуб за зуб – вот наше кредо, вот к чему зовет нас господь. Не только словом разоблачать крамольные идеи и деяния, но и мечом карать тех, кто танцует под красным знаменем – вот наш девиз.
– Мое кредо иное: «Любовь к людям, а не к отдельным личностям». Оттого не могу брать в руки меч, чтобы обагрить его человеческой кровью. Вот мой ответ…
Не мог передать этого разговора отец Сергий. И не потому, что опасался посеять семена сомнения, он был уверен и в сыне, и в его друге, однако их настроение ему не понравилось, так стоило ли подливать масла в огонь. И он спросил, усаживаясь в кресло:
– А как вам игуменья?
– Трудно судить, – ответил Александр. – Мы ведь, в сущности, беседовали с ней не более получаса. Но вообще занятная особа.
– Что за выражения у тебя, – покачал головой священник. – Не забывай, она…
– Да-да, монахиня и все такое, понимаю. Но право, нам с ротмистром показалось, что происходящим вне монастырских стен она интересуется ничуть не меньше, чем тем, что случается в кельях. Или, может быть, мы ошибаемся?
– Поведай-ка мне еще раз про ваше посещение игуменьи, – попросил отец Сергий Александра, не ответив на его вопрос.
12
Лавлинский открыл массивную дверь кабинета.
– Заходи, Герман Георгиевич, не робей! Ты ж управляющий фабрикой. – Лузгин ткнул круглой и мягкой рукой в сторону Никанора Кукушкина, председателя фабричного комитета. – Ты на него погляди: не робеет. Нынче все смелые.
– Я, Тимофей Силыч, и прежде перед тобой не робел, – ответил Кукушкин.
– И то правда. Я знаю почему. Вот Лавлинский не знает, хотя и университеты проходил, а я знаю. – Лузгин говорил с хрипом и тяжелой одышкой. – Мы с тобой, Никанор, враги. Враги или нет?
– Враги, – твердо и уверенно подтвердил Кукушкин.
– Стало быть, мне не веришь. Ни в чем и ни на грош. И оттого нет в твоей душе сомнений, рубишь с плеча. А ежели б мы были с тобой единомышленники, вот как, к примеру, с моим управляющим? Стал бы тогда думать-гадать, как бы такое закрутить, чтобы и меня не обидеть, и самому внакладе не остаться. И маялся бы в сомнениях. Про таких говорят: нерешительный. Стало быть, робкий. Уловил, Кукушкин, как я – по-стариковски растолковал, а? К-хе-хе-хе. – Лузгин то ли засмеялся от удовольствия, то ли закашлял от напряжения и потянулся к графину. Залпом осушил стакан, отдышался. – Ну, что скажете?
– Любопытно, весьма любопытно, – ответил Лавлинский. – Враги – решительность, единомышленники – робость. В этом что-то есть.
– Может, и есть. Только теория эта – для вас, а для моих друзей-единомышленников она неподходяща. – Кукушкин напрягся. Ему показалось, что и задыхающийся Лузгин, и надменно-вежливый Лавлинский смотрят на него одинаково насмешливо. Хотелось сдержанно, с уничтожающим презрением обрезать их, но он не справился с собой, закричал: – И нечего комедию устраивать! Не натешились еще! – И до ломоты стиснул зубы, зная наверняка, что скажет Лузгин.
Тот пожевал губами и с видимым сожалением заметил:
– Слаб ты, Никанор, ох, как слаб.
И оттого, что Лузгин сказал именно то, что и ожидалось, Кукушкину стало немного легче. Он заставил себя улыбнуться:
– Может, и слаб. Да и откуда силе-то быть, когда ты меня то на каторгу, то на фронт. Это вы тут силушки набирались, да не впрок она вам пошла. – Голос его стал ровен и чист, лишь чуть-чуть подрагивал от неушедшего напряжения.
– Простите, Тимофей Силыч. – Лавлинский встал. – Если в моем присутствии нет необходимости, я откланяюсь. У меня нет ни возможности, ни желания делить общество с этим господином.
– Однако, голубчик, придется. Никанор-то Кукушкин пришел к нам по делу. Работа его интересует. Раньше, в недалекие времена, в светлую пасхальную неделю хозяин рабочим отгул давал, а нынче новая власть супротив этого идет: работать, мол, надо, а не разгуливать.
– Но по какому праву я должен отчитываться перед?.. – Лавлинский не закончил и резко повернулся к Кукушкину. – Позвольте хотя бы узнать, чьи интересы представляете?
– Рабоче-крестьянской революции.
– Это, разумеется, впечатляет, однако хотелось бы знать ваши полномочия.
– Бросьте, Лавлинский. Вы же знаете, что я – председатель фабричного комитета. А если вам этого недостаточно, могу предъявить мандат члена исполнительного комитета городского Совета рабочих и солдатских депутатов, хотя уверен, что вы знаете и это!
– Увы, – насмешливо развел руками Герман Георгиевич. – Я только инженер, политическим устройством государства не интересуюсь. В особенности теперь. Так что приказать мне может только один человек: владелец предприятия, каковым является Тимофей Силыч Лузгин.
– Кхе-хе-хе, – снова закашлял-засмеялся Лузгин. – Вот, Никанор, у кого надо учиться, видал, как закрутил!
– Чему надо – поучимся, – ответил Кукушкин. – А подчиниться придется. Это прежде всего в ваших интересах.
– Ах, Никанор ты Кукушкин, добрая твоя душа, об интересах наших печешься. А мы-то тут комедь устраиваем, в расстройство тебя вводим. Не обессудь, – съязвил Лузгин.
Кукушкин, чувствуя, как горячая волна вновь накатывается на него, резко встал и прошептал:
– Ничего, Тимофей Силыч, потешься напоследок, недолго осталось. – И вышел из кабинета.
Тимофей Силыч, подождав, пока за Кукушкиным закроется дверь, грохнул кулаками об стол, прохрипел:
– Паршивый щенок, тля большевистская! И ты хорош!
– Я вас просил мне не тыкать!
– Да-а… Да я самому государю-императору сказал бы «ты»! Ин-телли-ген-ция! Я бы с вас начал! Довели Россию – Кукушкины командуют! – Он несколько раз глубоко и с шумом вздохнул, успокаиваясь. Потом спросил хмуро: – Зачем с ним так разговаривал?
– Мы же с вами единомышленники…
– А чему улыбаешься? Зря улыбаешься, зря… Я вашего брата насквозь вижу. Ты за меня держишься, потому как уверен, что все назад вернется. А ежели возврата нет? К ним в услужение пойдешь?
– Не надо меня проверять, – спокойно ответил Лавлинский. – Тем более что любой мой ответ – это только слова, которым можно и верить и не верить, а человека проверяют и оценивают по его поступкам.
13
Кукушкин неспешно вышел из фабричных ворот.
Остановился, свернул тоненькую цигарку и затянулся горьким ядреным дымом. Курил без удовольствия, но упрямо, надеясь, что уйдет голодная тошнота, остановится подступившая боль в затылке – неотступное напоминание о давней контузии, – успокоятся совсем сдавшие нервы. Курить он начал на фронте. Но там гремела война с ее одурманивающими запахами пороха и смерти, изнуряющим ожиданием завтрашнего дня, а здесь тихо, но ему казалось, что он снова в окопе, а где-то поблизости, в нескольких шагах, разлагаются трупы… Вдавив окурок в землю, зашагал тяжелой походкой усталого, но крепкого человека. Собрание коммунистов партячеек было назначено на два часа пополудни, и он решил до его начала переговорить с Кузнецовым. С Николаем Дмитриевичем Кукушкин столкнулся в дверях милиции.
Кузнецов пропустил гостя и что-то сказал дежурному, который принялся накручивать ручку телефона. Но в кабинете поговорить не удалось: сюда из-за двери доносился женский голос: «А я при чем? Я женщина честная, знать ничего не знаю!»
– Шумно у вас. Воюете? – усмехнулся Кукушкин.
– Воюем, – улыбнулся в ответ Кузнецов. – Это что, бывает и хуже. Ну да ладно. Что у тебя?
– Был у Лузгина. Упирается!
– А ты думал, он тебя с распростертыми объятиями встретит, вот, мол, Никанор, ключи от фабрики, работайте на здоровье.
– Не смейся, веселого мало.
– Я и не смеюсь, какой тут смех!
– Бандитов бы лучше ловили, а не таких честных людей! – кричала женщина за дверью.
– Да от таких спекулянток, как ты, больше вреда, чем от иного бандита!
– Пойдем, Никанор Дмитриевич, к Прохоровскому, здесь нам поговорить не удастся.
Начальник милиции, низко склонившись над столом, торопливо писал мелким почерком.
– Помните, Сергей Прохорович, письмо с фабрики Лузгина? – спросил у него Кузнецов. – По моей просьбе товарищ Кукушкин согласился оказать нам некоторое содействие.
– Что-нибудь удалось узнать? – голос у начмила был равнодушным.
– А вас это не интересует?
– Если говорить откровенно – нет! – прямо ответил Прохоровский. – Мне нужна банда! Обнаружить ее и обезвредить я считаю не только своим прямым долгом, но и, если хотите, делом чести!
– А другие враги, хотя и без оружия, пусть палки в колеса Советской власти ставят, так вас надо понимать?
– Не так. – Прохоровский отвернулся и погладил раненую руку. – Я хотел сказать… А впрочем… – Он сложил исписанные листки в тощую папку, спрятал в ящик стола и сухо спросил: – Что вам удалось выяснить?
Кукушкин, недовольно поглядывая на начмила, рассказал, ничего не утаивая и не прибавляя.
– Формально, может быть, Лузгин и прав, – нарушил молчание Прохоровский. – Формально. Ведь фабрика принадлежит ему. Н-да… А как вы говорите фамилия управляющего? Лавлинский? Незнакомая фамилия.
– Это не удивительно: он служит у Лузгина недавно, – пояснил Кукушкин. – Удивительно другое: как за столь короткий срок ухитрился он прибрать старика к рукам? Тот хотя и пыжится, а без Лавлинского ни шагу. А ведь Лузгину палец в рот не клади – всю руку откусит.
– И надо так понимать, что оба они заодно?
– Еще бы! Лавлинский прямо смеется в глаза: разве гуманно, говорит, заставлять людей трудиться без отдыха, разве для этого совершалась рабоче-крестьянская революция? – Кукушкин опять поморщился. – И обвинить вроде бы не за что, никакой активной деятельности против не ведет, во всяком случае, открыто.
– Вот видите! – не скрывая удовлетворения подхватил начмил. – Следовательно, нам на фабрике Лузгина делать пока нечего!
Разговор можно было считать оконченным. Во всяком случае, так решил для себя Прохоровский, однако для Кукушкина и Кузнецова он продолжился в городской гимназии, где собрались члены партячеек. Все хорошо знали друг друга, хотя и работали на разных фабриках и заводах.
Говорили о текущих делах, спорили и соглашались, требовали решительных мер и призывали к осмотрительности. В заключение слово взял Бирючков:
– Буду краток: в «Правде» опубликована статья Владимира Ильича Ленина «Очередные задачи Советской власти». В ней – план действий для всех нас. И можно выделить основное: всенародный контроль, решительная борьба с мелкобуржуазной. распущенностью и саботажем, укрепление дисциплины. И главное – опора на массы! Мы обязаны вести их за собой, иначе это сделают другие…
14
Дежурство заканчивалось. Милицейский патруль неторопливо передвигался по грязной весенней улице. Прохожие старались незаметно проскользнуть мимо. К милиции относились настороженно, как ко всякому необычному явлению. Необычность заключалась в том, что стражами порядка были вчерашние товарищи по работе или соседский паренек, который сам недавно бегал от усатого городового.
Рядом с милиционерами – насмешливым добряком Тряпицыным, молчаливым латышом Довьянисом и Яшей Тимониным – шагал тринадцатилетний брат Яши Митяй. Он уговорил брата взять его с собой. Теперь Митяю казалось, что он ощущает приятную тяжесть револьвера, воронено сверкающего под ремнем, там, где держат их милиционеры.
– Чего сопишь? – повернулся к нему Тряпицын. – Трусишь, что ли?
– Вот еще! – хмыкнул Митяй.
– Да что ты! – ухмыльнулся Тряпицын. – Герой! Не то что братуха. Глянь-ка на него: посерел весь и ноги еле волочит. И так всегда, как только на энту улицу выходит. А как вон к тому дому с палисадником приближается – совсем глядеть жалко.
– Кого ему бояться-то, бабку Матрену, что ли? – обиделся за брата паренек.
– А я почем знаю! Может и вправду Толстошеиху, а может, еще кого, – ехидно улыбался Тряпицын.
– У них сегодня фельшар был, – сказал Митяй.
– Яш, слышишь, что братень говорит? – остановился Тряпицын. – К тетке Матрене Толстошеевой фельдшер приходил. Давай зайдем, узнаем что к чему.
– Не стоит.
– Чудак-человек, может у нее что-то серьезное.
– У кого «у нее»? – Яша отвел глаза.
– Понятное дело – у Тоськи. Как думаешь, Альфонс?
– Можно и зайти, – ответил Довьянис.
На стук долго не открывали. Дом будто вымер.
– Может, ты что-то напутал, Митяй? – спросил Тряпицын.
– Ничего не напутал! – заволновался тот.
Яков застучал громче и настойчивее.
– Кто там?
– Это я, тетка Матрена, Тимонин Яша.
– Чего тебе?
– А почему мы должны через забор с тобой объясняться? – выкрикнул Тряпицын.
– Не об чем мне объясняться. Идите с богом своей дорогой.
– Открывай дверь, раз говорят.
Под сердитое ворчание лязгнули запоры.
– Иди-иди, – подтолкнул Яшу Тряпицын.
Матрена Филипповна остановилась посреди двора, давая понять, что в дом не пустит.
– Говори свое дело.
– Мне сказали… я узнал, что к вам сегодня приходил фельдшер, ну, стало быть…
Яша не закончил, поразившись, как изменилось ее лицо. И без того напряженно-взволнованное, оно вытянулось и задрожало. Яша понял ее состояние по-своему:
– С Тосей что-нибудь?
– Что с ней будет, ничего с ней нет, – ответила женщина. Потом заторопилась. – Малость приболела, да ничего, бог милостив.
– Где она?
И, оттолкнув что-то пытавшуюся объяснить тетку Матрену, вбежал в дом. Тося сидела у стола, опустив руки на колени. Увидев ее, Яша вздохнул облегченно и радостно. Он шагнул к девушке и остановился: из-за цветастой занавески, прикрывающей вход в крошечную Тосину комнатку, раздался стон.
Яков видел: еще секунда и Тося упадет в обморок. Но она заставила себя подняться и улыбнуться жалкой вымученной улыбкой:
– Здравствуй…
Он пожал холодную руку и не отпускал, пока девушка мягко и настойчиво не высвободила ее из горячей Яшиной ладони. Тося стояла перед ним хрупкая, как первая осенняя льдинка. Яша опять повторил про фельдшера и опять поразился впечатлению от своих слов. Девушка опустилась на стул, быстро затеребила тонкими пальцами бахрому на скатерти и заговорила, как в бреду:
– Родственник… из деревни… горит весь…
– Может, помочь чем надо? – спросил Яша.
– Нет-нет! Ему уже легче, нет-нет!
И он ушел бы, терзаясь сомнениями, если бы не крик:
– Коня! Придержи коня!.. Куда, сволочь?! Убью…
Мгновение стоял Яков пораженный, потом резко отбросил занавеску: на узкой скрипучей кровати разметался в беспамятстве Мишка Митрюшин.
Яша смотрел на пожелтевшее лицо, широкую грудь, схваченную повязкой с просочившимися пятнами крови, и не было внутри ничего, кроме слепящей ненависти.
– Почему он здесь?
– Ради бога… прошу тебя… – Тося, плача, отчаянно вцепилась в Яшин рукав.
Тимонин задернул занавеску. Больно ударила мысль: случись с ним такое – стала бы Тося оберегать его? Он бросился из дома, чуть не сбив перепуганную тетку Матрену.
Друзья стояли у ворот.
– Ну, что там? – спросил Тряпицын, но Яша отмахнулся, торопясь уйти прочь от этого дома.
– Вот, Митяй, гляди, не влюбись. Чуешь, что с человеком стало, – забалагурил Тряпицын. – Хочешь, расскажу одно приключение про любовь? Значит, было это аккурат прошлой зимой…
– Отстань! – крикнул паренек и пустился догонять брата.
А Яша шел, ругая себя: «Почему не забрал Митрюшина, почему? А Тося? Неужто забыла, как Мишка насмехался над ней, голью перекатной обзывал, как при всех веником одарил, мол, будешь у отца амбары подметать! Видно, любит, раз простила насмешки».
В милиции сдали дежурному оружие. Яков доложил Госку, что патрулирование по городу прошло без происшествий. Опасаясь расспросов, торопливо вышел из кабинета.
«Может, вернуться и все рассказать? А Тося? Она же меня до конца жизни презирать будет и ненавидеть!» Вспомнив изможденное лицо, он вдруг почувствовал себя виноватым перед ней за то, что вторгся в ее нерадостную жизнь. И именно тогда, когда, быть может, блеснул светлый лучик. Имеет ли он право погасить его?
А Матрена Филипповна, когда милиционеры ушли, засеменила в дом, путаясь в подоле.
– Что, доигралась! – набросилась она на Тосю. – Зачем притащила Мишку сюда? Ты что ему, мать, сестра, жена?
– Что ж ему, помирать на улице?
Мишка застонал, и Тоня бросилась к нему.
Митрюшин заговорил горячо и неразборчиво. В его отрывистые фразы вплетались тихие и нежные Тосины слова. Матрена Филипповна прислушивалась с удивлением и жалостью, не зная, что предпринять. Наконец, решившись, торопливо вышла из дома, неслышно притворила за собой дверь.
Глубокой ночью у ворот остановилась телега. Карп Данилыч был один. Он степенно подошел к калитке и постучал. Гостя ждали. Через несколько минут он вышел, помогая идти тяжело осевшему на него человеку. Следом выбежала девушка. Она помогла уложить раненого на телегу и села рядом.
– А ты куда? – остановил Карп Данилыч.
– С вами.
– Это еще зачем? Иди в дом. Слышь, Таисья!
– Карп Данилыч, родненький, возьмите меня с собой, я не помешаю, я помогать буду! – жалобно просила Тося.
– Думаешь, мать с отцом хуже твово справятся, – проворчал Митрюшин. – Этот родителей обидел, и ты туда же… – Он помолчал, подумав о чем-то своем, потом сказал, кивнув на телегу, где лежал сын: – Тебе, пожалуй, у него теперь спрашивать надобно…
Девушка повернулась к Михаилу, осторожно взяла его руку.
– Миша, – торопливо, чуть дрожащим голосом заговорила Тося, не могу я больше здесь оставаться. Не прогоняй меня…
Михаил притянул девушку к себе и прикоснулся губами к ее щеке.








