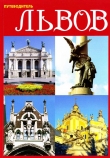Текст книги "Формула яда"
Автор книги: Владимир Беляев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
Кто тебя предал?
«Убийцу хоронят»
В четыре часа пополудни мы должны были выехать на трофейной немецкой машине в Раву-Русскую. По непроверенным данным в годы оккупации там находился большой концентрационный лагерь для военнопленных.
Как и обычно, перед новой поездкой я положил в свой потертый ленинградский портфельчик фотоаппарат «ФЭД», два чистых блокнота, баночку чернил для вечного пера и тяжелый немецкий пистолет «вальтер» с двумя запасными обоймами – нехитрое походное имущество военного журналиста.
Спускаясь по Сикстусской улице к центру Львова, у недавно разминированного почтамта я услышал доносящееся откуда-то заунывное церковное пение.
Осенний ветер разгулялся над седыми холмами старинного города с такой силой, будто пытался раскачать его древние башни и колокольни. Be-тер рвал тугое полотнище алого знамени, недавно поднятого вновь на флагштоке городской Ратуши.
Я свернул направо и узкими улочками добрался до Академической аллеи, усаженной старыми тополями. И тут впервые увидел человека, который впоследствии помог мне приобщиться к весьма запутанной и трагической истории.
Худощавый, сгорбленный старик в летнем белом пыльнике, в надвинутой на лоб старомодной соломенной панаме с засаленной лентой медленно брел серединой Академической аллеи по направлению к оперному театру.
Ветер обрывал последнюю листву с оголенных тополей, швырял под ноги старику жесткие листья и гнал их к поблескивающему вдали памятнику Адаму Мицкевичу. Шагах в двадцати от старика ленивой походкой, то и дело заглядываясь на свежевыкрашенные вывески недавно открытых магазинов, шел коренастый человек средних лет в форме железнодорожника.
Казалось, ему не было никакого дела до бредущего впереди дряхлого старика. Однако острый, пристальный взгляд, брошенный железнодорожником на человека в белом пыльнике, заставил меня насторожиться. «Следит»,– подумал я.
Подходя к гостинице «Жорж», я увидел множество развевающихся по ветру хоругвей и опять отчетливо услышал церковное пение, то затихающее, когда переставал дуть ветер, то возникающее с новой силой, когда хоругви вздымались еще выше. Перед гостиницей на сравнительно широком тротуаре собралась толпа зевак.
Маленькая курносая регулировщица в кокетливо сдвинутой набекрень пилотке, лихо управлявшая уличным движением, вдруг изменилась в лице. Слегка ошеломленная, она строго подняла полосатую палочку и закрыла выезд машин и фаэтонов с Академической на Марьяцкую площадь.
К площади Бернардинов медленно приближалась похоронная процессия. Открытый гроб возвышался на большом черном катафалке. В нем лежал крупный мужчина в парадном церковном облачении. Белые хризантемы окружали умное, величавое лицо с окладистой белой бородой и руки, скрещенные на широкой груди усопшего.
За черным катафалком c гробом, окаймленным множеством венков, очень медленно шагали каноники, викарии, деканы в пелеринах и без них, церковные чины в фиолетовых камилавках, протопресвитеры в одеждах, соответствующих их сану.
Наверное, важного мертвеца везли хоронить на Лычаковское кладбище. Велико же было мое удивление, когда черный катафалк вдруг стал поворачивать налево, окружая петлей памятник Мицкевичу. Похоронная процессия собиралась вновь возвратиться по улице Коперника в нагорную часть Львова. Позже мне стало ясно, что это были не просто помпезные похороны, а тщательно подготовленная политическая демонстрация. Помощники и прислужники седовласого старца хотели показать населению освобожденного города, что для них с его смертью ничего не изменилось. Даже будучи мертвым, их патрон продолжает владеть умами и душами верующих.
Я напряженно следил, как похоронная процессия, подобно большой черной змее, постепенно окружала памятник Мицкевичу.
Среди монахов выделялся один молодой священник. Его цветущий вид никак не вязался с атмосферой смерти и тления. Значительно позже я узнал, какую роль играл при усопшем этот отец Роман Герета, и понял, сколь обманчива может быть внешность на первый взгляд кроткого священнослужителя.
А тогда, видя, как, потупив взгляд, скромный, благопристойный молодой человек лет двадцати восьми, в хорошо сшитой реверенде, явно скучая, движется за гробом в скопище церковников, я даже мысленно пожалел его и подумал: «И как это ты затесался среди такого старья? Сидеть бы тебе сейчас на студенческой скамье, скажем, в Политехническом институте, изучать сопротивление материалов, а в свободное время перебрасывать через сетку волейбольный мяч! Вместо же этого идешь в этой черной хламиде, такой смиренный, с этими катабасами, как твои земляки презрительно называют служителей церкви».
Тем временем катафалк остановился, и какой-то седобородый иерарх дал знак рукой идущим сзади, чтобы те подтянулись и выровняли ряды.
С не меньшим, чем я, любопытством наблюдали за перекрывшей им дорогу процессией солдаты и офицеры воинской части, следовавшей на фронт, добивать гитлеровцев между Вислой и Саном. Каждая минута в ту осень была для них дорога. Об их решительном маршруте говорили надписи на бортах грузовиков и закамуфлированных приземистых танках: «Добьем гада Гитлера!», «Вперед, на запад!», «Освободим народ братской Польши!» У гостиницы толпились пешеходы, задержанные похоронным шествием. Я оглянулся и увидел заинтересовавшего меня старика в белом пыльнике. Он пристально всматривался в процессию, словно отыскивал в ней знакомых.
Стоящая рядом девушка в дубленом полушубке я пестром платке спросила старика:
– Скажите, пожалуйста, кого это хоронят?
Старик в пыльнике внимательно посмотрел на девушку, будто изучая, можно ли ей доверять, и глухо отрезал:
– Убийцу хоронят!
За спиной старика внезапно возникло лицо человека в железнодорожной фуражке, которого я видел в Академической аллее. Он явно прислушивался к разговору.
– Убийцу? – удивленно переспросила девушка.
Старик в панаме внезапно побледнел, пошатнулся и,
схватившись рукой за сердце, стал клониться назад.
– Ему плохо! – вскрикнула девушка.
Я успел подхватить слабеющее тело, осторожно вывел старика из толпы за угол гостиницы и прислонил к стене.
Тотчас возле нас появился железнодорожник.
– Опять сердечный приступ! Я его знаю. То мой сосед. Позвольте, я отведу его домой,– вкрадчиво произнес он. В его голосе было что-то слишком приторное, услужливое. И он снова показался мне подозрительным. Может, не по себе делалось от его холодных, стального цвета, недобрых глаз?
– Его не домой нужно, а в больницу,– сказал я, оглядываясь.
Неподалеку на козлах допотопного фиакра дремал пожилой возница с усами и бакенбардами, отпущенными, очевидно, в подражание австрийскому императору Францу-Иосифу.
Осторожно подведя ослабевшего старика к извозчику, я сказал:
– Послушайте, пане! Человеку плохо. Давайте отвезем его в ближайшую больницу. Я заплачу вам.
– Прошу пана! – сразу стряхивая сон, отозвался возница и стал отвязывать вожжи.
Приподняв старика, я усадил его на лоснящееся сиденье, пропахшее лошадиным потом. Полуобняв его, уселся рядом. Извозчик дернул вожжи, и фиакр мягко покатился кривыми улочками.
После блокадной зимы в осажденном Ленинграде, когда сердце ослабело, я не расставался с валидолом. Сейчас он пригодился. Я почти насильно засунул таблетку валидола в холодеющие губы старика.
Лекарство подействовало быстро. Старик открыл глаза.
– Не надо, ради бога, в больницу,– прошептал он.– Хватит с меня этой больничной пытки. Везите домой, на Замарстиновскую...
Фиакр пересек улицу Коперника почти перед самым носом у черного катафалка в венках и пышных хризантемах.
– Вот виновник моего горя и несчастий! – сказал уже громче старик, показывая слабеющими пальцами на катафалк.– Но и его наказала карающая десница всевышнего правосудия...
За монастырской стеной
Мистикой повеяло от слов моего больного спутника. Не задавая лишних вопросов, я счел своим долгом проводить его домой, до постели. Пусть убедится в гуманизме людей, прибывших с востока. Пусть поймет, что мы отнюдь не «рогатые антихристы», какими долгие годы старалась представить нас буржуазная пропаганда, а затем гитлеровские захватчики. Кроме того, я был заинтригован словами: «Убийцу хоронят!», что обронил старик о важном мертвеце, так как мне в числе других членов Чрезвычайной государственной комиссии приходилось с первых дней появления во Львове расследовать гитлеровские преступления.
К моему удивлению, фиакр остановился не у жилого дома, а у монастырского здания, возвышавшегося на бугре и огороженного старинной крепостной стеной. Прикосновением пальца старик остановил возницу перед высокой колокольней странной, четырехугольной формы. С двух сторон ко входу в колокольню и еще выше, на погост, вели выщербленные от времени каменные ступеньки древней лестницы. Под нею, в нише, виднелось изображение коленопреклоненного святого – патрона церкви и здешнего монастыря, святого Онуфрия.
– За этой вот оградой похоронен много лет назад ваш земляк первопечатник Руси Иван Федоров,– сказал старик.– Прошу вас, коль вы были столь сострадательны ко мне, поднимитесь во двор и зайдите направо, в келью двадцать один. Там должен быть приютивший меня отец Касьян. Скажите ему, что я здесь, и попросите сойти. Если же его нет дома – поедем дальше.
Признаться, слово «отец» несколько меня насторожило. Когда же, найдя нужную келью, я застал в ней высокого священника в сутане и целлулоидном белом воротничке, моя настороженность усилилась еще больше.
«Вот те и на! – подумал я.– Решил помочь старому человеку, а попал в гнездо церковников!»
Отец Касьян принял меня очень любезно и, когда я объяснил ему, в чем дело, заторопился, сказал, чтобы я подождал, пока он приведет сюда отца Теодозия.
– Позвольте, но я не расплатился с извозчиком!
– Не беспокойтесь,– сказал священник.– Вы нам оказали неоценимую услугу.– И он вышел, оставив меня одного в келье с низкими сводчатыми потолками.
Отец Касьян говорил по-русски чисто, без всякого акцента, четко выговаривая слова. Это было большой редкостью в здешних краях, особенно среди служителей униатской церкви, к которым, судя по облачению, принадлежал и хозяин кельи.
Разглядывая ее неприхотливое убранство, я заметил на столике последние номера львовской газеты ««Вільна Україна»,—очевидно, обитатели кельи интересовались текущей политической жизнью.
Отец Касьян под руку ввел в келью пошатывающегося старика и сразу уложил на узкую коечку под окном. Потом принялся расшнуровывать его стоптанные, запыленные башмаки с тупыми старомодными носами.
– Вот спасибо, вот спасибо, отец Касьян,—тихо приговаривал старик.—Молодой человек проявил столько христианского милосердия – доставил меня сюда. Случись иное – больница бы меня убила. После всего, что пережито, я бы не выдержал!
Тем временем отец Касьян достал из шкафика, прибитого к стене кельи, лафитничек малинового стекла с гранеными боками, наполненный какой-то жидкостью.
– Чем хата богата, тем и рада.– Он придвинул мне рюмку и достал из шкафика блюдо с домашним печеньем.– Это наша, монастырская, настоянная на почках черной смородины. Не побрезгуйте! – И налил в рюмку темно-зеленую жидкость, от которой сразу распространился по келье запах весеннего сада.
– Спасибо, я не пью,– отказался было я.
– Да вы не бойтесь! Одна рюмочка не повредит.– Священник улыбнулся, налив свою рюмку, тут же пригубил ее, доказывая тем самым, что мне нечего опасаться его угощения.
Делать было нечего! Чтобы меня не заподозрили в трусости, я тоже отпил половину рюмки пахучей, слегка горьковатой настойки.
Легкий храп, донесшийся с койки, на которой лежал старик, заставил меня заторопиться.
– Теперь вы знаете, где мы живем. Милости просим, заходите в свободное время! – сказал отец Касьян и, поглядев на спящего, добавил: – Когда отцу Теодозию станет лучше, он сам расскажет вам историю своей жизни. Это очень поучительная и очень грустная история!
В Раве-Русской мы и впрямь обнаружили на окраине городка окруженный колючей проволокой лагерь для советских военнопленных, созданный здесь фашистами. После нападения гитлеровской Германии на Советский Союз в этом лагере за год было уничтожено больше восемнадцати тысяч советских солдат и командиров.
Пожилой крестьянин Василий Кочак тихим голосом, пугливо озираясь, рассказал:
– Я работал туточки, в цьому лагери, с декабря 1941 года до весны 1942 года. За это время немцы уничтожили и заморили голодом больше пятнадцати тысяч русских вояк .Их трупы отвезли на тракторных причепах у Волковыцкий лес. Я знаю место, где они зарыты...
– Знаешь, старина? – спросил председатель комиссии.– Тогда поехали с нами...
Страшное зрелище открылось нашим взглядам, когда солдаты расположенной неподалеку воинской части, сопровождавшие нас на грузовике, разрыли братскую безымянную могилу: люди в советской военной форме были вповалку набросаны один на другого. Их расстреливали по методу гитлеровцев – в затылок. Сотни и тысячи трупов наших людей. Вот он, фашизм!..
Потрясенные увиденным, мы молча возвращались в Раву-Русскую, как вдруг слева, поодаль, под лесочком я заметил маленькое, очень опрятное кладбище, огороженное стволами берез. У входа в него, как бы впаянный в лесной грунт, серел каменный алтарь с большим крестом.
Я тронул Кочака за плечо:
– Что это?
– Здесь французов похоронили. Тех, что полонили гитлеровцы.
Французы? Вот неожиданность. Я предложил завернуть к маленькому кладбищу.
На ровных могилках лежали каменные одинаковые подушечки с надписями. Я насчитал двадцать две подушечки и две насыпи без них.
– «Боне Рожер, родился в 1911 году. Годи Пьер, родился в 1915 году. Дастю Пьер. Леплей Жозеф, 30 лет. Самье Арман. Блонди Рожер, 29 лет. Посе Поль, 34 года. Гюйон Андре, 30 лет. Рейно Шарль, 29 лет. Витто Эужен, 34 года. Сирг Камиль. Бонуа Альфой. Котье Рожер...»– читал я своим спутникам фамилии, а про себя думал: «Какая судьба забросила этих сыновей Франции на украинскую землю? Какую тайну скрывает это чистенькое, уютное кладбище?»
Я предложил разрыть несколько могил, чтобы установить причины смерти французов. Но мои спутники запротестовали. Один из них так прямо и сказал:
– Да вы видели сейчас, как там, в Волковыцком лесу, зарыты наши люди, убитые выстрелами в затылок? Навалом! А эти похоронены культурно, даже алтарь каменный для богослужений есть...
И все же после моих настояний солдаты разрыли одну могилу, с большим трудом вытащили на поверхность деревянный, хорошо сохранившийся гроб. Тут я был посрамлен окончательно. Когда с треском раскрылась крышка гроба, мы увидели полуразложившегося мертвеца в полной военной форме французской армии. Пилотка, сдвинутая набекрень, наполовину прикрывала его оголенный череп. Мундир был цел, и на ногах сохранились даже шерстяные носки малинового цвета и крепкие солдатские ботинки. Нет, гитлеровцы не обряжали так в последний путь свои жертвы и не складывали им руки на животе!
Один из судебно-медицинских экспертов осмотрел останки француза и, стягивая резиновые перчатки, сказал:
– Вероятнее всего, инфекционное заболевание. Тиф или, скажем, дизентерия. Но его не убивали. Тем более – одет так парадно! Каков был смысл гестаповцам наряжать его под землю?
Всю дорогу мои спутники нет-нет да и подтрунивали над настойчивостью, с какой я просил их потревожить смертный покой Рожера Блонди. Ведь задержка у французского кладбища отняла у нас добрых два часа. Но меня, человека по природе упрямого и настойчивого, не покидала убежденность в том, что французское кладбище все же скрывает какую-то тайну.
«Обеды, как у мамы»
В ту последнюю военную осень во Львове было еще много буфетов и киосков, где торговали частники. Перед зданием городского Совета, там, где два каменных льва стерегут и поныне вход в бывшую ратушу, существовала крохотная столовая с вывеской: «Обеды как у мамы».
В длинной комнатке, уходящей в глубь старинного дома, стояло пять или шесть столиков. Содержательница столовой, почтенная седая пани Полубинская готовила за клеенчатой занавеской на газовых плитках еду. Помогала ей в этом дочь Данута – высокая, стройная брюнетка лет двадцати двух, в пестром платье, изящно облегающем ее фигуру. Всякий раз, посещая столовую «Обеды как у мамы», я любовался врожденной грацией панны Дануты, тем, как легко передвигается она между столиками, то и дело отбрасывая назад густые, вьющиеся волосы.
Поздоровавшись сегодня с пани Данутой, я заказал себе флячки—традиционное львовское блюдо из коровьих желудков, бокал пива и, глядя, как лавирует девушка между столиками, подумал о том, что она удивительно напоминает француженку. И меня осенило.
– Пани Данута,– спросил я, стараясь говорить поместному,– не знает ли пани, подчас оккупации во Львове были французы?
– Почему «были»? – ответила девушка, отбрасывая назад волосы.– Они и сейчас есть.
– Как сейчас? Где?
– В пансионате у мадам Вассо. Улица Кохановско-го, 36.
Мадам Ида Вассо-Том, как успела рассказать Данута,– жена погибшего во время оккупации хозяина мельницы Тома. Она проживает во Львове давно, по французскому паспорту. Одно время даже выполняла консульские поручения французского, а в годы оккупации– петэновского правительства. Сейчас мадам Вассо приютила у себя целую группу бывших французских военнопленных, которые иногда захаживают «на одно пивко» в заведение «Обеды как у мамы».
Первый раз я оставил недоеденным любимое блюдо и, попрощавшись с Данутой, быстро зашагал на улицу Кохановского.
Поднимаясь по скрипучей деревянной лестнице дома, заросшего диким виноградом, я услышал звуки гортанной французской речи. Они вырывались из полуоткрытой двери, на которой была привинчена позеленевшая от времени медная табличка с надписью: «Ида Вассо-Том».
Я потянул рукоятку звонка.
На пороге появилась седая женщина в старомодном платье, с зорким, прощупывающим взглядом,– такими обычно рисуют хозяек французских меблированных комнат или магазинов.
На ломаном французском языке я объяснил цель своего визита. Мадам расплылась в улыбке и попросила меня проследовать к ее «питомцам».
Большая, довольно мрачная комната, в которую меня ввели, производила странное впечатление. На стенах – ценные картины голландских, французских, австрийских и польских мастеров, а посредине комнаты – обеденный деревянный стол с посудой и недоеденной пищей в тарелках. Вокруг простые походные кровати. На них лежали, задрав ноги, и сидели, разговаривая, несколько человек: одни —в пятнистых немецких камуфлированных накидках, другие – во французской, уже изрядно потертой и местами залатанной форме, третьи – в одежде польского покроя. Мы быстро перезнакомились, и тут же я пообещал мадам Вассо похлопотать, чтобы ее питомцам были выданы продовольственные карточки в городском распредбюро. Откровенничать при мадам Вассо не хотелось, и я пригласил двух французов выйти на улицу и погулять со мною. Данута ведь упомянула о связях хозяйки пансионата с профашистским правительством Петэна!
Мы пошли втроем улицами осеннего Львова: худощавый лейтенант иностранного легиона Эмиль Леже, в короткой спортивной куртке, лыжной шапочке и в сапогах «англиках» с высокими задниками, лысоватый Жорж Ле Фуль и я. Осторожными, наводящими вопросами я пробовал узнать, как они сюда попали, прикоснуться к тайне их военной службы.
Впрочем, надобности в такой осторожности вовсе не было. Когда я спросил Жоржа Ле Фуля, не знаком ли ему лагерь в Раве-Русской, он оживился и, жестикулируя, выпалил:
– Ну как же! Как же! Дьявольский лагерь! Нас доставили туда ночью из Франции после тяжелых пяти суток пути в закрытых свиных вагонах. Из вагонов нас вытягивали, так мы ослабли. Немецкий унтер-офицер крикнул нам: «Вот вы и приехали в страну солнца!» Боже, какой ужас этот лагерь! Позже немец-адъютант, уроженец Страсбурга, хорошо говоривший по-французски, признался нам, что в лагере уже умерло от одного только тифа более трех тысяч русских. «Мы зарываем их тут же, на территории лагеря. Случается, что среди них бывают и живые. Все равно их бросают в ямы и засыпают негашеной известью, от которой они задыхаются»,– рассказывал немец. Еженедельно в лагерь привозили по тысяче французов, которые не хотели работать в Германии...
– В лагере был только один водопроводный кран на двенадцать тысяч человек,– вмешался в разговор Эмиль Леже.– Пользоваться им разрешали только четыре часа в день. Немецкая охрана избивала нас. Мы голодали. По утрам, во время переклички, мы едва стояли на ногах. В день нам давали двести граммов хлеба, по утрам – горячую воду с сосновыми иглами и пол-литра бурды.
которую никак нельзя было назвать супом. Спали мы на полу. Блохи, вши...
– Ну, хорошо,– прервал я Эмиля Леже, решив действовать в открытую.– Как же совместить то, что вы рассказываете, с хорошо оборудованным кладбищем для французов под лесом? Неужели немцы лучше заботились о мертвых, чем о живых?
– Кладбище под лесом?! – оживленно воскликнул Жорж Ле Фуль и захохотал, хотя момент для этого был явно неподходящий.– Так ведь это геббельсовская липа чистой воды...
– Да погоди, Жорж,– резко остановил товарища Леже.– Нашел над чем смеяться! Давай объясним толком русскому писателю, как было дело. Понимаете ли, в печать нейтральных стран и в британское радио стали просачиваться вести о нашей жизни в этой «стране солнца». Комиссия Международного Красного Креста в Гааге решила проверить на месте, верны ли рассказы об этих ужасах. Вот тогда-то гитлеровский министр пропаганды Геббельс дал команду спешно соорудить в Раве-Русской образцово-показательное кладбище. Пока его готовили, пока каменотесы сооружали алтарь из гранита, наших покойников обряжали для этого фарса. Самолетами из Франции привезли для них специальную новую форму из интендантских запасов на тот случай, если комиссия потребует сделать эксгумацию. И надо вам сказать, что элегантное кладбище отвело глаза комиссии от тех ужасов, которые мы, живые, ежедневно переживали в лагере. И если даже вас, советского человека, вид кладбища ввел в заблуждение...
Уловив упрек в словах Эмиля Леже, я спросил:
– Но как же все-таки вам удалось вырваться из этого ада?
– О, это уже совсем другая история. Нас впоследствии перевели сюда, в Цитадель. Вы знаете, что такое Цитадель?
Да, я уже знал Цитадель, страшный лагерь смерти, сооруженный в самом центре Львова, рядом с Главным почтамтом, на горе Вроновских, в бастионах, построенных в середине прошлого века по приказу австрийского императора. На всю жизнь останутся в моей памяти надписи, обнаруженные нами на закоптелых стенах бастионных подвалов: «Тут умирали от голода русские военнопленные тысячами», «Доблестная русская армия, вас ожидает с нетерпением не только народ, но и военнопленные, обреченные на смерть. Как тяжело умирать!»...
– Я хорошо знаю, что такое Цитадель,– ответил я Эмилю Леже.– Но ведь оттуда вырваться было еще труднее!
– Нам никогда бы не удалось сделать это, если бы не помощь извне. Мы убежали оттуда ночью двадцатого марта. Триста человек убежало!
– Триста человек! – воскликнул я.– Ведь это большой побег! Какая же организация помогла вам?
– Мы думали тогда, что нам помог всего один человек,– сказал Леже, и его серые глаза заблестели.– Девушка. Милая девушка. Монахиня. Даже если нет на свете бога, каждый из нас будет молиться за нее всю жизнь, как за святую...
– Монахиня? Какая монахиня? – удивился я.– А где она сейчас? Расскажите-ка мне о ней подробно!
Сверх ожидания, Леже сразу нахмурился и, переглянувшись со своим соотечественником, замолчал.
Я выжидающе смотрел на него.
После некоторого колебания Леже оглянулся и, переходя на полушепот, сказал:
– Камрад писатель, поймите меня правильно. Я не трус. Я прошел трудную службу в иностранном легионе в Северной Африке, видел, как ночью снимали с постов моих друзей. Я пережил гитлеровский плен. Сейчас я хочу спокойно ехать с моей Зорой и ребенком до Одессы, сесть на пароход и добраться до Марселя, чтобы снова увидеть мою родину. Гитлеровцев отсюда вы выгнали, но их пособники гитлерчуки остались. Да, да! Осталась такая же «пятая колонна», что предала республиканскую Испанию. У них везде уши. И если они узнают, что я рассказал вам правду о нашей спасительнице, меня ждет пуля или нож даже в убежище мадам Вассо, которой, по правде сказать, я не очень доверяю. Увольте меня от этого рассказа. Пусть вам расскажет об этой истории кто-либо другой, переживший меньше, чем я... Пардон, товарищ камрад...
Настаивать я не имел права: как-никак Эмиль Леже был иностранцем. И тотчас же, по непонятной мне ассоциации, вспомнил встречу с двумя священниками за стенами древнего Онуфриевского монастыря, где некогда печатал свои первые работы «друкарь книг пред тем невиданных», русский умелец Иван Федоров...
Монахиня? А не ведает ли об этом отец Касьян? Или отец Теодозий?
...Утром следующего дня по дороге в Онуфриевский монастырь я неожиданно встретил молодого судебно-медицинского эксперта Николая Герасимова, который ездил с нами в Раву-Русскую.
Он взял меня под руку и, шагая рядом, тихо сказал:
– Оказывается, вы, голубчик, были правы, когда настаивали повнимательней изучить происхождение французского кладбища. Я только что из прокуратуры. Туда звонили из Равы-Русской. Нашей вчерашней работой очень заинтересовались враги. Ночью все могильные каменные плиты сняли бандеровцы из куреня «Вороного» и на подводах увезли их в сторону Гребенной, к польской границе. Когда об этом узнал командир Рава-Русского пограничного отряда полковник Сурженко, то послал в погоню за бандой тревожную группу. Удалось захватить нескольких бандитов. Другие удрали в Польшу, или, как они называют ее, в «Закерзонский край». Один из задержанных рассказал, что в банде были два офицера немецкой разведки, которых сбросили на парашютах с гитлеровских самолетов. Очевидно, по их указанию были сняты каменные плиты с могил. Тут какая-то тайна...
– Я уже почти знаю эту тайну,– сказал я эксперту.—И напрасно вы подтрунивали надо мной, когда я записал все, что было высечено на плитах. Можно разбить или утопить надгробия в каком-нибудь лесном озере, но нельзя усыпить человеческую память. Мы занесем эти надписи в акт Чрезвычайной комиссии.
Получаю тетрадь
Когда я вошел в знакомую монастырскую келью, отец Теодозий сидел в удобном старомодном кресле и, как это ни странно, читал «Правду».
Я поздоровался со стариком, осведомился о его здоровье и, получив приглашение садиться, с места в карьер
спросил, не слышал ли он о– монахине, которая помогла бежать из Цитадели большой группе военнопленных.
Старик сразу изменился в лице. Газета с легким шорохом выпала у него из рук и, опустившись на пол, накрыла стоптанные ночные туфли священника.
Помолчав, он тяжело вздохнул:
– Эта монахиня была моей дочерью...– И зарыдал тяжко, глухо.
А я сидел перед ним, совершенно ошеломленный.
Отец Теодозий встал, подошел к шкафику и, открыв его, достал с полки тетрадь в коричневом гранитолевом переплете. Он протянул ее мне со словами:
– Извините, рассказывать об этом сам не могу. Трудно. Это еще так близко! Я доверил все, что знаю, бумаге. Возьмите и прочтите на досуге. Вы ведь человек с востока и куда лучше многих местных поймете меня.
...Страницы тетради заштатного священника отца Теодозия Ставничего познакомили меня с трагедией тех оккупационных времен, когда героизм и человеческое благородство уживались с торжествующей подлостью и предательством. Однако отцу Теодозию было известно далеко не все имеющее отношение к западне, в которую заманили его дочь. Много новых деталей я узнал, уже работая в архивах, беседуя с бывшими узниками Львовской Цитадели и работниками органов безопасности.
Еще одно странное стечение обстоятельств помогло мне разгадать тайну гибели дочери отца Теодозия.
Война уже окончилась, но на территории западных областей Украины еще существовало несколько лагерей для немецких военнопленных. Бывшие солдаты и офицеры гитлеровской армии, а быть может, и замаскированные эсэсовцы, теперь стали смирными, покорными. Они разбирали руины и строили новые дома, возводили мосты и выравнивали аэродромы, поврежденные бомбежками, прокладывали дороги,– короче говоря, своими руками исправляли и восстанавливали то, что сами же разрушили.
Допрос Питера Крауза
Как-то мне позвонил начальник одного из таких лагерей и попросил – не смог бы я прочесть для оперативного состава лагеря лекцию на тему «Гитлеровцы в Западной Украине».
Я, конечно, охотно рассказал офицерам-чекистам о немецких злодеяниях.
Несколько дней спустя начальник лагеря снова позвонил мне:
– Любезность за любезность. Вы нам прочли лекцию, а мы можем предоставить вам возможность побеседовать с гестаповцем, выявленным чекистами среди рядовых солдат вермахта. Очень крупная птица! В 1937 году его принимал сам Адольф Гитлер. Этого типа помогли нам обнаружить немецкие антифашисты. Вчера его судили. Он получил двадцать пять лет, и, пока мы его не отправили после приговора в места не столь отдаленные, вы можете поговорить с ним. Есть у вас время и желание?
Еще бы! Не каждому литератору, даже в дни войны, выпадала такая удача!
На попутных машинах и трамвае примчался я в здание тогдашней Замарстиновской тюрьмы (теперь в ней располагается обычная городская больница, а тюрьма давно прекратила свое существование) и вместе с переводчиком вошел в следственную комнату. Там я и провел все воскресенье.
...По моим представлениям, бывший начальник гестапо Гамбурга, крупнейшей гавани Германии, города с миллионным населением, а затем начальник гестапо Львова должен был бы выглядеть весьма внушительно.
Когда же два конвоира ввели невзрачного, средних лет человечка в потертом солдатском мундире, в стоптанных сапогах немецкого покроя, лысоватого, с лицом, ничем не запоминающимся, я, по правде сказать, решил, что произошла досадная ошибка. Этот щелкает каблуками, благодарит меня, когда приглашаю его садиться. Но когда он охотно рекомендуется: «Питер Христиан Крауз»,– я понимаю, что ошибки нет. Да, передо мной тот самый Питер Христиан Крауз, который пытался настигнуть советского разведчика Николая Кузнецова и потерпел поражение в схватке с ним.
Мое преимущество перед Краузом заключалось в том, что он не знал, кто я такой, я же отлично был осведомлен, с какой обезвреженной змеей имею дело. По-видимому, Крауз принял меня за работника прокуратуры, призванного пересмотреть его дело и, может быть, сбавить срок заключения.
Рассчитывая снискать мое расположение, он был весьма откровенен, сыпал именами подчиненных ему гестаповцев; сообщая их бывшие адреса во Львове, рассказывал, откуда они родом, каковы их приметы и привычки, какую агентуру они оставили в городе.