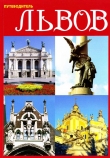Текст книги "Формула яда"
Автор книги: Владимир Беляев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
Преступление продолжается.Памфлет
В шестнадцать часов 8 октября 1949 года на людной Академической аллее Львова вблизи кинотеатра «Щорс» состоялась встреча двух молодых людей, до этого не видевших и не знавших друг друга Их фамилии, место жительства, профессии были тщательно законспирированы.
Худощавый брюнет с волнистыми волосами и сжатыми узкими губами, первым явившийся в условленное место, носил кличку «Славко». Из карманчика его серого пиджака торчал сухой желтый цветок. Это был опознавательный знак. У подошедшего к нему блондина по кличке «Ромко» в руках был свежий номер журнала «Новое время».
Не отрывая глаз от цветка и помахивая журналом, Ромко осторожно спросил:
– Который час?
– Без пятнадцати четыре,– ответил Славко.
– Пойдем в кино?
– Нет денег! – отрезал брюнет и, согласно инструкции своих руководителей – «провидныков», предложил Ромко следовать за ним.
Вскоре они оказались в Стрыйском парке, одном из лучших в Европе. В этот предвечерний час здесь гуляли матери с детьми, старые и молодые львовяне. Они прохаживались по аллеям, подолгу стояли у озера, по которому, изогнув шеи, плавали лебеди. Тихо и очень мирно было в парке в этот день золотой львовской осени. И никто из посетителей не мог предположить, что именно сейчас на одной из укромных аллей начинает осуществляться план задуманного значительно раньше убийства человека, который стремится делать людям только добро, выводит их к свету, который очень любит жизнь.
Когда в первый послевоенный год какие-то хулиганы срубили два дерева в Стрыйском парке, человек, которого замышляли сейчас убить, поднял на ноги горсовет, всю общественность Львова, писал об этих двух деревьях в газету, писал так, будто речь шла о жизни людей, а не буков и кленов: он всегда заглядывал в будущее и хотел сделать жизнь своих современников, переживших тяжелейшую из войн, радостной и прекрасной...
– Провиднык велел убивать тебе,– оглянувшись по сторонам, зашептал Славко,– а я буду заговаривать зубы...
– Знаю,– глухо подтвердил Ромко,– Буй Тур тоже самое сказал... Вот этим, чтоб шуму не было.– И, расстегнув пиджак, показал засунутый за пояс гуцульский топорик с блестящим лезвием.– А эти штуки возьми. На всякий случай!
Он передал своему чернявому напарнику пистолет, или, как его называли в этих краях, «сплюв», и темную гранату-лимонку. Другой пистолет и еще одну гранату Ромко, как велели ему главари, оставил у себя.
Затем они поднялись по крутой тропинке из парка на взгорье, пересекли линию детской железной дороги и, свернув на Стрыйское шоссе, стали спускаться по Гвардейской.
По тому, как уверенно вел сообщника Славко, нетрудно было догадаться, что ему хорошо знаком маршрут. Но Ромко ни о чем не спрашивал: конспирация исключала любопытство. Войдя во двор высокого каменного дома, Славко, не глядя на номера квартир, стал быстро подниматься по лестнице, так что его спутник с топориком за поясом едва поспевал за ним.
На четвертом этаже у квартиры номер десять Славко задержался и прислушался. Чуть слышно прозвенел за дверью телефонный звонок. Славко прижался ухом к двери. Послышался женский голос.
– Его еще нема,– шепнул Славко,– давай погуляем!
Бродили они добрых полчаса, прошли по улице Боя-Желенского к бывшей Бурсе Абрагамовичей, откуда гитлеровцы по составленным заранее украинскими националистами «черным спискам» выводили на расстрел в ночь с 3-го на 4 июля 1941 года большую группу львовской интеллигенции, и затем вернулись на Гвардейскую.
Славко решительно позвонил. Дверь открыла низенькая, полнолицая домашняя работница.
– Писатель дома?
– Еще немае, но скоро будет. Заходьте!..
Оба вошли в прихожую и присели на стулья. Вскоре раздался звонок, и в квартире появилась русоволосая женщина – жена писателя Мария Александровна.
– А, это вы! – сказала она, обращаясь к молодому человеку по кличке «Славко», как к знакомому.– Чего же вы тут сидите? – И, гостеприимно открыв дверь, пригласила их в столовую.
Ромко зашел вторым и, заглянув в соседний кабинет, вздрогнул от неожиданности: перед натянутым, испещренным красками холстом сидел, углубившись в свою работу, какой-то человек. Довольно быстро сообразив, что это художник и пишет он портрет хозяина квартиры, Ромко несколько успокоился, но, как выяснилось значительно позднее, подумал: «Значит, убивать будем большого человека, раз портреты его рисуют...»
В это время без звонка раскрылась наружная дверь и в комнату вошел сам хозяин – невысокий, но крепко сложенный, с копной густых, льняного цвета волос на крупной, красиво посаженной голове. На поводке он вел черно-белую, добродушную на вид карпатскую овчарку.
– Добрый вечер! – поздоровался он со Славко.– Что-нибудь снова случилось?
– Так, це я,– поспешно ответил Славко.– А это мой коллега, тоже студент. Придирается, пане письменник, ко мне директор института Третьяков за то, что я тогда пожаловался вам на него...
– Как так придирается?
– Ну, подколы ведет всякие... Боюсь, как бы он не отчислил меня вовсе. Нельзя ли на него управу найти?
– Что же я сделаю? – сказал писатель.– Я вступился однажды за вас, а выяснилось, что вы все очень преувеличили... Я посоветовал бы вам обратиться прямо в облисполком, к его председателю Стефанику...
Он отстегнул поводок овчарки.
Собака, разъезжаясь на лапах по скользкому, хорошо натертому паркету, подбежала к сидевшему в кресле Ромко и принялась обнюхивать его карман, в котором лежал пистолет.
Ромко отшатнулся к спинке кресла.
– Это добрый пес,– улыбнулась Мария Александровна.– Он только не любит тех, у кого оружие.
– Прошу, пани, уведите собаку!
Пока хозяйка уводила овчарку на кухню» Славко попросил:
– А вы, пане письменник, напишите про нашего директора в журнал «Перець». Он тогда не будет накладывать на нас взыскания.
– Не буду я писать в «Перець». Слишком мелкое это дело для журнала...
– Но если вы напишете в «Перець», он будет лучше относиться к нам, студентам,– продолжал канючить Славко и подмигнул напарнику. Но тот отрицательно покачал головой.
– Извините, хлопцы, в «Перець» я все-таки писать не буду. Меня ждет художник. Мария, напои хлопцев чаем, а я пойду...
Мария Александровна принесла чай и печенье, присела к столу, принялась гостеприимно угощать молодых людей. Еще недавно она сама была студенткой одного из художественных институтов Москвы и понимала, что значит жить на стипендию. Если бы только она знала, кого угощает!
Перед тем как попрощаться, Ромко зашел в кабинет писателя, остановился за спиной художника и, наблюдая за тем, как тот работает кистью, поглядывая на выразительное, умное и слегка грустное, может быть, от какого-то неясного предчувствия, лицо хозяина квартиры, воскликнул с деланным удивлением:
– Дывись, як малюе! Я еще николы не бачил...
А на улице, когда они шли вниз по Гвардейской к трамвайному парку, настороженно посматривая на серое здание управления Министерства государственной безопасности, Славко зло процедил сквозь зубы:
– Что, сдрейфил?
– Видишь, людей сколько? Другим разом...
Так в тот день избежал уготованной ему смерти выдающийся украинский писатель-коммунист, испытанный борец за народное дело Ярослав Александрович Галан.
Он родился в 1902 году в маленьком местечке Дынов, над Саном, близ древнего Перемышля, города-крепости, вошедшего в историю первой мировой войны.
Как только вспыхнула война, австрийская контрразведка наставила вдоль дорог Галиции тысячи виселиц. Нагайки гонведов и австрийских жандармов рассекали сорочки на спинах украинских крестьян и ремесленников, заподозренных в симпатиях к России, к русскому народу.
За русофильство был брошен в концентрационный лагерь Талергоф и отец Ярослава Галана – мелкий служащий из Перемышля. Опасаясь дальнейших преследований, семья Галана с помощью русской военной администрации эвакуируется в 1915 году в Россию, в Ростов-на-Дону. Это первое дальнее путешествие Ярослава сыграло огромную роль в его жизни, как бы заложило фундамент его мировосприятия. Живя в Ростове-на-Дону до 1918 года, юный гимназист видит рождение советской власти, наблюдает размах революционных событий. Он дружит с русскими, армянскими, еврейскими ребятами и уже в юности душой постигает великое благородство интернациональной дружбы.
Но вскоре семье Галана пришлось вернуться в Галицию, захваченную правительством буржуазной Польши после распада Австро-Венгерской империи. Здесь вплоть до осени 1939 года, когда Красная Армия перешла Збруч, бушевал разнузданный национализм, всячески разжигавшийся и властями панской Польши и зарубежной буржуазией, крайне заинтересованной в том, чтобы не допустить создания единого фронта трудящихся разных национальностей в районах, пограничных с Советским Союзом.
Этому разъединению трудящихся изо всех сил способствовали не только такие профашистские организации, как ОУН – «Организация украинских националистов», но прежде всего греко-католическая, или, как ее было принято называть, униатская церковь. У нее-то, у этой церкви, реформированной иезуитами в конце прошлого века, учились вожаки ОУН изощренному двурушничеству, тщательной конспирации, неутолимой ненависти ко всему прогрессивному. История убийства Ярослава Галана, многие подробности которой стало возможным опубликовать только в последнее время, раскрывает кулисы того подлого мира, в единоборство с которым смело вступил писатель.
Кличка «Славко» была присвоена националистическим подпольем сыну униатского священника, бывшему воспитаннику Львовской духовной семинарии Илларию Лукашевичу. Еще в 1944 году Илларий, которому тогда было всего пятнадцать лет, повстречал ярого националиста Ивана Гринчишина. Тот стал снабжать Иллария «подходящей» литературой, настраивать его против советской власти. Гринчишин был уверен, что молодой попович его не выдаст, он знал Лукашевича-старшего – «пан отца» Дениса, который ненавидел всех, кто боролся с униатским мракобесием, стремившимся оторвать Украину от союза с Россией. И вот в семнадцать лет Илларий, на вид такой кроткий, смиренный, что, как говорят в народе, хоть к ранам прикладывай, вступает в «Организацию украинских националистов». Гринчишин организует ему встречу с «провидныком» ОУН, тоже сыном греко-католического священника, Романом Щепанским, по кличке «Буй Тур».
По заданию националистического подполья Илларий распространяет антисоветские листовки, призывающие население сорвать выборы в Верховный Совет СССР. Осенью 1947 года он поступает во Львовский сельскохозяйственный институт и получает от Щепанского задание: собрать нужные сведения о профессорско-преподавательском составе и студентах. Делается это, конечно, неспроста и отнюдь не по наитию террориста Щепанского.
Захватив у гитлеровского абвера – немецкой военной разведки – и у гестапо списки секретных агентов из «Организации украинских националистов», Центральное разведывательное управление США и британская Интеллидженс сервис без особого труда перевербовывают этих «гитлерчуков», как окрестили их прогрессивные украинцы Канады, и заставляют работать в свою пользу. В Мюнхене и Зальцбурге, в Париже и Вене создаются существующие и поныне украинские националистические центры. Часть бывших коллаборационистов, называвших себя «скитальцами» и «перемещенными лицами», при поддержке американцев и англичан стала во главе так называемых лагерей для «перемещенных лиц». Один из советских офицеров, работавших по репатриации советских граждан, А. Брюханов в своей книге «Вот как это было» свидетельствует:
«Комендант украинского лагеря «Табор Лысенко» Горан в период оккупации фашистами Харькова занимал пост бургомистра. Руки этого мерзавца обагрены кровью советских граждан, замученных фашистами при его непосредственном содействии.
Комендант лагеря «Везерфлюг» в городе Дельменхорс Степан Беляк – в прошлом гестаповец и бургомистр одного из районов города Львова (и, кстати сказать, в период фашистской оккупации – личный друг и соратник Романа Щепанского.– В. Б.).
Комендант украинского лагеря «Биллифельд» Василюк– предатель и палач советского народа с многолетним стажем. В 1919 году он бежал с Украины и с тех пор – в услужении у врагов советской власти. До того, как продался Интеллидженс сервис, служил в гестапо.
В лагере «Мюнстер» комендантом был некто Бреневский, а начальником полиции—Мотрич. Кто же эти люди, облеченные доверием английских властей? Бреневский служил в дивизии СС пропагандистом, а Мотрич при фашистах занимал должность начальника полиции в Тернополе. Нужно ли удивляться, что в лагере «Мюнстер» избивали и убивали «перемещенных», имевших неосторожность объявить о своем намерении вернуться в отчие края?!»
Когда редакция газеты «Радянська Украина» командировала Ярослава Галана специальным корреспондентом на Нюрнбергский процесс, он все дни, свободные от судебных заседаний, проводил в разъездах, изучая места сосредоточения украинской националистической эмиграции, в том числе и лагеря для «перемещенных лиц». Буквально рискуя жизнью, он пробирался в волчьи логова матерых националистов, вел с ними беседы, запоминал их имена, чтобы потом разоблачить в своих памфлетах, в пьесе «Под золотым орлом», отлично показавшей борьбу за души «перемещенных лиц» в послевоенной Европе.
Эта деятельность Галана не прошла не замеченной националистическими центрами, особенно мюнхенским центром так называемых «закордонных частей ОУН», связанных с бандитским подпольем, оставленным в Западной Украине. Некоторые из разоблаченных Галаном украинских националистов вынуждены были бежать за океан – в Канаду и в Соединенные Штаты Америки,– где их поджидали единомышленники, те самые, что уже с конца двадцатых годов финансировали действующего в Европе «вождя ОУН» полковника Евгена Коновальца. И уже тогда, в первые послевоенные годы, в кабаках Мюнхена созревает преступный замысел: Ярослав Галан во что бы то ни стало должен быть уничтожен!
Итак, Славко – Илларий Лукашевич – ведет глубокую политическую разведку в своем институте. Он собирает сведения о национальном составе, партийности преподавателей и студентов, изучает, где они бывают в свободное время, чем интересуются, каким слабостям подвержены. Собранные данные он передает лично Роману Щепанскому, с которым встречается в доме националистки Спивак в селе Сороки Львовские, где приход грекокатолической церкви возглавлял «пан отец» Денис Лукашевич.
– В общей сложности,– как признался впоследствии убийца,– мною были переданы в бандитское подполье сведения на пятьдесят – шестьдесят профессоров, преподавателей и студентов института. Я собирал эти сведения путем личных наблюдений, разговоров со студентами, чтения газет, в том числе и стенных, различных объявлений.
Щепанский и другие вожаки антисоветского подполья, что укрываются в лесных бункерах, хвалят молодого поповича. Сведения, добытые им, уйдут по конспиративной линии связи вверх, доберутся до Мюнхена, а там Степан Бандера, Лев Ребет, Ярослав Стецько-Карбович и другие руководители ОУН получат за них доллары от своих работодателей из Центрального разведывательного управления США и западногерманской шпионской службы генерала Гелена. Илларий Лукашевич получает новое задание.
Глубокой ночью, когда пустеют улицы старинного Львова, он крадучись, чтобы не заметил дворник, выходит из своей квартиры на Ризьбярской, держа за пазухой бумажный сверток. Только в январе – феврале 1948 года он разбросал двадцать листовок на улицах Львова, площади святого Юра, около Стрыйского парка. Листовки должны были создать видимость, что в городе существует большая, хорошо законспирированная подпольная организация. На деле же вся эта грязная стряпня сочинялась и печаталась далеко-далеко за городской чертой, -в глубоких, затерянных в лесах, вонючих тайных «схронах».
Разбросанные листовки не производят впечатления. Люди подбирают их по утрам, идя на работу, и либо сдают в милицию, в органы государственной безопасности, либо просто бросают в мусорные ящики.
Тогда, по совету Щепанского, Илларий выписывает домашние адреса наиболее активных студентов, преподавателей, партийных работников института и рассылает им в закрытых конвертах подметные письма, полные угроз. В них подполье требует, чтобы адресаты прекратили общественную работу, не вступали в комсомол, не поддерживали начинаний партии и органов советской власти по превращению Львова в крупный индустриальный и культурный центр Украины. В противном случае– смерть!
Такие письма систематически получал парторг Сельскохозяйственного института Пугачев, студенты Калнтовский и Беглай.
У Иллария было два брата—Александр, студент Медицинского института, и Мирон, исключенный за неуспеваемость из Сельскохозяйственного института. Они тоже были связаны с бандитским подпольем. Еще в феврале 1949 года Иван Гринчишин и некий «Довбуш» дают задание Мирону вызвать из Львова Иллария. Тот приезжает. В присутствии Мирона оба бандитских вожака поручают Илларию собрать подробные сведения о Ярославе Галане.
Для начала Илларий обращается к давней приятельнице их семьи, литератору Ольге Дучиминской, расспрашивает ее, как живет Галан, каковы его привычки, получает номер телефона писателя. Именно от Дучиминской он узнает, что Ярослав Галан по натуре человек добрый, отзывчивый, любит помогать людям, что к нему, как депутату городского Совета, обращаются многие. И тогда в голове обученного иезуитами поповича постепенно созревает план.
В первой половине августа 1949 года Илларий посещает квартиру Ярослава Галана, но хозяина не застает: Галан уехал в Закарпатье. Побеседовав с женой писателя и домашней работницей Евстафией Довгун, Лукашевич ушел.
В конце августа, смиренный, предельно вежливый, с опечаленным лицом, Илларий снова появляется в квартире дома на Гвардейской. Ярослав Галан уже вернулся из своей поездки. Илларий знакомится с ним и говорит:
– Я слышал, вы добрый, пане письменник, помогаете всем, кто попал в беду. Наш лесохозяйственный факультет, где я учусь, закрывают, а на его базе собираются создать лесомелиоративный факультет. Мы, студенты, очень огорчены. Мы никогда не собирались стать мелиораторами. Все наши хлопцы рвутся перейти в Лесотехнический институт, тот, что на Пушкинской, но директор наш, Третьяков, никого отпускать не хочет. Уперся – и все. Помогите нам, товарищ письменник, вы ведь знаете, что такое призвание! Третьяков вас послушает:..
Ни сам Галан, ни его близкие не подозревали, конечно, что просьба эта придумана в бандитском подполье как предлог проникнуть в дом писателя.
Иллария приглашают к столу, поят кофе. Галан обещает студенту сделать для него все, что возможно.
Назавтра они встречаются у здания Львовского областного комитета партии на Советской улице. Чтобы не тратить времени на получение пропуска для Лукашевича, Галан просит студента подождать, а сам заходит в здание обкома. Пока он там разговаривает, Лукашевич терпеливо сидит на скамеечке под еще зелеными каштанами.
Вскоре появляется Галан. Улыбаясь, идет он навстречу поднявшемуся студенту и еще на ходу объявляет:
– Все в порядке, друже! Вас кто-то понапрасну напугал. Будете и дальше учиться. Был, правда, такой план реорганизации, но с ним не согласились.
– Боже, як я вам вдячный! – едва не плача от радости, говорит студент, пожимая крепкую руку Галана. Кажется, еще секунда – и он поцелует ее, как совсем недавно было принято в этих краях.– Не знаю, как мне отблагодарить вас! В следующий раз я вам сотового меду принесу. В нашем селе, в Сороках Львовских, у одного знакомого своя пасека и прекрасный липовый мед...
– Никакого меда мне не надо! – обрывает Иллария писатель.– Принесете меду – я вас и на порог не пущу. Это моя обязанность помогать вам, неужели вы не понимаете?
– Прощу прощения,– извиняется Илларий.– Вы такой хороший человек!.. Правду мне люди говорили... Побегу теперь до своих хлопцев, порадую их.
Вскоре после того в жизни Галана произошел случай, обстоятельства которого не выяснены до сих пор.
Однажды под вечер Галан вышел погулять со своей собакой на взгорье Стрыйского парка. Это взгорье, спускающееся к улице Дзержинского, тогда уже было отведено под будущий парк культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого. Кое-где в местах, свободных от деревьев, шли земляные работы. Когда Галан приблизился к одной из траншей, оттуда послышались выстрелы и несколько пуль просвистело над его головой. Пес заскулил, прижался к земле и сильным рывком потянул Галана в сторону.
Уже когда совсем стемнело, Ярослав Александрович позвонил мне и рассказал о случившемся.
– Надо немедленно заявить! – сказал я.
Помолчав немного, Галан ответил:
– Только прошу вас, не говорите об этом Марийке! Ей и так не по себе от всяких телефонных звонков с угрозами от неизвестных лиц. Я сам разберусь... А может, это стреляли из Цитадели? Там ведь есть тир. Быть может, кто-нибудь пустил пули «за молоком»?..
Стреляли, конечно, не из Цитадели: просто Ярослав Александрович старался не говорить об опасности. Она постоянно подстерегала его с тех пор, как писатель вернулся летом 1944 года на родную землю, на которой еще были свежи следы фашистского сапога, и сразу включился в идейную борьбу против скрытых врагов советского строя. Он стал мишенью для вражеских пуль, адресатом анонимных писем, объектом провокаций. Человек гордый, мужественный и в то же время застенчивый, легко ранимый, он боялся не столько врагов, сколько мелких завистников, подлых, бесталанных людишек, которые могли бы эти сведения об опасности, грозившей Галану, обратить против него, распустив слухи, что он занимается саморекламой.
Галан был подлинным пролетарским интернационалистом. Вскоре после войны я был у него на Гвардейской. Во время нашего разговора Галан снял с книжной полки номер уже забытого теперь журнала «Украинская жизнь» за октябрь 1912 года и прочел вслух:
– «Единство только тогда является принципом красоты и высокой организации, когда оно охватывает своими гибкими рамками возможно более богатое многообразие. Многообразие национальное есть, думается, великое наследие человеческое, которое, надо надеяться, сохранится и даст еще недоступные нам наслаждения подъема жизни.
Но и социалисты, стоящие на такой или приблизительно такой точке зрения, отнюдь не могут мириться с о всяким национализмом. Уж нечего и говорить о национализме насильническом, вгоняющем личность палкой в «народность». Однако и национализм угнетенных народов часто имеет весьма неприятный привкус исключительности и презрительной враждебности ко всему окружающему. Если мы вдумаемся в причины столь мощно развертывающегося повсюду на наших глазах национализма угнетенных народов, мы легко усмотрим, что движение это чревато опасностями».
Галан обернулся ко мне:
– Не правда ли, как верно все это сказано, будто о нынешних днях? Какая широта мышления! Этого никогда не понять нашим галицийским задрипанным кандидатам в местечковые наполеоны. Именно из-за ограниченности мышления украинский национализм не дал ни одной примечательной личности, не создал ничего конструктивного, а «Организация украинских националистов» превратилась в оставленное нам гитлеровцами в наследство бандитское подполье.
– Кто это написал? – спросил я, кивнув на журнал.
– А вот догадайтесь,– хитро поглядел на меня Галан.– Анатолий Васильевич Луначарский! Не сочтите меня нескромным, но я готов подписаться под каждым его словом. И, разделяя эти его мысли, считаю своим долгом до последнего дыхания воевать с нашими заскорузлыми в своем убогом мышлении националистами, разоблачать их где только можно. Ведь я знаю их как облупленных!..
Шестнадцатого октября 1949 года Роман Щепанский, разгневанный тем, что Ромко струсил и не выполнил задания, вызывает Иллария на встречу и знакомит со щуплым на вид «Стефко».
– Это надежный хлопец, не то что слюнтяй Ромко.
Многие правила конспирации – встречи по паролям, опознавательные знаки—отбрасываются, остаются только клички соединяемых Щепанским будущих террористов. Надо торопиться! Близится десятая годовщина воссоединения Западной Украины со всей советской украинской землей, и подполье по заданию Мюнхена и Ватикана должно к этой дате заявить о себе убийством какого-нибудь крупного общественного деятеля, известного своей преданностью советской власти. Щепанский говорит прямо:
– Медлить больше нельзя! Двадцать четвертого октября и ни днем позже писатель Галан должен быть убит.
...В роковое для него утро Ярослав Александрович позавтракал вместе с женой, а после ее ухода в филиал Музея имени В. И. Ленина, где Мария Александровна работала художницей, зашел в комнату рядом с кабинетом. В кабинете стоял просторный письменный стол с телефоном, но Галан любил работать именно в этой комнате за небольшим столиком, сидя спиной к двери в прихожую и видя перед собой широкое окно.
Под рукой у него была пишущая машинка в футляре, но Галан не раскрыл ее. Он хотел сперва пером набросать статью, заказанную ему газетой «Известия» к десятилетию восстановления советской власти в Западной Украине.
Вместе с бумагами на столе лежала книжечка Галана «Фронт в эфире», изданная в 1943 году на украинском языке в Москве. Ярослав Галан был комментатором радиостанции имени Тараса Шевченко, вещавшей на оккупированную гитлеровцами Украину. В этой книжке были собраны его боевые памфлеты военных лет, среди них образцы блестящей партийной пропаганды – памфлеты-импровизации, с которыми он выступал перед микрофоном, разоблачая ложь Геббельса и его подпевал.
Свою статью Ярослав Галан озаглавил «Величие освобожденного человека». Писал он ее по-русски. Вспоминая соратников и борцов за освобождение Западной Украины, называл имена Ивана Франко и безработного поляка Владислава Козака, убитого панской полицией.
«По-новому определились человеческие судьбы,– торопясь, записывал он волновавшие его мысли.– В 1930 году в луцкой тюремной больнице лежал человек, дни которого, казалось, были сочтены. Ему пришлось пережить все ужасы полицейских пыток, самых изощренных, самых омерзительных... Палачей же отнюдь не смущало то обстоятельство, что жертвой их издевательств был известный львовский литератор и публицист Кузьма Пелехатый. Избиваемый принадлежал к народу, объявленному вне закона, а популярность этого человека и мужество его только усиливали бешенство мучителей. Арестованный не поддавался угрозам, пытки не сломили его воли, поэтому арестованный должен был умереть.
Но могучая натура победила, Кузьма Пелехатый остался в живых. Страдания только закалили его, и он ни на один день не переставал быть собой: честным, отважным борцом за освобождение своего народа...»
То, что написал Ярослав Галан о своем друге, депутате Верховного Совета СССР Кузьме Николаевиче Пелехатом, удивительно совпадало с тем, что можно было бы сказать и о самом Галане. И не знал Ярослав Александрович в тот последний день своей жизни, что фамилия Пелехатого значилась в тех же самых «черных списках» людей, подлежащих уничтожению, в которые был занесен и он, Галан, и которые хранил в своем затхлом бункере Роман Щепанский. Уже был подобран террорист и для уничтожения Пелехатого, тоже сын униатского попа, Богдан Ощипко, и только случайность спасла Кузьму Николаевича от бандитской пули.
В своей статье Галан назвал и других борцов за свободу Западной Украины – доблестную львовскую комсомолку, радистку партизанского отряда Медведева Марию Ких, колхозницу села Скоморохи Ульяну Баштык, спасшую в годы оккупации вдову и детей погибшего начальника 13-й пограничной заставы Алексея Лопатина.
Работалось хорошо. Ярослав Галан быстро набрасывал заключительные строки:
«...Исход битвы в западноукраинских областях решен, но битва продолжается. На этот раз – битва за урожай, за досрочное выполнение производственных планов, за дальнейший подъем культуры и науки. Трудности есть, иногда большие: много всякой швали путается еще под ногами. Однако жизнь, чудесная советская жизнь победоносно шагает вперед и рождает новые песни, новые легенды, в которых и львы, и боевая слава будут символизировать отныне только одно: величие освобожденного человека».
Оставалось заложить в машинку бумагу и перепечатать.
В прихожей раздался звонок.
Из кухни к двери подошла Евстафия Довгун, спросила:
– Кто там?
– Мы до писателя! Он дома?
Услышав знакомый голос Иллария, женщина открыла.
– Дома, дома,– и пропустила Лукашевича и Стефко (он же Стахур) в прихожую.
На пороге комнаты, в которой он работал, появился Галан в пижаме и в комнатных туфлях. Радостный оттого, что статья закончена, сказал приветливо:
– А, это вы, хлопцы? Заходите...
Посетители вошли. Илларий сел на предложенный ему стул справа от писателя, а Стахур задержался сзади.
– Снова неприятности у нас в институте,– поспешно заговорил Илларий.
– Какие именно? – спросил Галан и задумался.
Лукашевич подмигнул Стахуру. Мгновенно тот выхватил из-за пояса топор и стал наносить им удары по голове писателя. Сразу же потеряв сознание, Галан повалился на пол. Услышав стук в соседней комнате – это Довгун начала уборку кабинета,– Илларий бросился туда.
Вот что показала впоследствии на суде Евстафия Довгун:
– Ко мне с пистолетом в руках подбежал Лукашевич и, приказав молчать, отвел меня от окна к дивану, стоявшему возле печки. Вслед за Лукашевичем в кабинет вбежал Стахур. Он оторвал от телефонного аппарата шнур, которым бандиты вдвоем связали мне ноги и руки. Лукашевич увидел на диване носок жены Галана, заткнул мне этим носком рот. Затем открыл ящик письменного стола, на котором стоял телефонный аппарат, порылся в ящике и что-то оттуда взял.
Когда мне завязывали рот, у двери кто-то позвонил. Лукашевич и Стахур насторожились, начали торопиться. Когда они уже собрались, Лукашевич строго меня предупредил, чтобы я не кричала, и в течение часа из квартиры не выходила, и никому о них не говорила, иначе буду убита. Как только они ушли, я начала ворочаться, двигать ногами. Мне удалось освободить от шнура ноги и вынуть изо рта носок. Выбежав в переднюю, через открытую дверь, ведущую в рабочий кабинет писателя, я увидела там на полу окровавленного Галана. После этого я выбегаю в коридор и, спускаясь по лестнице, начинаю кричать...
Уже совсем стемнело, когда оба бандита вышли на условленное заранее место встречи со Щепанским. То была западная окраина леса, близ села Жидятичи, Брюховицкого района, со стороны Киевского шоссе. Около железнодорожного моста они притаились в кустах. Немного погодя из-под моста появилась фигура, едва различимая в темноте. Щепанский дважды прокричал вороном, и только после этого все трое сошлись.