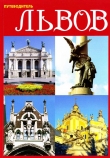Текст книги "Формула яда"
Автор книги: Владимир Беляев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
Мародерам было невдомек, что в глубине двора, за закрытой изнутри на тяжелый висячий замок дверью, в подсобных складах хранятся еще в большем количестве такие же продукты. Но это хорошо знал открывший ломом подсобку Голуб. Подбежал к первому ящику с консервами.
– Не повезло – крабы! Уж лучше бы бычки в томате!
– Ничего, и они пригодятся.– Садаклий, подхватив ящик, вспомнил мельком предвоенные рекламы: «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы».
Напрягаясь под тяжестью ящика, он подумал: «Ну до чего же золотой старик! Разве сумел бы кто иной так быстро разобраться в этом подземном львовском лабиринте?»
– А тут прованское масло! – крикнул Садаклию Голуб.– Брать прованское масло?
– Обязательно! Все берите! Решительно все! – ответил Садаклий, опуская ящик с крабами в пасть люка.– Где мы только все это разместим?
– Не журиться, куме,– успокоил Голуб.– Старый щур каналовый Голуб знает там такие закутки, куда ни одна холера не заходила. Подсобите!
И новый ящик со шпротами опустился в подземное чрево Львова...
Спасаясь от преследования, Журженко в больничной пижаме и дошедший с боями до Львова Зубарь, вытащивший капитана из госпиталя, забежали в Кляшторную улицу. Они надеялись пробраться этой улицей к Княжьей горе, называемой иначе Высоким замком, перемахнуть через густо заросшие деревьями и кустарником взгорья, а там – предместье Знесенье, дальше уже поля да перелески – на Красне, Островчик Пильный и на восток.
Таков был их план. Однако у Кляшторной, или Монастырской, улицы была особенность: на всем своем протяжении, окаймленная с обеих сторон высокими и глухими монастырскими стенами из кирпича древней кладки, она не имела ни одного входа, ни одной подворотни.
Вот этого-то и не знали ни Журженко, ни Зубарь. Они уже чувствовали себя почти в безопасности, когда внезапно на склонах Высокого замка послышался пересвист украинских полицаев. Журженко и Зубарь метнулись было обратно, к Губернаторским валам, как вдруг увидели впереди черные рогатые «мазепинки».
– Хана, Иван Тихонович,– прошептал Зубарь. И, оглянувшись, скомандовал: – А ну, за стену! Попробуйте вскочить. Я подсажу.
– А ты? – впервые переходя на «ты», шепнул Журженко.
– Отобьюсь.– Зубарь повел автоматом.– Давайте!
Из последних сил Журженко подпрыгнул на здоровой ноге, и, когда рука его ухватилась за кирпичную поверхность стены, Зубарь, изловчившись, подтолкнул слабеющего капитана. Журженко перевалился через стену и грузно, плашмя упал в кусты крыжовника.
Полицаи были уже совсем близко. Зубарь попробовал было отстреливаться, но Каблак навалился на старшего лейтенанта всем своим крепким телом.
– Попался, вражий сыну! – прохрипел он, впиваясь в горло Зубаря волосатыми пальцами. Другие полицаи скрутили его руки и связали их поясами.
Как и обычно под утро, монахини ордена василианок, и среди них Иванна, стояли коленопреклоненные на холодном полу внутренней церкви.
Обращаясь к святой Терезе, монахини читали молитву:
– Любвеобильная и сострадательная святая, приди на помощь нашим братьям, страждущим под гнетом долгого и жестокого противохристианского гонения...
Игуменья почти машинально, не вдумываясь в смысл произносимых слов, повторяла – в который раз – эту направленную против советского строя молитву, а мозг ее сверлила одна мысль: «Когда же? Когда?»
С улицы вбежала раскрасневшаяся сестра Моника и, припав йа колени рядом с игуменьей, шепнула:
– Все! На площади наши!
Игуменья Вера встала, отряхнула подол сутаны и властно скомандовала:
– Дочери мои! Царству антихриста пришел конец. Все во двор! Встречать! Домолимся позже! Иванна, принеси из дальней сторожки в саду хлеб, соль и рушник.
Возвращаясь из сторожки по тропинке, вьющейся между кустами крыжовника, с подносом, застланным вышитым полотенцем, на котором возвышался испеченный еще накануне каравай хлеба и соль в солонке из червленого серебра, Иванна услышала стон.
Осторожно раздвинув кусты, она увидела лежащего на траве человека в полосатой пижаме. Из ноги его сочилась кровь. Лица лежащего Иванна не успела рассмотреть – раненый уткнулся в густую траву.
Подавая дрожащими руками игуменье поднос с хлебом, Иванна шепнула:
– В саду раненый стонет. Может, помощь ему нужна?
– После! – бросила игуменья и, услышав гул мотоциклов, подала знак.
Взбежавшая на колокольню сестра Моника натянула веревки, и разномастные колокола и колокольчики, подчиняясь жестким веревкам, заиграли.
Под этот мелодичный перезвон первые немецкие мотоциклы въехали на монастырский двор.
Снимая на ходу замшевые перчатки, сопровождаемый младшими офицерами и Эрихом Энгелем, штурм-банфюрер СС Альфред Дитц подошел к игуменье Вере Слободян и, отсалютовав, поцеловал ее дородную руку.
– Боже мой... пан советник,– протянула мать Вера.– Пане Альфред! Боже! Счастье какое! – И, подавая ему поднос с хлебом и солью, сказала кокетливо: – Бывая у вас в комиссии, я и предположить не могла, что вам так идет военная форма... А зачем по вашему совету мы отправили на запад треть моих монахинь?
– Чтобы обмануть большевиков, мы отправляли туда не только живых, но даже мертвых,– сказал Дитц, передавая поднос с хлебом и солью ординарцу.– Сколько лет, сколько зим – так, кажется, говорит ваша пословица? Рад вас видеть в полном здравии, мать Вера.
– Вы рады? – снова умилилась игуменья.– А мы-то как рады! – В глазах ее заблестели слезы.
– Насколько мне память не изменяет, мать игуменья, правое крыло вашего монастыря пустует,– сказал Дитц, оглядываясь.– Я бы хотел разместить здесь свою зондеркоманду. В других зданиях еще можно натолкнуться на большевистские сюрпризы, а за вашей стеной мы будем чувствовать себя как в крепости. Вы не возражаете?
– Боже! Какие могут быть разговоры! Конечно, располагайтесь. Мои послушницы немедленно вымоют там полы! Пресвятая дева Мария услышала наши молитвы и свергнула сильных с престолов плечом победоносной немецкой армии!
В распахнутых воротах монастыря появились полицаи по главе с Каблаком. Увидев немцев, окруживших игуменью, Каблак было попятился, но, узнав в гитлеровском офицере своего недавнего шефа, отрапортовал:
– Пане штурмбанфюрер, извините, никто из русских не выбегал из монастыря?
Дитц тоже узнал Каблака. Поморщившись, он вопросительно посмотрел на игуменью.
Мать Вера сказала вполголоса:
– Там в саду посторонний кто-то.
Иванна услышала эти слова, и ей стало страшно. Но еще больший страх испытала она, когда через несколько минут увидела, как полицаи волокут под руки раненого в полосатой пижаме. С лица его, покрытого ссадинами, сочилась кровь. Должно быть, полицаи избили его там, в саду. Девушка узнала своего недавнего квартиранта, капитана Журженко. «Что я натворила! – с ужасом подумала она.– Как жестоко отомстила человеку, который хотя и причинил мне зло, но сейчас ранен и совершенно беззащитен!»
Меж тем Каблак доложил Дитцу:
– Пане штурмбанфюрер! Поймали переодетого большевистского капитана. Дозвольте вести дальше?
Дитц кивнул.
– Иди, зараза большевистская! – Каблак, желая выслужиться перед начальством, изо всей силы ударил Журженко прикладом автомата в спину.
Тот охнул и в ожидании нового удара закрыл голову окровавленными руками.
Как бы повторяя его движение, закрыла руками глаза, полные слез, и Иванна. «Боже, боже, что я сделала!– мучилась она.– Выдала беззащитного человека, а теперь они его будут мордовать как захотят!»
– Пусть пани игуменья спит теперь спокойно,– сказал, улыбаясь, Дитц.– Мы быстро выловим всех переодетых красных. Герр Энгель поможет мне в этом! – И он похлопал по плечу своего долговязого помощника, одетого в мундир полевой тайной службы безопасности, или фельдгестапо.
Встреча на вокзале
В полном отчаянии приехала Иванна на привокзальную площадь. «К отцу! Только к отцу»,– решила она, вырвавшись из монастыря.
Главный вокзал Львова, пострадавший после бомбежек и уличных боев, заполняли беженцы. Детский плач, стоны раненых, перешептывание испуганных старух, первые гудки паровозов – все это смешалось в единый шум войны. Здесь были не успевшие эвакуироваться матери с детьми, семьи военнослужащих и советских работников. Многие приехали с границы.
Первые бои сожгли их жилища и выбросили с насиженных мест. Они ютились на чемоданах и узлах. Ожидая, пока кончится проверка документов и будет снято оцепление, пугливо озирались на проходящих по перрону немецких солдат и их помощников – полицаев в черных «мазепинках» с трезубцами.
Около того самого кипятильника, где недавно ранили Журженко, стоял бывший французский лейтенант, ставший музыкантом, Эмиль Леже. Его банджо, подобно карабину, болталось за спиной. Мрачный, небритый, похудевший, он что-то говорил своей жене, чешке Зоре. Наклонившись над годовалым младенцем, она хлопотала у голубой коляски.
Среди местных жителей, застигнутых войной во Львове и ждущих первых поездов в сторону запада – на Перемышль, Стрый, Станислав и Дрогобыч, откуда катились волны немецкого вторжения, оказался и почтальон из Тулиголов Хома. Он посторонился, пропуская встречную монахиню, но, признав в ней дочь отца Теодозия, пробормотал изумленно:
– Панунцьо! Цилую руци!
– Вы давно из дому, дядько Хома? – торопливо спросила Иванна.
– Да с субботы... Приехал черевики покупать,– он показал на коробку, зажатую под мышкой,– а тут – бах-бах, и бомбы посыпались.
– Что у нас дома, дядько Хома?
– До субботы было все в порядке. Правда, сперва отец Теодозий был дуже зденервованый, що вы не повертаетесь, но потом приехали богослов Роман, сказали, что с вами ничего не сталось и вы задерживаетесь во Львове. Ну, тогда отец Теодозий успокоились... Только...
– Ну что? Да говорите же, ради бога!
– Только пан отец были очень огорчены, что папуся ничего не сказала им, уезжая, про телеграмму.
– Про яку телеграмму?
– Ну, пришла до пануси телеграмма з университету. Я отдал ее пану Роману.
– Пану Роману? – протянула Иванна.– Ничего не знаю!
– А я тоже ничего не знаю. Только телеграфистка наша, Дзюнка, сказала мне и отцу Теодозию, что сам ректор университета до пануси депешу прислали.
Недоуменно смотрела на почтальона Иванна, но громкий топот заставил ее обернуться.
Отряд полевой жандармерии вел задержанных во время облавы на вокзале подозрительных людей. Среди них были раненые.
Угрюмо посмотрел из-под козырька тирольки на проходящих Эмиль Леже. Видимо, его мрачный взгляд, лишенный какой бы то ни было симпатии к победителям, перехватил фельдфебель с блестящей, напоминающей полумесяц металлической бляхой на груди. Он круто свернул к Леже.
– Юде? – резко бросил гитлеровец.
– Найн! – спокойно ответил Леже.
– Врешь! Юде!
– Можете думать что хотите. Я говорю вам правду! – по-немецки ответил Леже.
– Давай сюда! В шеренгу! – скомандовал фельдфебель и жестом показал на колонну задержанных.
Зора подбежала к фельдфебелю и, хватая его за руку, умоляюще сказала:
– Пане ляйтер, то мой муж. Он француз, а не еврей...
– Генуг! – Гитлеровец оттолкнул Зору прикладом автомата.
Два гитлеровца схватили Эмиля Леже и стали выламывать назад руки.
Зора, пытаясь прорвать кольцо оцепления, закричала:
– Он музыкант! Вы не имеете права! У него французский паспорт!
Охранники отогнали Зору. Рыдая, обессиленная женщина вернулась к ребенку. Иванна передала ей ручку коляски и, подняв голову, вдруг увидела, что по ступенькам вагона подошедшего поезда медленно спускается на перрон ее отец.
– Тато! Таточку! – Иванна бросилась к Ставничему. Она целовала отца в небритые щеки и приговаривала: – Боже, какое счастье, что ты жив, татусю! – И, вглядевшись в его постаревшее, усталое лицо, удивленно спросила: – А почему ты без шляпы, татулю?
Ставничий скорбно посмотрел на Иванну и показал портфель, набитый епархиальными книгами:
– Здесь все, что у нас с тобой осталось, доню!..
Тем временем отряд фельджандармерии проводил мимо патруля полиции, охраняющего выход на вокзальную площадь, задержанных во время облавы.
Их внимательно разглядывал стоящий на посту вместе со своими полицейскими сотник Каблак.
Поравнялся с ним и Леже. Каблак узнал задержанного француза.
– Бонжур, месье! – пристраиваясь к колонне, деланно улыбаясь, сказал он.– Какая приятная встреча, не правда ли? Какие песенки вы споете теперь? Вы все еще «очень люблю» советские люди?
«Святой военкомат»
Двор собора святого Юра был заполнен священниками. Со всех концов Львовской епархии съехались они к своему князю церкви.
На востоке можно будет поправить дела, обретая тысячи новых приходов и сотни тысяч – да куда там! – миллионы верующих. На это рассчитывали миссионеры униатской церкви.
Из палат митрополита на подворье вышел бородатый митрат Кадочный. Лицо его светилось улыбкой. Он с довольным видом разглядывал документы.
– Получили назначение, отче Орест? Куда? – спросил священник в коричневой сутане.
– Дали деканат в самом Каменец-Подольске. Недалеко, и место чудесное. Старинный, живописный город. Его эксцеленция, наш митрополит, как был, так и остается епископом Каменец-Подольским. Значит, под его высоким покровительством отныне пребывать буду...
– Повезло же вам, отче Орест,– с явной завистью сказал кто-то из священников.– Недаром вы любимец митрополита. А это у вас что? – он показал на бумагу с немецким орлом и свастикой, которую держал в руках митрат Кадочный.
– Марш-бефель! – гордо помахал немецким командировочным удостоверением Кадочный.– Разрешение на право следовать сразу же за войсками.
– Митрополит выдает и такие документы? – приближая близорукие глаза к немецкому удостоверению, удивился черный, как жук, коротконогий священник.
Кадочный объяснил:
– В покоях на левой половине – полевой штаб штурмбанфюрера СС пана Альфреда Дитца. Он курирует вопросы церкви. Штурмбанфюрер Дитц жил во Львове еще в австрийские времена, его родственники имели здесь рестораны, а он сам старый приятель украинцев и разговаривает по-нашему... А вот и отец Теодозий.
Священники, расступаясь, участливо давали Ставни-чему дорогу, а митрат Кадочный, подойдя к нему, тоном человека знающего тихо проговорил:
– Заходите сразу, отче Теодозий. Предупредите келейника Арсения, погорельцев и пастырей, пострадавших от большевиков, его эксцеленция принимает без всякой очереди.
Следуя совету Кадочного, Ставничий, наклонив обнаженную голову и осеняя себя крестным знамением, поднялся на второй этаж капитула. И в самом деле, несмотря на то что приемная была забита ждущими очереди священниками, келейник довольно быстро провел его в угловую комнату, обитую розовым узорчатым шелком, отчего эту святая святых митрополии называли «розовой гостиной». Часть стен ее была в книжных полках, всю комнату заливало солнце.
Митрополит сидел около золоченого камина в своем любимом кресле с высокой парчовой спинкой. Возложив мясистые, большие руки, пораженные, как и все его грузное тело, слоновой болезнью, на мягкие поручни кресла-трона, Шептицкий внимательно выслушал рассказ стоящего перед ним навытяжку Ставничего.
Дрожащими от волнения руками Теодозий извлек из потрепанного портфеля две метрикальные епархиальные книги, тяжелую Библию в кожаном переплете и, положив все это на резной столик, сказал:
– Вот все, что осталось от моего деканата, ваше высокопреосвященство!
– Вы неправы, сын мой,– мягко поправил его Шептицкий.– Осталось все, что нетленно. С нами бог! Он остался с нами, не пораженный огнем войны, в те тяжкие минуты, когда грохотали орудия наших спасителей. Бог услышал наши молитвы и помог сильным мира сего свергнуть царство безбожия на украинской земле.
– Но моя паства, ваша эксцеленция, брошена на произвол судьбы. И служить богу теперь негде.
– Будете отправлять службу в соседней дочерней церкви святых Космы и Дамиана, а со временем на пепелище вашего деканата мы воздвигнем новый, на этот раз уже каменный храм,– утешил Ставничего митрополит.– Святой отец папа Пий Двенадцатый отпустил нашему капитулу пятнадцать миллионов немецких марок на скорейшую ликвидацию последствий тлетворного влияния большевизма. Часть этих средств мы обратим на восстановление и обновление наших храмов...
– Есть одно неудобство, ваша эксцеленция,– пробормотал Ставничий.– В дочерней церкви святых Космы и Дамиана после рукоположения собирался править службу божию Роман Герета. Он мой будущий зять, а получится, что я перебегаю ему дорогу...
Взмахом руки митрополит остановил Ставничего.
– Я отзываю Романа сюда. Могу сообщить вам доверительно, пока не для огласки: самые достойные и уважаемые представители нашего украинского общества адресовались по моему совету к фюреру великой Германии Адольфу Гитлеру с всемилостивейшей просьбой разрешить нам создать воинское соединение из украинцев, которое смогло бы бок о бок с доблестным немецким воинством идти под знаменами рейха на безбожную Москву... Если имперская канцелярия доведет просьбу до сведения фюрера и он разрешит нам сформировать такое соединение, я назначу в него капелланом Романа Герету.
– Простите мою назойливость, ваша эксцеленция. А моя дочь? Они ведь обручены...
– До Москвы отсюда сейчас недалеко, отец Теодозий,– сказал, улыбнувшись, митрополит.– После взятия Москвы, когда это гнездо антихристов окажется в наших руках, Роману дадут по моему ходатайству отпуск, и он справит свадьбу с моей крестницей не в Тулиголовах, а здесь, во Львове. А пока, на этот переходный период, я советую вам, отец Теодозий, оставить вашу дочь в монастыре под покровительством игуменьи Веры...
«В эти горькие минуты,– было записано в тетради отца Теодозия,– я так верил митрополиту. Мог ли я предполагать, во что обернется дальше его кротость и ласка?»
На горе Вроновских
Полицейский в черном мундире изо всех сил заколотил ломиком по стальному рельсу, подвешенному у караульного помещения – вахи —лагеря сталага 328 на горе Вроновских, близ львовского почтамта.
Назойливые и властные звуки гонга проникали в подвалы багровых кирпичных бастионов, разносились над загородками-клетушками из колючей проволоки на макушке горы, прямо под открытым небом.
Под эти звуки из подвалов и проволочных загородок стали появляться советские военнопленные. Истощенные, заросшие, подталкиваемые охраной, они шли, поддерживая раненых. Об участи, которая ждала их здесь, за колючей проволокой львовской Цитадели, красноречиво говорили надписи, сделанные белой краской огромными буквами на полукруглых стенах кирпичных бастионов:
«Запрещено есть, разрезывать трупов воен. пленных и отделять таковых частей. Неповиновение– смерть!
Комендант сталага 328 Оберст Охерналь»
Дюжие полицаи подгоняли отстающих ударами палок и громкими окриками: «Шнель! Шнель!»
Опухшие от голода, оборванные люди прилагали все усилия, чтобы дотянуться до главной линии колючей проволоки, отделяющей их от лагерной линейки. Уцепиться за нее грязными пальцами, ждать. Чего? А ведь, может быть, после очередной «селекции» – отбора – их повезут отсюда на расстрел...
Или удары гонга призывают для пересчета?
А может,– это самое желанное,– их поведут на работу?
Пока они будут тащиться туда, на шоссе к Олеську, окруженные охранниками-вахманами и овчарками, чтобы ремонтировать дорогу, кто-нибудь из прохожих нет-нет да и забросит кусок хлеба или одну-две картофелины в середину колонны. Да и там, под палящим солнцем, когда они дрожащими, ослабевшими руками станут ремонтировать стратегическое шоссе, укладывая на подушку дороги тяжелые каменюки, иные смельчаки из сердобольных жителей, подползая огородами, будут подбрасывать им початки вареной кукурузы, буханки домашнего черного хлеба, а иной раз – и это будет великим счастьем – швырнут шмат ржавого, посыпанного солью запорожского сала. Голод мучил военнопленных. В Цитадели уже давно были съедены вся лебеда и крапива. Даже кора на молодых и без того чахлых липах и ясенях обгрызена начисто в рост человека. Крысы и кошки боятся забегать на гору Вроровских, чтобы не стать случайно добычей пленных. Недаром же какой-то вахман-немец, ужаснувшийся тому, что ему довелось увидеть в сталаге 328, выцарапал гвоздем у внутреннего входа в лагерь в камне стены хорошо заметную надпись готической, немецкой вязью: «Отсюда один путь – в могилу».
И повсюду проволока! Тонны проволоки сплошными рядами переплели дреколья – привезенные специально из Германии железные скрюченные палки.
Вызванные на лагерный плац военнопленные увидели сквозь переплеты колючей проволоки и через круглые шары спиралей Бруно (особый вид проволочных заграждений), как вахманы пропустили в распахнутые ворота Цитадели делегацию украинского «допомогового комитета». Ее послал на помощь страждущим сам митрополит Шептицкий.
Дамы-патронессы, жены и вдовы львовских адвокатов, судебных советников, бывших послов польского сейма и еще австрийского императорского парламента чинно шагали по дороге смерти, по которой еще сегодня ночью вывозили в Лисеницкий лес на сожжение сотни трупов.
В черных платьях, отороченных кружевами, в старомодных мантильях, вытащенных из пропахших нафталином сундуков, с четками в руках и крестиками на груди, они мелкими шажками с опаской приближались к лагерному плацу.
Среди светских благотворительниц на вершину горы Вроновских поднимались и василианки – игуменья Вера, сестра Моника, Иванна Ставничая и другие монахини. Они несли связки молитвенников, шкатулки с крестиками и нагрудными иконками.
Игуменья Вера, взобравшись на услужливо подставленный ей полицаем деревянный ящик из-под гранат, скорбным голосом обратилась к пленным:
– Дорогие сыночки! Братья Христовы! Не по своей воле многие из вас сражались под знаменем антихриста в безбожной Красной Армии, а сейчас попали в большую беду. По милостивому соизволению немецких властей мы пришли к вам на помощь. Подпишите декларацию о своем полном разрыве с большевизмом, попросите помилования у фюрера великой Германии Адольфа Гитлера! И мы похлопочем о вашем скорейшем освобождении и окажем силами нашего благотворительного комитета посильную помощь каждому декларанту независимо от его прошлого. Пусть же учение смиренного господа нашего Иисуса Христа возвратит вас на путь покорности и благоразумия...
– Вопросик, мамаша! – крикнул из-за проволоки заросший военнопленный с зелеными петлицами пограничника.
– Прошу, сын мой! —сказала игуменья, оживившись.
– А вы знаете, как нас кормят? А знает ли ваш Иисус Христос, сколько людей здесь ежедневно умирает от голода? Чи очи ему позастило? – перешел он на украинский язык.
Игуменья смешалась. Никак не ждала она столь резкого и прямого вопроса от истощенного, едва стоящего на ногах человека. Как украинец, пограничник имел возможность при желании выйти отсюда первым, но столько ненависти было во взгляде его запавших глаз, что игуменье сделалось страшно.
Иванна, заметив окровавленный бинт под разорванной рубашкой на груди военнопленного, отвела глаза. Тут же ее взгляд наткнулся на полное зловещего смысла распоряжение полковника Охерналя на стене бастиона.
– Я поэтому и говорю, сыночки,– подавляя растерянность, продолжала игуменья,– что знаю, как вам сейчас тяжело. Но в ваших собственных руках возможность избавиться от вынужденного плена. А чтобы вам легче было очистить от скверны ваши думы, мы раздадим вам нательные крестики и молитвенники... Хочу снова напомнить вам—до меня это говорило вам начальство,– что украинцам будет оказано преимущество при освобождении. Они смогут сразу поступить на вспомогательную службу к победителям либо вернуться к семьям, домой.
– Мамаша, ридненька,– не унимался пограничник, подмигнув стоящему рядом с ним пленному.– Выходит, что у вашего Христа две правды и два милосердия – одно для украинцев, другое для остальных людей?
Мордатый вахман замахнулся палкой и закричал;
– А ну, ты, гнида большевистская, закрой пасть!
Пограничник отшатнулся от проволоки, едва не упав.
Показал на вахмана рукой:
– Ото бачите, хлопци, милосердие боже!
Старший лейтенант Зубарь тем временем шепотом
передал по рядам:
– Держись, братва, не продаваться за чечевичную похлебку!
Раскрывая на ходу портфель, набитый декларациями, Иванна приблизилась к проволоке. Она остановилась перед пленным, который показался ей посмирнее, и спросила робко:
– Вы подпишете?
– Я присягу не нарушу,– отрезал пленный.
>– Вам дать? – спросила она соседа.
– Сматывайся!
– А вы?
– Предателем не был!
Растерянная Иванна все же шла вдоль проволоки и вдруг увидела Зубаря. Узнав его, отшатнулась. До чего же изменился этот бравый командир, еще недавно такой веселый и разбитной! Голова его была замотана грязным бинтом, щеки запали, скулы поросли жесткой щетиной.
– Признали, невеста? – криво усмехнулся Зубарь.
– Возьмете декларацию?
– Быстро же вы перекантовались, пани Иванна,– сказал Зубарь,– из студентки советского университета да в гитлеровские подлипалы.
– Вы ошибаетесь,– тихо ответила Иванна,—студенткой советского университета я никогда не была. Меня туда не приняли.
– Врете! Были! Человек из-за вас кровь пролил, а вы... Эх!
К Иванне подошла одна из дам-патронесс.
– Дайте помогу. Я еще в первую мировую войну около Ярослава уговаривала пленных русских солдатиков. У меня опыт. Дайте мне портфель.– И, приняв от Ставничей портфель, сказала властно Зубарю: – Берите декларацию, пока не поздно. А то будет плохо!
– Танцуй отсюда к чертовой матери... Кикимора! – бросил Зубарь и повернулся к даме спиной, покрытой лохмотьями гимнастерки.
Посрамленная дама-патронесса нервно отдала Иванне портфель, вернулась к игуменье и стала ей что-то зло доказывать.
А Иванна вглядывалась в лица военнопленных. Ей показалось, что светловолосый красноармеец с выпирающими под обрывками гимнастерки ребрами как-то странно, незаметно от товарищей, подмигнул ей. Ставничая радостно подвинулась к проволоке и молча протянула светловолосому декларацию.
– А какой аванс мне будет, пани монашка?
– За что аванс? – с недоуменьем спросила Иванна.
– За измену. Больше, чем Иуда за Христа получил, али меньше?
Иванна отпрянула. Ветер вырвал из ее рук листок декларации и закружил над железной паутиной проволоки. Подавленная, она сделала шаг в сторону, и тут взгляд ее столкнулся с грустными глазами капитана Журженко.
Он стоял, прильнув к проволоке и опираясь на кусок обломанной доски, в той же самой, теперь уже грязной и изорванной полосатой больничной пижаме, в какой его поймали в монастырском саду.
– Так что же нового принес вам ветер с запада, пани Иванна? – спросил Журженко.– Эту сутану и потерянную молодость?
Иванна молча мяла в руках декларацию. Она не могла поднять глаз; подумать только – по ее вине капитан здесь.
– Хотя вы причинили мне много горя, капитан,– словно оправдываясь, сказала очень тихо она,– но я не сержусь на вас. Все произошло случайно. Поверьте! Христос учил нас прощать обиды даже врагам и грешникам...
– О каком горе вы говорите? – прервал ее Журженко.
– Не будем вспоминать об этом,– волнуясь, ответила Иванна.– Подпишите лучше – мы облегчим вашу участь.
– Вы ошибаетесь, Иванна. Я никогда не предавал то, во что верил и верю.
Иванна торопливо протянула декларацию стоявшему рядом с Журженко французу. Это был Эмиль Леже. Иванне показалось, что она уже где-то видела этого человека в тирольке.
Леже молча отрицательно покачал головой и отошел от проволоки.
Обман раскрыт
«Благотворительницы» спускались по мощенной круглыми булыжниками улице из Цитадели.
Возле ворот, пропуская делегацию, Каблак в новом мундире поручика полиции подошел к Иванне.
– День добрый, панунцьо! – сказал он, козыряя.– Як ся маете? (Как поживаете?)
Еще на монастырском подворье, когда увидела Каблака в каком-то доморощенном мундирчике со знаками различия, пришитыми наспех, Иванна была поражена тем, как быстро сменил свою шкуру этот «перевертень». Сейчас же, взглянув на его нагловатое лицо и нарядную, хорошо пригнанную форму, Иванна сказала, не стесняясь:
– Матерь божья! Как же это вы так быстро сумели... перекантоваться?
– Пани Иванна плохо знает меня,– нисколько не смутился Каблак.– И в университете я мысленно был в этом мундире – как человек-невидимка. И вся история с отказом в поступлении в университет – буйда, цирк! Жених пани и мой побратим Ромцю попросил меня разыграть ту комедию. И очень хорошо, что вам тогда отказали. Посудите сами: университету пшик, а у вас хлопот меньше.
– Все это подстроил Ромця? Боже!—ужаснулась Иванна. Лишь сейчас дошел до нее смысл циничного откровенного признания Каблака.
– А вы не огорчайтесь, пани Иванна,– усмехаясь, утешил ее Каблак,—никто не будет больше засорять вам мозги всякими марксизмами. За работу в нашем подполье митрополит даст Роману хороший приход или устроит его при себе в капитуле. Будете жить припеваючи. А бывшие студентки только позавидуют вам.
Иванна долго не могла опомниться от того, что узнала от Каблака. Как нагло и подло ее обманули! Как может существовать такая низость среди людей, проповедующих слово божье? Придя в келью, Иванна хотела было помолиться, даже стала на колени перед иконой пресвятой богородицы, но молитвы не получалось, скорбный лик девы Марии расплывался, словно в тумане, казался ханжеским, как лица дам-патронесс, а за ним вырисовывалась паутина колючей проволоки и вереница истощенных лиц, Зубарь, пограничники, Журженко. Но как понимать то, что сказал ей Зубарь: «студентка советского университета»? Разве была она когда-нибудь ею? А надпись на стене бастиона? Или полный укоризны взгляд Журженко, которого она, по существу, выдала? Как все это отвратительно и подло! Кругом чужие, даже Роман, тот, кому должна была доверить она душу свою, и тот предал ее! Скорее повидать татуся! Рассказать все ему.
Попросив у игуменьи разрешения отлучиться из монастыря, Иванна не шла, а бежала на окраину города. У священника церкви святой Пятницы Ивана Туркевича обыкновенно останавливался по приезде во Львов отец Теодозий. Однако старенький священник сказал ей, что Ставничий побывал у него, но собирался остановиться у пастыря церкви Петра и Павла, Евгена Дудкевича, в его доме на Лычаковской улице.
Иванна вышла на улицу и, дойдя до остановки, вскочила в трамвай. Первый вагон был полупустой, сбоку было написано: «Нур фюр дойче унд фербиндете»– «Для немцев и союзников». Зато второй, предназначенный оккупантами для местных жителей, был набит до отказа. Иванна кое-как протиснулась с подножки в вагон.
Трамвай остановился
Не доезжая метров трехсот до моста, повисшего над Замарстиновской, трамвай резко затормозил. В открытые окна вагона потянуло гарью.
Кондуктор в синей конфедератке еще довоенного образца, окантованной малиновым шнуром, выглянул в дверь и, присвистнув, спокойно уселся подремать на сиденье.
Пассажиры увидели языки огня за высоким деревянным забором. Один за другим они стали выскакивать на мостовую. Вышла, подбирая полы сутаны, и Ставничая.