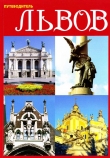Текст книги "Формула яда"
Автор книги: Владимир Беляев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
Заговура сменился на рассвете и пошел к заветному гроту, где, присыпанные прошлогодними листьями, лежали бутылки. Только он вошел в грот, как внизу загудели гестаповские машины и эсэсовцы мигом окружили гору.
Иванна шла первой в цепочке осужденных. Заговура хорошо видел ее из грота. Руки ее уже были раскованы. Когда ей велели стать на табуретку, она резким движением руки – высокий эсэсовец еще не успел набросить ей на шею петлю – сорвала с шеи нательный крест и отшвырнула его далеко в траву. Это было последнее, что сделала Ставничая в своей короткой жизни.
Важный гость
В тот день, когда отец Теодозий нашел на Горе казни мертвую дочь, Шептицкий принимал у себя в палатах важного гостя, прибывшего к нему из Берлина.
На этот раз им был сам шеф немецкой военной разведки адмирал Вильгельм Канарис. Он внимательно слушал митрополита, изредка потирая холеную, гладко выбритую смуглую щеку.
Шептицкий был явно рассержен.
– Я согласился помогать господину Дитцу и его коллегам, ибо руководствовался нашими общими целями – борьбой с коммунизмом. Вам известно, господин адмирал, что в 1936 году, когда движение Народного фронта грозило охватить многие страны, я выступил одним из первых. Мою «Осторогу против коммунизма> читали с амвонов во всех церквах Галичины. Душой и сердцем я поддерживал национал-социализм. Когда ваши войска пришли сюда, я вправе был рассчитывать на взаимное доверие и сотрудничество. Почему же господа Дитц, Энгель и другие их коллеги из гестапо не захотели внять моим советам? Разве нельзя было увезти эту строптивую девчонку куда-либо подальше, скажем – в Ровно или Киев, чтобы не бросать тень на меня, на церковь? Зачем надо было казнить ее публично здесь же, во Львове? Это глупо, поймите, в высшей степени глупо! Надо работать тоньше, не будоража народ!
– Да, в наше время надо работать очень тонко, согласен с вами, ваша эксцеленция,– постукивая смуглыми пальцами по спинке дивана, согласился Канарис.
Как бы ободренный его словами, Шептицкий, показывая на потолок, сказал:
– На своем чердаке я укрываю именитых, достойных евреев города – сына главного львовского раввина Езекеиля Левина и раввина Давида Кагане. Да, да! Прячу с полным сознанием ответственности за свое деяние и прошу немецкие власти не мешать мне поступать так, как я считаю нужным. Учтите – при малейшем изменении политической ситуации они охотно подтвердят, что я, митрополит Андрей, был добр и к инаковерцам. Они расскажут тысячам, как мои каноники поили и кормили их в тот момент, когда вы, немцы, уничтожали сотни тысяч евреев. Все это еще больше укрепит авторитет церкви, веру в ее справедливость и благородство в глазах населения и мировой общественности. Вот почему не следовало и с дочерью священника Иванной Ставничей действовать так топорно, по-фельдфебельски...
– Подобные вопросы входят в компетенцию рейхсфюрера СС Гиммлера,– процедил сквозь зубы Канарис.– И все карательные меры также. Я же посетил вашу эксцеленцию, чтобы установить общие контакты по другим вопросам.
Канарис встал. Расхаживая по розовой гостиной, он заговорил не сразу.
– Я буду с вами откровенен, как со своим человеком и с коллегой. Вы были уланским офицером австро-венгерской армии и поймете меня. Я даже знаю по старым досье вашу кличку в разведке – Драгун. Последнее время на территории, занятой немецкими войсками, участились случаи заброски советских разведывательных диверсионных отрядов. Как правило, это небольшие группки людей, хорошо вооруженных, знающих немецкий и польский языки, снабженных рациями. Москва их сбрасывает с самолетов в район Карпат и Прикарпатья. Отсюда эти отряды пробираются в Польшу, Чехословакию, Венгрию и через Силезию достигают даже границ нашей империи. Нам становится все труднее вылавливать агентов Москвы, тем более что среди них есть западные украинцы, отступившие некогда на восток с частями Красной Армии...
– При чем же здесь церковь и я? – перебил Канариса Шептицкий.
– Церковь, которую вы возглавляете, может быть очень полезна,– резко ответил Канарис.– Кто сейчас самая главная фигура на селе? Священник! Кто более всего осведомлен о том, что делается у него в приходе? Священник! Итак: целая армия верных вам священников по вашему слову будет мобилизована на борьбу с коммунистическими агентами. Мне надо, чтобы слуги Христовы своевременно сообщали о всех новых подозрительных людях, которые появляются в их приходе. И ничего больше! Вам понятна моя мысль?
– Но кто поручится, что скрытые действия служителей церкви не станут известны прихожанам? – спросил Шептицкий.
– Я специально проинструктировал свой офицерский состав, чтобы связь с вашими священниками была незримой для постороннего глаза. Больше того – я прикажу, чтобы мои офицеры, прибывающие в села, не размещались в приходствах, а останавливались только в крестьянских избах. Это вас устроит?
– Вполне,– ответил Шептицкий.– Скажу вам откровенно: уверовав в молниеносный исход войны с большевиками, в надежде, что Москва падет быстро, мы сделали немало неосторожных заявлений в верности Германии и фюреру. Сейчас мы горько в этом раскаиваемся...
– Понимаю вашу эксцеленцию! Чем дальше внешне церковь будет от политики, тем больше она сможет помогать этой политике тайно... Итак, вы обещаете содействовать нам?
– Попробую,– уклончиво сказал Шептицкий.– Все, что будет в моих силах, сделаю...
В то время как митрополит принимал адмирала Кана-риса, в соборе святого Юра шла торжественная служба. Вдруг, расталкивая молящихся, перед капитулом появился Ставничий. Ветер развевал его седые волосы и полы расстегнутого пыльника. Прихожане с удивлением разглядывали полубезумного старика.
Навстречу Ставничему по лестнице быстро спустился митрат Кадочный.
– Почему вы не были на торжественном молебствии, отец Теодозий? Мы молились сообща, все пастыри и верующие, о даровании победы над врагами, а вы...
– Где митрополит?– закричал Ставничий.
– У его эксцеленции какой-то важный, очень почетный гость... Видите? – и Кадочный показал на прижавшийся к стене капитула длинный синий лимузин «хорх» с нацистским флажком на блестящем радиаторе. Шофер, прислонясь к машине, с любопытством поглядывал на богомольцев, заполнивших подворье.
Морщины напряженного раздумья пробежали по лбу Ставничего. Он оттолкнул Кадочного, взбежал выше и, опираясь ладонями о каменные перила балюстрады, путаясь, крикнул:
– Люди!!! Слушайте меня... Я тоже учил вас заповеди «Не убий!». Я учил вас смирению и добру. А они, мои иерархи, отняли у меня единственную дочь и выдали ее убийцам. Они подло предали ее... Единственную дочь... Вы слышите, как пахнет горелым? Это сжигают за Лычаковом ваших близких... Их тоже убили те, кто пришел к нам с надписями на поясах: «Готт мит унс!» Люди!
– Боже... Да он сошел с ума! – воскликнул Кадочный, закрывая лицо руками. Но тотчас же оглянулся и, увидев подбегающего дьякона, скомандовал:—Звонаря туда!– и показал в сторону колокольни.– Глушить безумца!
– Вам говорят в проповедях о крови Христа,– продолжал отец Теодозий,– а тот, кто пролил кровь ваших братьев и сестер, пирует сейчас с митрополитом. Вон его машина... Смотрите...
Взгляды многих богомольцев обратились к лимузину, и испуганный шофер на всякий случай заскочил в кабину и расстегнул кобуру пистолета.
Быстро, кошкой, взбежал по крученой лестнице на колокольню молодой звонарь. Схватил веревку, идущую к языку древнего колокола «Дмитра». Гулкий, надтреснутый звон заглушил крик Теодозия.
Оттаскивая Ставничего от балюстрады, Кадочный исступленно закричал:
– Не слушайте его!.. Братья во Христе! Разум его помутился!
– Уйди! – Ставничий с ненавистью оттолкнул митра-та.– Такой же, как и все, иезуит... Подлые святоюрские крысы...
На подмогу древнему колоколу пришел своим звоном колокол поменьше. Из-за их быстрого перезвона уже нельзя было услышать ни одного слова Ставничего,
Два крепких, румяных дьякона вместе с митратом Кадочным схватили отца Теодозия под руки. Он отбивался изо всех сил. Они оторвали его от каменных перил и поволокли в глубь собора, подальше от взглядов верующих.
Весть о гибели Иванны обитателям подземелья принес садовник Вислоухий.
– Нельзя, ни в коем случае нельзя было оставлять ее без присмотра ни на минуту! – сказал вернувшийся из Ровенских лесов Садаклий.– Такая потеря!
– Эх, Банелин! – упрекал Голуб.– Такая дивчина из-за тебя погибла!
– Да я что? – чуть не плача, оправдывался Банелин.– Кто бы мог подумать? Капитан уговорил ее не ходить к отцу, она утихомирилась. Если бы кто шел снаружи, сигнализация бы сработала, и я бы проснулся. Чуток только задремал, а она, как ящерица, прошмыгнула...
Новости, которые привез из Ровно Садаклий, были утешительными. Ему удалось связаться с партизанским отрядом особого назначения, которым командовал полковник Дмитрий Медведев, и с действующим на Волыни партизанским соединением «дяди Пети» – полковника Антона Бринского. Оба командира согласились принять к себе беглецов из Львовской Цитадели, среди них было немало обстрелянных парней, бывших пограничников.
Было решено: раненых оставить в подземелье до полного выздоровления под опекой Юли Цимбалистой и садовника Вислоухого, а остальным готовиться к перебазированию в Цуманские леса и на Волынь.
Садаклий направил убитого горем Журженко на разведку в город, чтобы хоть немного развеять его отчаяние, поручив Щирбе прикрывать его.
Сюрприз Эмиля Леже
Первое головокружение от обилия свежего воздуха прошло, и Журженко с каждой минутой чувствовал себя все лучше и увереннее. Опираясь на палку, опустив пониже на лоб велюровую шляпу, которую притащил ему вместе с костюмом Голуб, он прошел по аллеям Иезуитского сада до круглой ротонды.
– Пан капитан, если не ошибаюсь? вдруг услышал Журженко.
У ротонды, приподняв черный котелок-мелоник, стоял невысокий пожилой человек в пенсне, с остроконечной бородкой.
Журженко не узнал этого человека и, уклоняясь от встречи с ним, сказал:
– Простите, вы ошиблись! – и шагнул дальше.
Но человек в котелке заступил ему дорогу и сказал укоризненно:
– Ай-ай-ай! Как можно не узнавать старых знакомых, товарищ капитан Журженко? Неужели вы не помните, как мы с вами пировали на заручинах в доме Став-ничих? Вы еще произнесли такую яркую речь о ветре, ворвавшемся к нам с востока. Как же сейчас обстоит дело с этим «ветром», пане капитан?
Журженко уже узнал адвоката Гудим-Левковича. Ускоряя шаг, он бросил:
– Слушайте, я вас вижу впервые!
Гудим-Левкович резким движением вырвал у него палку и, отшвырнув ее далеко в кусты, сказал с ненавистью:
– О нет, пане капитане! Так быстро мы не расстанемся! – Адвокат с радостью заметил подходящего к ним полицая.– Пане полицай! Пане полицай! – засуетился он, подзывая Щирбу.– На минуточку!
Щирба быстро подошел к Гудим-Левковичу, и тот с облегчением показал на Журженко:
– Задержите его! Это переодетый большевистский командир, к тому же, наверное, еврей! Берите его! Берите! А те пять литров водки вместе с мармеладом, которые полагаются по приказу бригаденфюрера СС за выдачу еврея каждому украинскому патриоту, я презентую вам. Возьмите себе на здоровье!
Щирба вытащил из кобуры вороненый «вальтер» и, направив его в спину капитана, сказал адвокату:
– Благодарю вас, пане меценасе! Пойдемте вместе. Надо будет записать ваши показания...
Когда они втроем дошли до каменной ограды монастырского сада и Щирба, вынув ключ, воткнул его в скважину узкой двери, Гудим-Левкович обеспокоился:
– Позвольте, это же сад митрополита, и не комиссариат полиции! Куда вы меня ведете?
– Веду куда надо,– спокойно ответил Щирба, открывая калитку и пропуская в нее первым Журженко с поднятыми руками.– У нас здесь особый пост полиции. Мы охраняем покои его эксцеленции и вылавливаем среди прихожан подозрительных, вроде этого типа.
Гудим-Левкович перешагнул порог калитки и, подождав, пока Щирба закрыл ее, просеменил за капитаном.
Как только Щирба откинул первую тачку, обнажая потаенную дверцу, ведущую в подземелье, Гудим-Левкович запричитал:
– Послушайте, я не пойду туда! Не пойду!
– Я вам уже объяснил: у нас здесь свой тайный пост. Для таких доверенных конфидентов, как вы, пане адвокате!
– Откуда вы знаете, что я адвокат? – не на шутку встревожился Гудим-Левкович, глядя на Щирбу узенькими глазами.
– Ну, кто же из местных, от Турки до Сокаля, не знает пана адвоката Гудим-Левковича? – сказал, улыбаясь, полицай и дал знак Журженко, чтобы тот опустил руки.– Ваши блестящие речи в защиту украинских националистов глубоко и надолго запали в души молодежи.
– Куда вы меня ведете? Я буду кричать! – голос адвоката сорвался.
– Только пикни – сразу дырку сделаю! – прошептал Щирба, подталкивая адвоката стволом «вальтера».
Шум карбидных ламп и примусов, темные силуэты раненых, лежащих под стенами на соломе, мрачные своды подземелья – все это окончательно парализовало волю Гудим-Левковича. На прямой вопрос Садаклия: «Какова ваша кличка в гестапо?» – адвокат покорно ответил:
– Щель.
Ни Садаклий, ни Журженко не рассчитывали на столь быстрое признание.
– Понятно. Значит, вы играли роль той самой щели, сквозь которую немцы пытались шпионить за настоящими патриотами? – уточнил Садаклий, выкладывая содержимое бумажника адвоката.
– Так точно!
– У кого вы на связи? – спросил Садаклий, быстро пробегая глазами какое-то письмо на немецком языке.
– У гауптштурмфюрера Энгеля.
– Где с ним встречаетесь? Адрес конспиративной квартиры?
– По средам в пять вечера. На Фюртенштрассе, восемьдесят пять, в квартире лейтенанта украинской полиции Филиппа Вавринюка. Он мне сдал ее до осени. Потом там поселился наш агент Ивасюта.
– Телефон там есть? – спросил Садаклий.
– Так точно! 2-17-54.
– Одно место встречи?
– Нет, почему же,– поправил адвокат.– Иногда я прихожу на Майенштрассе, десять.
– На квартиру к гауптштурмфюреру Кнорру? – Садаклий пристально посмотрел в глаза Гудим-Левко-вичу.
Тот съежился под этим взглядом.
– Да... Откуда вы знаете?
– Кнорр курирует теперь вопросы церкви, не так ли?
– Да, он хорошо ориентируется в церковных делах,– согласился Гудим-Левкович.
– И вхож к митрополиту?
– Да.
– Кнорр присутствует на ваших встречах с Энгелем на Майенштрассе, десять?
– Как правило – всегда.
– Он давал вам задания освещать церковные дела?
– Непосредственно от Кнорра я получил два задания,– сознался Гудим-Левкович.
– Какие именно?
– Он просил меня составить список священников-москвофилов, тех, кто относится с симпатией к Советской России.
– А второе задание?
– Я получил вчера. Гауптштурмфюрер распорядился собрать информацию об отношении униатского духовенства Львова к казни Иванны Ставничей.
– Так... так...– постукивая пальцами по деревянному ящику с наклейками, задумчиво протянул Садаклий. Он аккуратно сложил письмо, положил его обратно в конверт с золотым тиснением и спросил: – Значит, вам хорошо знакома жизнь капитула, раз Кнорр давал вам подобные поручения?
– Видите ли, я пять лет был юрисконсультом митрополита,– разъяснил Гудим-Левкович.– Я вел спорные дела, по его имению, в Прилбичах, судился с лесопромышленниками в Карпатах. Там ведь большие лесные угодья Шептицкого. Митрополит меня хорошо знает, И священников у меня знакомых очень много.
– Где сейчас находится священник Ставничий? – резко спросил Садаклий.
– Его эксцеленция поступил с ним очень милостиво. Вместо того чтобы направить отца Теодозия за его кощунственные выкрики по адресу немецких властей в тюрьму, митрополит объявил его умалишенным. Отца Теодозия отвезли в психиатрическую лечебницу на Куль-парков.
– А что значит это приглашение? – взмахнув письмом, спросил Садаклий.– Откуда вы знаете штурмбан-фюрера Дитца?
– О, я его знаю еще по австро-венгерской армии! – охотно признался Гудим-Левкович.– Он ведь из-под Львова. Мы вместе с ним служили в «Украинской Галицкой Армии», вместе Киев ходили брать в девятнадцатом.
– Куда же и по какому поводу приглашает вас штурмбанфюрер Дитц?
– Сегодня вечером в ресторане «Пекелко» он празднует день своего рождения. Мы старые комбатанты...
– Но ведь ресторан «Пекелко» только для немцев —< «нур фюр дойче»? – усмехнулся Журженко.
– Пан Дитц – человек без предрассудков. Долгие годы он прожил с нами и понимает, что без дружбы с галичанами ему придется плохо,– сказал Гудим-Левкович.
– Кто там будет еще, кроме именинника? – Садаклий опять посмотрел на конверт.
– Коллеги. Друзья...
– Какие коллеги?
– Ну, из гестапо. Из СД. Из криминальполиции...
Был пасмурный, душный вечер. К ресторану «Пекелко» подъезжали машины. Расфранченные гости, выходя из машин, поглядывали на заволоченное черными тучами, мрачное небо, озаряемое за аэродромом Скнилов быстрыми зарницами – предвестниками близкой грозы.
Неоновый бес с вилами у входа синей стеклянной рукой приглашал гостей в «преисподнюю». Гости проходили, подавая приглашения швейцару в золоченой ливрее.
Тот внимательно вчитывался в них и распахивал решетчатые двери. Лестница круто спускалась вниз. По бокам ее, на стенах, были намалеваны пьяные грешники в аду.
Из длинного черного лимузина «майбах» вышел виновник торжества Альфред Дитц, ведя под руку свою любовницу, светловолосую Лили фон Эбенгард. Спустя некоторое время к подъезду ресторана подкатил фаэтон на дутых резиновых шинах. С его подножки соскочил человек, похожий на Гудим-Левковича, одетый в его несколько старомодный костюм и котелок-мелоник.
Оглянувшись и дав вознице знак, чтобы тот задержался, новый гость подошел к швейцару и показал конверт с приглашением.
– Я секретарь адвоката Гудим-Левковича. Мой шеф – давний друг господина штурмбанфюрера Дитца, к сожалению, внезапно уехал к больной жене в Перемышль и не может присутствовать на сегодняшнем торжестве. Он написал письмо с поздравлениями и извинениями господину Дитцу и передает ему маленький подарок ко дню рождения. Отнесите, будьте добры, этот пакет господину Дитцу! А это вам за услуги! – посетитель протянул швейцару сто – не оккупационных, нет, настоящих имперских марок, имеющих хождение по всей Германии, и тяжелую коробку довоенного еще шоколада фабрики «Бранка», перевязанную атласной лентой.
Дитц был сладкоежкой, и такой подарок, по всей вероятности, должен был доставить ему большое удовольствие.
Швейцар, скользнув взглядом по денежной купюре, небрежно опустил ее в боковой карман ливреи и, оглянувшись, поманил к себе солдата, стоящего за дверью. Это был шофер Дитца.
«Секретарь» адвоката, убедившись, что коробка с письмом передана по назначению, вежливо приподнял мелоник и, усевшись на пахнущее кожей мягкое сиденье фаэтона, тронул палочкой спину возницы.
Это были Садаклий и Эмиль Леже.
...Под низкими сводами зала ресторана «Пекелко» в костюмах чертей, затянутые в тугие черные трико, фордансерки (девушки для танцев) танцевали под звуки джаз-оркестра. Шофер Дитца, приблизившись к столу шефа, щелкнув каблуками, вручил ему подарок от «адвоката» и письмо.
– Что это такое, Альфред? – ревниво спросила Лили.
– Подарок от старого комбатанта,– пробормотал Дитц, читая письмо, написанное рукой Гудим-Левковича.– Обаятельный человек, анекдотчик и оказывает нам неоценимые услуги. Ну, скажи на милость, кто бы мог достать во Львове такой шоколад? А он достал! «Бран-ка» – ты понимаешь, что это значит? Отличный шоколад! Предвоенный!
– Дай-ка попробую,– попросила Лили Эбенгард.
– Возьми, пожалуйста,– Дитц, пододвинув ей сюрпризную коробку, стал разливать по рюмкам желтый аирконьяк.
Лили развязала атласную ленту и только стала приподнимать крышку коробки, как сильный взрыв наполнил дымом и огнем ресторан «Пекелко». Штурмбанфюрер рухнул окровавленным лицом на скатерть, засыпанную осколками стекла и сразу почерневшую от взрывчатки, а его светловолосая подруга медленно сползла под стол.
«Сюрпризная коробка», изготовленная в партизанском подполье, сработала безотказно.
Да, Эмиль Леже не зря хвастал познаниями в саперном деле: он изучил его еще в иностранном легионе в Северной Африке.
...Первые тяжелые капли дождя упали на мелоник Садаклия, когда он вместе с Леже уже был в монастырском саду. Синяя молния, ударившая где-то рядом, вслед за раскатом грома, осветила подходы к потайному лазу в подземелье. Едва Садаклий и Леже проникли туда, как густые косые потоки дождя, смешанного с градом, обрушились на кроны буков и ясеней, заливая все вокруг.
Давно уже не помнили старожилы Львова подобной грозы. Не только бетонный канал, в котором протекало главное русло Полтвы, но даже все коллекторы в нагорной части города сразу наполнились глинистой, шумной грозовой водой. Смешанная с нечистотами, разливающаяся озерами возле решеток канализации, вода быстро потащила вниз, к Замарстинову, сброшенный в люк под собором святого Юра труп расстрелянного по приговору подземного партизанского трибунала предателя и агента гестапо адвоката Гудим-Левковича.
Пылают всюду свечи
В конце июля 1944 года львовяне встречали первые советские танки.
Когда засыпанные цветами тяжелые «тридцатьчетверки», гулко грохоча над каналами Львова, проносились через предместье к Стрыйскому шоссе, Садаклий и Журженко– оба в военной форме – ехали на запыленном «газике» по улице Двадцать девятого листопада.
Под колесами «газика» похрустывало битое оконное стекло, засыпавшее улицу. Машина проскочила мимо полуобгоревшей виллы «Франзувка», где некогда орудовал под видом советника по делам переселения немецкий разведчик Альфред Дитц, и, скрипнув тормозами, остановилась у Кульпарковской психиатрической лечебницы.
Садаклий и Журженко выпрыгнули из машины и застучали в железные ворота лечебницы. На стук из дежурки выбежали рослые санитары в белом.
– Священник есть у вас?.. Ставничий? – задыхаясь спросил Садаклий.
– Есть, пане товарищу,– сторожко озираясь, прошептал один из санитаров.
– Давайте его сюда! Быстро! – приказал Садаклий.
– Да побойтесь бога, товарищ. Он же психический... Сам митрополит опекуется им! – пробормотал санитар.
Садаклий выразительно похлопал по кобуре пистолета.
– Я знаю, какой он психический. Быстрее, ну!
Угроза подействовала. Через несколько минут санитары вывели на улицу худого, заросшего, седого Ставничего в длинной коломянковой рубашке. В руках у него был маленький сверток.
Журженко шагнул навстречу Ставничему и, набросив на его острые плечи свою шинель, сказал:
– Здравствуйте, батюшка!
Ставничий, ошеломленный, испуганный, смотрел на советских офицеров в не виданных им еще погонах, но, узнав своего бывшего квартиранта, воскликнул:
– Боже... Иван Тихонович!
Офицеры осторожно подсадили закутанного в шинель старика на переднее сиденье и повезли его в больницу на улицу Пиаров, где некогда лежал раненый Журженко...
...Прошло три месяца... В тот день, когда окруженный придворными врачами митрополит и граф Андрей Шептицкий умирал в своей спальне, по всему Львову запылали свечи. Но не в память и не во здравие владыки.
И поныне в западных областях Украины, в Польшей Чехословакии родные и близкие торжественно отмечают день поминовения мертвых – первого ноября. В этот день кладбища переполнены народом, и только на могилках безвестных, одиноких людей не пылают свечи, не белеют положенные заботливыми руками близких последние осенние цветы – хризантемы и астры.
День поминовения мертвых – задушки – во Львове в последнюю военную осень был особым и на всю жизнь запомнился мне.
Колеблемые ветром огоньки свечей можно было видеть вечером не только на кладбищах, но и по всему городу в тех местах, где гитлеровцы пролили человеческую кровь.
Эти желтоватые огоньки заставляли сжиматься сердце от боли и гнева к фашизму. Огни свечей как бы прочерчивали багровым пунктиром в сознании населения весь тот ужас, что довелось ему пережить в годы немецкого владычества. Ведь больше полумиллиона мирных, неповинных жителей одного только Львова было уничтожено за тридцать семь месяцев немецкой оккупации палачами, у которых на поясных пряжках красовалась надпись: «С нами бог!»
В тот вечер уже выписанный из больницы и немного окрепший Ставничий пришел на Гору казни вместе с демобилизованным и возвратившимся на мирную работу в Водоканалтрест Журженко.
Виселицы уже давно были спилены на дрова жителями соседних улиц, и только черные пеньки обозначали места, где они некогда стояли.
– Вот здесь она погибла! – Ставничий дрожащей рукой прикрепил к одному из пеньков зажженную свечку.—Дорогой ценой заплатил я за то, что долгие годы верил в бога и обманывал этой верой других людей,– глухо признался он, глядя на стоящего рядом в молчании, с непокрытой головой Журженко.
– Обо всем этом и надо рассказать людям, Теодозий Андреевич,– сказал бывший капитан.– Кончайте поскорее свой дневник. Все, что вы знаете, расскажите в нем откровенно. Ничего не утаивая. Во имя памяти дорогой Иванны, которую мы так любили...
«Где похоронена Иванна Ставничая?» – спросит меня читатель. Не знаю! Может, серебристый пепел ее, перемешанный с пеплом других убитых и сожженных узников фашизма, развеян по склонам песчаных оврагов за Лычаковом, может, ее сожгли в Долине смерти за Яновским лагерем, в котором мы той осенью обнаружили специальную машину, переоборудованную немецкими инженерами из обычной камнедробилки в костедробилку. А возможно, останки Иванны захоронены на отлогих склонах горушки за дрожжевым заводом, поодаль от шоссе, бегущего на Киев? Скрывая следы своих преступлений, гитлеровцы засадили эти склоны лесом.
...Мне осталось дописать несколько последних страниц этой повести, когда в дверь моего номера львовской гостиницы «Интурист», ранее называемой «Жоржем», постучались.
В номер быстро вошли отец Касьян и встревоженный Ставничий.
– Здравствуйте, Владимир Павлович,– задыхаясь, сказал Ставничий.– Моя тетрадь цела у вас?
Я открыл ящик письменного стола и достал объемистую тетрадь в коленкоровом переплете.
– Вот она! Возвратить?
– Да нет, возвращать пока не надо,– смущенно ответил Ставничий.– Тут странная история произошла вчера. Пусть лучше отец Касьян поведает вам о ней...
Из рассказа отца Касьяна выяснилось следующее. Отслужив вечерню в Онуфриевской церкви, он возвратился к себе в келью. Вдруг распахнулась дверь, и на пороге возник широкоплечий пожилой человек. Направляя в отца Касьяна пистолет, вошедший сказал:
– Тише! Не кричать! Где Ставничий?
– Уехал в Тулиголовы, к знакомым,– бледнея, ответил священник.
– Где он прячет свой дневник?
– Не знаю,– обманул пришельца Касьян, хотя прекрасно знал, что до того, как передать дневник мне, Ставничий прятал его в ящичке под койкой, прибитом к стене.
Тогда незнакомец велел отцу Касьяну лечь на пол и стал обыскивать келью. Он отбросил матрацы на койках, перебрал все журналы и книги на стеллаже, долго рылся в чемоданчике Ставничего и вещах отца Касьяна. Обыск не привел ни к чему.
Озлобленный, уходя, он сказал:
– Никому ни слова об этом! Понятно? Заявите – пеняйте на себя...
– Скажите, отец Теодозий,– спросил я Ставничего,– вы кому-нибудь говорили о том, что пишите дневник, кроме отца Касьяна, Журженко и меня? Я имею в виду прежде всего священнослужителей.
– Знал об этом,– напрягая память, промолвил Ставничий,– священник каплицы Кульпарковской лечебницы, отец Николай Яросевич. Его дочь – певица джаза Варса, Рената, сейчас в Англии. Он получал от нее письма через Швейцарию. Он и принес мне в палату-одиночку эту тетрадку. Возможно, он сообщил об этом капитулу. Ведь ему было поручено присматривать за мной.
– А как выглядел человек с пистолетом? Во что он был одет?
– Он был в форме советского железнодорожника,– ответил Касьян.– Это меня и удивило больше всего!
Мне сразу вспомнились похороны митрополита Шептицкого и странный человек в форме железнодорожника, который сперва преследовал отца Теодозия, а потом порывался отвести его домой.
«Хорошо, что Садаклий опять работает на прежнем месте, в управлении государственной безопасности. Он относится к разряду тех людей, которые никогда ничего не забывают»,– подумал я.
Стараясь не волновать отца Теодозия, я сказал:
– Дневник ваш я пока задержу у себя. Так будет надежнее. Церковь всегда боялась тайн, которые могут повредить ее престижу. Но я убежден в том, что никакие угрозы и визиты разных «железнодорожников» на сей раз не смогут помешать нам рассказать всему народу, кто на самом деле предал вашу дочь...