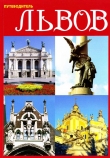Текст книги "Формула яда"
Автор книги: Владимир Беляев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
– Позвольте,– перебила его в недоумении Иванна,– я не...
Герета резко махнул рукой, прерывая невесту, и продолжал:
– В остальном положитесь на мать игуменью и сестру Монику и поблагодарите их за спасительное для вас гостеприимство...
Садаклий идет по следу
На следующее утро среди коленопреклоненных монашек в закрытой монастырской церкви лишь очень опытный глаз мог бы обнаружить Иванну. Длинная, до пят, сутана и белый головной убор неузнаваемо изменили ее.
Вместе с другими монашками повторяла она слова молитвы:
– «Мы припадаем сегодня пред твоим жертвенником с любовью и послушанием, пред твоим наместником здесь, на земле, святейшим отцом Пием, папой римским, чтобы умолять тебя и доложить тебе о всех неисчислимых обидах, нанесенных твоему святому имени, о всех беспримерных богохульствах и ослепленной ненависти к твоим святым правдам...»
Иванне казалось, что и о нанесенной ей тяжелой обиде говорится в тягучей молитве, которую читали монашки во главе со стоящей впереди игуменьей Верой. Время от времени игуменья поднимала пухлую руку, как бы дирижируя.
...В то же утро капитан Садаклий был вызван к начальнику управления Самсоненко. Когда он прошел в кабинет начальника сквозь тамбур из двух соединенных дверей, издали напоминающих обычный платяной шкаф, то сразу почувствовал: будет разнос!
Самсоненко нервно ходил по залитому солнцем кабинету. Не успел Садаклий приблизиться, как начальник круто повернулся:
– Что же это вы, батенька, а? Размякли под Львовским солнцем? Подозреваемый в шпионаже и терроре капитан Журженко, оказывается, вчера сам был у вас, а вы подписали ему пропуск и выпустили такую птицу на свободу? Как понимать такой гуманизм?
– Не всякий подозреваемый в шпионаже и терроре является шпионом и террористом,– спокойно ответил Садаклий.
– То есть как это? – опешил Самсоненко.– А письмо, которое я вам передал?
– Товарищ начальник, а если завтра прибудет анонимное письмо, что вы родной сын австрийского императора Франца-Иосифа Габсбурга, я тоже должен верить такому письму?
Садаклий мог позволить себе такую вольность, потому что уже хорошо изучил отходчивый, хотя и очень вспыльчивый временами, характер начальника управления.
Тот удивленно посмотрел на Садаклия и слегка улыбнулся.
– Короче говоря, вы берете на себя полностью всю политическую ответственность за доверие к Журженко?
Садаклий минуту помолчал и потом сказал глухо:
– Беру, товарищ старший майор!
В это время открылась дверь «шкафа» и оттуда быстро вошел с бумагой в руке дежурный по управлению.
– Сводка происшествий за ночь, товарищ начальник.
Самсоненко взял листок бумаги и стал просматривать его.
Привыкнув к перечислению грабежей и пьяных драк в этом городе, который совсем недавно стал советским, он читал торопливо. Но вдруг словно споткнулся – дважды перечел одно сообщение. Сморщив лоб, почесал затылок и уже вслух прочел:
– «Восемнадцатого июня в 22.00, после прихода пригородного поезда из Перемышля, возле кипятильника Главного вокзала найден тяжело раненный в ногу навылет из огнестрельного оружия неустановленного образца капитан военно-инженерных войск Красной Армии Иван Тихонович Журженко. Злоумышленника задержать не удалось. Раненый находится на излечении в больнице по улице Пиаров».
Самсоненко взглянул на Садаклия и сказал примирительно:
– Вот так штука! Не свалили анонимкой, так уложили пулей. Действуйте, товарищ Садаклий. Быстро!
Отправив две оперативные группы – одну в университет, другую в общежитие, где по наведенным им уже справкам проживал Верхола, Садаклий вызвал машину и поехал в больницу по улице Пиаров. Ему оставалось завязать пояс у халата, когда в кабинет главного врача позвонил оперативный уполномоченный, посланный в университет, и доложил, что нигде в аудиториях Верхолы нет. Через несколько минут из общежития на улице Кутузова также раздался звонок: со вчерашнего вечера студента Зенона Верхолы никто из его соседей по комнате не видел. Кровать не тронута. Все его личные вещи унесены.
Вилла «Францувка»
Одна из самых живописных улиц Львова – улица Двадцать девятого листопада – соединяла центр города с предместьем Кульпарков. Некогда на этой улице жили в основном офицеры привилегированных частей польского воздушного флота. В предвоенное лето здесь находился дом, который, как было известно еще тогда, стал крупнейшим центром гитлеровского шпионажа на Западной Украине.
Прежде чем подойти к этому дому, надо было миновать немало уютных домиков и вилл, укрытых золотистыми кленами, лапчатыми каштанами и плакучими
ивами. По стенам вилл тянулся кверху глянцевитый плющ, дикий виноград и китайские розы.
Жители улицы Двадцать девятого листопада в то лето часто видели на ее мостовой длинный черный «супер-адмирал» с фашистским флажком на радиаторе. Немецкая машина проносилась по самой благоухающей улице Львова и заезжала во двор виллы «Франзувка», стоящей в глубине большого палисадника. Над воротами у въезда в виллу висел флаг гитлеровской Германии с черной свастикой. Но самое удивительное заключалось в том, что под этим флагом медленно расхаживал постовой – советский милиционер. Сейчас просто даже странно вспомнить все это, но так было в то трудное, многим непонятное, насыщенное международными противоречиями предвоенное лето. Граница наших государственных интересов с гитлеровской Германией проходила по Западному Бугу и Сану. Мы вынуждены были, чтобы оттянуть неизбежное в конце концов нападение вооруженного фашизма, вести мирные переговоры с отъявленными гитлеровцами. И вилла «Франзувка», временно предоставленная германской комиссии по переселению немцев с Волыни и из Галиции, по договору с гитлеровским правительством стала обиталищем фашистов.
Цели работы комиссии внешне выглядели невинно. Но работники органов государственной безопасности отлично знали, что переселение немцев с советских территорий использовано фашистами как прикрытие, или, как говорят разведчики, «крыша». На самом же деле видные чиновники немецкой империи, приехавшие переселять от нас своих соплеменников, торопились развернуть в преддверии войны на Западной Украине тайную агентурную сеть шпионажа.
Хорошо знал об этом и Садаклий, которому не раз приходилось парировать попытки немецких разведчиков узнать наши военные тайны, и, в частности, линию военных укреплений на западной границе.
В то лето я жил через два дома от виллы «Франзувка». Всякий раз, видя машину с фашистским флажком, я испытывал чувство ненависти.
В дневнике отца Теодозия тоже упоминалось о вилле «Франзувка». Оказывается, Каблак поддерживал связи с обитателями виллы, чем откровенно хвастался в кругу пьяных собутыльников, когда во Львов ворвались немцы...
В памяти сразу возникло то жаркое лето, толпы людей у решетчатой ограды виллы, бумажки о розыске родственников, приколотые шипами японской акации к стволам тенистых каштанов. Комиссия переселяла за Сан не только немцев. По ее ходатайствам могли вернуться к своим семьям застигнутые войной в Западной Украине жители центральных районов Польши и даже, как это ни кажется теперь чудовищно, лица еврейской национальности. Своими собственными глазами видел я в то предвоенное лето группки евреев, с раннего утра толпящихся у ограды виллы «Франзувка», добивающихся приема в фашистской комиссии, и всякий раз мне делалось страшно, когда я наблюдал это сочетание глупости и жажды к наживе. Конечно, получая документы с фашистскими печатями на выезд, они не знали тогда, что едут на верную смерть, за колючую проволоку лодзинского гетто, в газовые камеры Освенцима и Треблинки, в крематории Дахау.
О вилле «Франзувка» рассказывал мне впоследствии и Голуб. Бригадиру Голубу по роду его работы частенько приходилось бывать на улице Двадцать девятого листопада. Как-то он задержался у дерева с объявлениями, прислушиваясь к оживленному гудению голосов, а потом тронул за локоть какого-то почтенного, благообразного мужчину в длиннополом сюртуке, напоминающего раввина или цадика из талмуд-торы.
– А тебе, пан, тоже до Гитлера захотелось? – спросил миролюбиво Голуб.
– Ну, захотелось, а что? – сказал, озираясь, старик в лапсердаке.
– Да хиба же тебе, старому, здесь, под Советами, плохо? Веру твою или нацию кто забижает?
– Пане, Советы торговать не дают, а на той стороне частная торговля, можно лавочку свою открыть.
– Лавочку? – Голуб опешил. Не сразу дошел до него страшный в своей обнаженности смысл слов ослепленного старика.– Эх ты, дурная голова! Да вас всех Гитлер там, за Саном, сперва оберет, затем обстрижет, а потом на мыло пустит. Вот тебе и весь твой гандель! (торговля)
– Иди, пан, гуляй своей дорогой! – цыкнул на Голуба какой-то франт, в сапогах «англиках» с высокими задниками и в брюках «бричесах».– Ты здесь агитацию против Германии не разводи, а то милиционеру сдадим.
– Милиционеру? – взъярился Голуб, и рука его, тяжелая, мозолистая, крепко сжала рукоятку разводного ключа.– Это мой милиционер, понимаешь? За то, чтобы он ходил по Львову, я в тюрьмах панских гнил! А вот поглядим, как вас там гитлеровские полицаи примут... Тьфу! Вот олухи дурные! – и Голуб в сердцах плюнул.
«Переселенец»
Он сделал всего несколько шагов, как столкнулся со знакомым подмастерьем из слесарной мастерской треста. Маленький, замурзанный, в синей спецовке, тот бежал обедать домой, на Кульпарков, и на ходу, так, словно это была обычная новость, крикнул:
– Дядько Голуб! Чулы? Инженера нашего подстрелили!
– Постон! – Голуб придержал хлопца за рукав.– Какого инженера?
– Да Журженко! Ивана Тихоновича! Того, что в войску служил. На вокзале его раненого нашли...
Голуб побледнел, вспомнив последнюю встречу с капитаном и свой ему совет посетить серый дом на улице Дзержинского.
Растревоженный, погруженный в свои мысли, он чуть не наступил на ногу идущему навстречу просто одетому мужчине. То был Каблак.
Каблак чувствовал, что у него земля начинает гореть под ногами. Он выглядел сегодня совсем иначе, чем в университете. Плохонький, поношенный пиджак с заплатами на локтях, сорочка-вышиванка. Сквозь клинышек расстегнутого воротника на волосатой груди поблескивал серебряный крестик. На ногах у Каблака были уже стоптанные сандалеты, клетчатые модные «пумпы», или брюки гольф, он сменил на будничные полотняные штаны> Прикидываясь добродушным, наивным растяпой, Каблак подошел к постовому милиционеру и почтительно снял кепку.
– Пане товарищу! У меня сестра родная залышилась на той стороне. У Кросно. Мучается, бедолага, с тремя детьми. Украинка. Я бы хотел сюда ее спровадить. Кажут люди, есть тут какая-то комиссия.
– Отуточки комиссия! – показал милиционер на виллу «Франзувка».
– А те паны дозволят моей Стефце перебраться на советскую сторону?
– Кто их знает! Запытайте.
– Кого... Немцев? – притворно ужаснулся Каблак.
– Ну да. Наведут справки.
– Воны ж фашисты! Разве можно советскому человеку розмовлять с ними?
Милиционер покровительственно пояснил:
– По такому делу разрешается. Даже нужно. Чем больше мы своих людей, украинцев, перетянем оттуда, от них, на советскую сторону, тем лучше. У нас же договор с немцами. Давай, хлопче, иди! – и он открыл калитку.
Каблак осторожно, как по ковру, прошел по заросшему двору и поднялся в вестибюль виллы.
Дежурный фельдфебель в форме вермахта поднялся ему навстречу.
Оглянувшись, Каблак быстро сказал по-немецки:
– Я по срочному делу к господину Дитцу! Доложите!
Едва он переступил порог кабинета с большим портретом Адольфа Гитлера на стене, рассерженный донельзя гитлеровец в элегантном сером костюме бросился к нему навстречу.
– Идиот! Я же раз и навсегда запретил вам появляться здесь. Только на конспиративной квартире. Понимаете?
– Господин Дитц!
– Ваше появление здесь равносильно провалу!– разгневанный Дитц посмотрел в окно на шагающего за оградой милиционера.
– Я уже почти провален, пане шеф,– сказал смиренно Каблак,– и потому прошу выдать мне пропуск на легальный выезд до Кракова... Там формируется батальон Степана Бандеры «Нахтигаль». Лучше я буду в том батальоне, чем в советской тюрьме.
– А если я не выдам пропуска?
– Воля ваша! Однако теперь, когда каждую минуту меня могут схватить, я не могу держать при себе эти ценные документы!
Каблак достал из-за пазухи перевязанный носовым платком пакет и положил его на дубовый письменный стол.
Несколько смягчаясь, Дитц спросил:
– Что это?
– То, что пане шеф поручили мне добыть! – не без бахвальства сказал Каблак.– Это новые советские укрепления на участке между Сокалем и Владимиром-Волынским.– Каблак намеренно затянул паузу.– Кроки их составлены с большим риском. Вся агентура по селам на линии Западного Буга набрасывала и уточняла эти данные. Двух наших боевиков особисты на месте хлопнули.
Дитц развязал платок и не без удовольствия стал рассматривать кроки укреплений.
Потом спрятал пакет в сейф.
– Ну, хорошо, герр Каблак. Я бы, конечно, не советовал вам уезжать отсюда именно в такое ответственное время, но если вы чувствуете приближение опасности... Да, а кто же в таком случае будет освещать район Нижних Перетоков?
– У меня был гость оттуда. Лицо духовное и вне всяких подозрений. А в помощь ему я отправил Верхолу. Он тоже оттуда. Нелегал и знает, как связаться с вами. В случае моего отъезда вы будете получать от них информацию на условленной явке.
– Хорошо! Слушайте внимательно, Каблак. Передайте краевому руководству украинских националистов в «Закерзонье»: поддерживать прямую связь с нами
можно не только через меня. По Западной Украине кроме моих референтов по переселению разъезжают сейчас наши чиновники, которые руководят раскопками и отправкой в империю трупов немецких солдат и офицеров, павших в недавних боях с поляками. Сообщите, что это наши люди. Пусть тайно связываются с ними. Любая информация, переданная им, будет немедленно переслана центру.
– Понимаю, господин Дитц!
– Новые доты вооружаются?
– Большинство укреплений от Полесских лесов до Перемышля уже в основном готово к приему орудий тяжелых калибров и другого вооружения. Наша агентура из Тернопольщины сообщает, что Советы начали демонтировать старую линию укреплений за Збручем и Днестром и скоро перевезут вооружение сюда. Орудия демонтированного укрепленного района в Каменец-Подольске уже погружаются на платформы.
– Мешать! Всеми силами! Любыми способами, включая диверсии!—Дитц стукнул кулаком по дубовому столу.—Дайте такую команду агентуре. Мы заплатим.
– К сожалению, одними нашими силами...
– Какие еще вам силы нужны?
Желая доставить приятное Дитцу, Каблак по-военному щелкнул каблуками и отчеканил:
– Доблестные вооруженные силы Третьей империи, пане шеф!
– Ну, вы... Не вашего ума это дело... А куда вы подевали эту девицу, из-за которой у вас в университете, как это говорят русские, «сыр и брот зажигался»? Когда я был на именинах у доктора Панчишина, митрат Кадочный рассказал мне ваш план.
– Мы запрятали ее в надежном месте.
– С сердобольным капитаном, надеюсь, покончено?
– К сожалению...– Каблак замялся.– Он только ранен. Верхола промахнулся...
В больнице
Пуля пробила кость правой ноги капитана Журженко. Кроме того, падая, он сильно ударился о медный кран кипятильника. Под глазом лиловел огромный синяк, точно у боксера после жестокой схватки на ринге. Осунувшийся, небритый – совсем иной человек – смотрел на Садаклия. На тумбочке у кровати стоял кувшин клюквенного морса, букет цветов в вазочке, лежали книги.
– То, что Каблак с Верхолой улизнули, лишний раз подтверждает наши предположения. С ними вопрос ясен,– рассказывал Садаклий.– То гуси меченые. Притом с большими хвостами. Такие визитные карточки побросали– ой-ой-ой! Но не хватает другого звена...
– Их сообщников?
Садаклий встал, выглянул в коридор, не подслушивает ли кто, и, вернувшись, сказал тихо:
– Иванны Ставничей.
– Так за чем дело стало? – удивился капитан.– Вызовите ее сюда или пошлите за ней машину в Тулиголовы.
– Иванна исчезла. Бесследно. Понимаете? Кто-то вызвал ее сюда ложной телеграммой, якобы подписанной Юлей Цимбалистой. Юля этой телеграммы не отправляла... А вот и она, легка на помине!
– Скандал, товарищ капитан! – воскликнула Юлька, вбегая в палату.– Еще гости пришли. Нагорит же мне за вас от главного врача!
– Послушайте, Юля,– остановил медсестру Садаклий,– вы твердо убеждены, что если бы Иванна собиралась уехать в Киев, то забежала бы к вам?
– А как же! – поправляя пояс белого халата, сказала Цимбалистая.
– В университет она не могла пойти? – спросил Журженко.
– Какой там ночью университет? – возразила Юлька.– Она приехала за несколько минут до того, как в вас стреляли!
Из-за спины Цимбалистой, делая знаки Журженко, неслышно, на цыпочках, вынырнул Голуб с букетом белых лилий и пакетом. Из него вызывающе выглядывало горлышко винной бутылки. Цимбалистая оглянулась:
– А кто вам дал право, дядьку, без спросу заходить? Я же сказала: почекайте там, в приемном покое! И как вы прошли сюда? Дверь же закрыта!
– Який там спрос! Ты меня в дверь не пустишь, так я водопроводной трубой пролезу. Я ж старая крыса из львовских каналов!
Журженко, заметив, что Садаклий пристально разглядывает Голуба,сказал:
– Знакомьтесь, товарищи! Это мой сослуживец, бригадир Голуб, а это...
Как бы предупреждая пояснение капитана, Садаклий поднялся и, протягивая руку Голубу, сказал с легкой добродушной усмешкой:
– Вообще-то мы виделись, но, если старых знакомых не признают, можно познакомиться и вторично.
Голуб опешил:
– Бачились? Де саме?
– Садитесь, Панас Степанович,– предложил Журженко.– А вы, Юльця, не сердитесь. Это свой человек!
– Какая же это холера бисова коцнула вас, инженер? – спросил Голуб.– Добре, що не в голову.
– А я предупреждала капитана,– вмешалась Юлька,– с националистами связываться опасно. У них длинные руки. А он смеялся.
Переводя взгляд на Садаклия, Голуб спросил:
– Где же мы с вами могли видеться, товарищ? Ума не приложу. Лицо будто бы знакомое... Вы по какой отрасли работаете?
– Да как бы вам объяснить? – Садаклий незаметно подмигнул капитану.– В украинском тресте «Саночистка»! Знаете, есть такая институция?
– В «Саночистке»? – заволновался Голуб.– Так это, считай, одно хозяйство с нами! А я в Водоканалтресте, там, где и инженер до армии работал. Мы с вами, ма-буть, у трести и встречались?
– Возможно,– спокойно согласился Садаклий.– А еще был у нас с вами, товарищ Голуб, один общий знакомый, некий пан Заремба. Не забыли вы его?
– Какой Заремба? – насторожился Голуб.– Луц-кий?
– Он самый. Тот, что любил в тюрьме на допросах заключенным в нос скипидар лить и почки отбивать.
– Ой, лышенько! – воскликнул Голуб.– Так вы ж тоже привлекались по Луцкому процессу! В 1934 году. Теперь я вас вспомнил. Только фамилию забыл.
– А фамилии у меня и не было. Я по псевдо проходил. Ворожбит мое псевдо было. Как ни выбивали из меня те каты Зарембины фамилию, так и не выбили.
Голуб вскочил.
– Ворожбит? Як же я, старый пентюх, не признал вас одразу? Правда, в луцкой тюрьме у вас еще чуприна пышная была.
– Была, да сплыла! – сказал, усмехнувшись, Садаклий и горестно провел пальцами по выпуклой, глянцевитой макушке.– Одно декольте осталось...
– Нас в одно время допрашивали,– обращаясь к Журженко и Юле, объяснил Голуб.– Палачей набежало в кабинет Зарембы, когда Ворожбита и меня мордовали! Целая стая.
– Значит, вы старые побратимы? – спросил Журженко, наблюдая за встречей двух старых подпольщиков.
– Еще какие! – гордо сказал Голуб.– Кто перетерпел Луцк, тому уже никакая сатана в жизни не страшна.
– Салям алейкум!—послышался голос нового посетителя. В палату ворвался Зубарь.
– Еще один! Горе мени буде! – притворно ужаснулась Юля.– А вы-то как сюда попали?
– Сторож красный семафор поднял, не пускает, хоть плачь. Ну, я выяснил обстановочку, разведал поле боя и перемахнул через забор!
Громы кары божьей
Тревожный лай собаки разбудил Ставничего перед рассветом. Отодвинув засов, он вышел на крыльцо.
К нему сразу бросилась, виляя пушистым хвостом, большая черная карпатская овчарка с белой подпалиной на боку.
– Ты чего, Жук, волнуешься и спать не даешь?
Но добродушный голос священника не успокоил собаку. Повизгивая, словно чуя недоброе, она лизала ноги Теодозия и скулила, то и дело припадая к земле. Уже начинало светать, и на фоне бледнеющего неба хорошо выделялся силуэт деревянной церкви.
Ставничий насторожился. Он услышал резкие, гортанные выкрики на сопредельном берегу, среди них ясно различимый крик «Файер!», какие-то звонки, и вдруг лицо его озарил отсвет орудийного залпа.
– Свят, свят, свят! – прошептал священник, слыша, как завыли снаряды, идущие над его головой. И подумал: «Неужто война?>
С грозным нарастающим воем снаряды пролетали над священником, послышался гул бомбовозов, летящих на восток с немецкой стороны. Близко разорвался снаряд. Ставничий присел, закрыл лицо руками, в ужасе перекрестился.
В это время другой термитный снаряд врезался в колокольню церкви и сразу же поджег ее.
Багровый отсвет вспыхнувшего пожара заплясал и на стенах хатки дьячка Богдана. Там в ожидании очередной встречи с Верхолой заночевал Герета. Грохот орудийной канонады разбудил его, и он, полуодетый, выскочил во двор. Пушечные залпы и вспышки близких разрывов освещали лицо Гереты. С надеждой глядел он на запад, откуда била по советской земле немецкая артиллерия. Не скрывая радости, богослов осенял себя крестным знамением.
– Началось! Слава тебе, Иисусе! С нами бог! – шептал Герета пересохшими губами.
Горизонт над Саном, застилаемый дымом пожаров, розовел все больше. На правой окраине Тулиголов, почти примыкающей к Нижним Перетокам, расползалось зарево пожара, оттуда доносились тревожные звуки церковного колокола. Сообразив, что горит приходство Ставничего, Герета натянул черную реверенду и помчался к своему будущему тестю.
Как черная зловещая птица, перескакивая на бегу канавы, стуча подошвами по настилам кладочек и мостиков, приминая бурьяны, мчался Герета в Тулиголовы, простоволосый, длинный.
Крестьяне вытаскивали из хат сонных детей, спускались в подвалы. Пробежали, сжимая винтовки и автоматы, полуодетые пограничники, занимая места в запасных окопах и блокгаузах. Старший лейтенант Зубарь чуть не сшиб богослова.
Полуобернувшись, он крикнул бегущим за ним бойцам:
– Занимаем огневую точку у моста!
Когда Роман вбежал во двор приходства, деревянная церковь уже пылала вовсю. В стороне, держа под мышкой Библию и епархиальные книги, следил за пожаром окруженный толпой полуодетых прихожан Ставничий. Герета остановился возле старика и взял его под руку. Оглушительный треск снаряда заставил их пригнуться. Ослепительная вспышка пламени возникла там, где еще секунду назад остро вырисовывался на фоне кровавого неба угол приходства. Обрушилась крыша, и стайка перепуганных голубей вырвалась из-под падающей кровли.
Еще разрыв!
Сообразив, что гитлеровцы перенесли беглый огонь на территорию приходства, прихожане стали разбегаться. Кое-кто уносил выхваченные из пламени иконы в золоченых киотах.
Герета силой потащил священника в подвал. Из квадратного выхода крепкого подвала они увидели, как рухнул в огонь, рассыпая искры, купол церкви, как снаряды добивали дом Ставничего,—должно быть, немецкие артиллеристы предполагали, что в кирпичном доме разместилась пограничная застава.
– Не надо, отец Теодозий,– пытался успокоить рыдавшего Ставничего Роман.– На пепелище сгоревшего дома не льют слез.
– Да, но с этим приходством столько связано... Боже... Боже... В этом доме родилась Иванна, тут она выросла.
– Когда горят леса – не время жалеть о розах,– глядя на запад, заметил Герета.– Не печальтесь, отец Теодозий. Такие пожары – к добру. Это гром кары божьей!
Обращая к Роману заплаканное небритое лицо, Ставничий горячо сказал:
– Как вам не стыдно, сын мой! Я пережил уже не одну войну и знаю, что она сулит народу. Это начало нового, страшного горя...
– Но это особая война! Очистительная! – лихорадочно прошептал Роман.– Когда покарают всех отступников, на пепелищах вырастут новые храмы Христовы, лучше прежних...
Вырвавшись из сарая, по освещенному пламенем двору заметались, гогоча, перепуганные, ошалелые гуси. Через каменный забор приходства перемахнуло несколько гитлеровцев.
Вот они, первые завоеватели!
На рогатых тевтонских касках у них в то первое утро войны были колосья пшеницы, пучки васильков. Отблески огня отражались на металлических поясных пряжках с надписью: «С нами бог».
«Дас ист Лемберг (Львов (нем))»
Старинный Львов в пламени пожаров, в грохоте орудийной канонады совсем по-иному открылся утром 30 июня штурмбанфюреру СС Альфреду Дитцу. Дитц поднял руку, шофер затормозил мотоцикл, и колонна, во главе которой ехал штурмбанфюрер, остановилась. Дитц выскочил на удивительно ровную брусчатку Жолковского шоссе и сказал сидящему позади него в коляске мотоцикла гестаповцу Эриху Энгелю:
– Дас ист Лемберг! Хайль Гитлер!
Энгель никогда раньше не бывал во Львове. Он тоже вскочил – коляска мотоцикла сразу закачалась – и вскинул длинную руку с бриллиантовым перстнем. С любопытством смотрел гестаповец на гряду Расточья, по которой раскинулся древний город. Отсюда, от водораздела Европы, ручейки и реки текли в разные стороны. Одни устремлялись к Черному морю, другие, стекая к Висле, попадали в холодную Балтику.
Накануне нападения на Советский Союз Энгеля прикрепили к бывалому военному разведчику Дитцу, чтобы тот, пока не установится во Львове гражданская немецкая администрация, помог ему, Энгелю, ориентироваться в древнем славянском городе. В том, что Дитц сумеет это сделать, более молодой Энгель не сомневался. Ведь всего за несколько дней до вторжения Дитц вместе со всем штатом комиссии по переселению проследовал из Львова через советскую зону Перемышля в Засанье.
Одетый теперь в мундир штурмбанфюрера СС, с двумя Железными крестами на груди и «орденом крови», полученным за сидение в тюрьме еще до прихода Гитлера к власти, Дитц размахивал стеком, показывая командиру дивизии вторжения генералу Штрейцеру прямо на местности пограничные заставы и здание комендатуры на советском берегу. Штрейцер внимательно и, несмотря на разницу в чинах, почтительно слушал Дитца. С эсэсовцем, награжденным «орденом крови», приходилось считаться: по статусу этого ордена он имел доступ непосредственно к самому Гитлеру.
Теперь Дитц возвращался откровенным хозяином Львова – Лемберга.
Полюбовавшись панорамой города, Дитц снова залез в коляску мотоцикла. Она накренилась под его тучным телом. Махнув стеком на восток, штурмбанфюрер скомандовал:
– Вайтер!
Водитель дал газ, и мотоцикл, оставляя позади клубы бензинового перегара, помчался во главе колонны немецких военных разведчиков и особой карательной группы к холмам Львова...
В это время во дворе большого дома на Курковой улице, недавно оставленного советской воинской частью, переодетый в штатскую одежду Садаклий, бригадир Го* луб и приданная им группа будущих партизан торопливо подтаскивали к открытому люку городской канализации оцинкованные ящики с оружейными патронами, длин* ные, похожие на гробы, деревянные ящики с ручными гранатами и винтовками. Руки невидимых людей осторожно принимали ценную кладь.
Садаклий охотно согласился с предложением Голуба спрятать в разветвленной городской канализации Львова «про запас> многое из того, что не могли захватить с собой уходящие на восток войска.
Под городом, закованная в бетон, протекала река Полтва. Начинаясь на околице лесопарка Погулянка, она и доныне пересекает на глубине нескольких метров весь город и вырывается из железобетонного канала на другой стороне, в северных кварталах предместья Замар-стинов. А от Полтвы во все стороны расходятся более мелкие каналы – коллекторы, по которым человек сведущий может при желании пробраться в любой район города.
Садаклий, утирая пот рукавом пиджака, с удовольствием отметил, что последний ящик с патронами исчез под землей.
– Як то кажуть: боже, поможи, а ты, небоже, не ле...– Голуб не успел закончить шутливой фразы, ворота затряслись от тяжелых и резких ударов.
Грицько Щирба, который некогда поздравлял в Ту-лиголовах Иванну с поступлением в университет, подбежал к Голубу:
– То уже они, дядько Панасе. Вяжить мене.
Садаклий и Голуб быстро перевязали Щирбу предназначенной для этой цели веревкой и повалили его на землю. Было заранее обусловлено: Щирба поступит на службу к немцам, чтобы, надев полицейский мундир, быть глазами и ушами партизан.
Когда крышка люка захлопнулась за последним исчезнувшим под землей подпольщиком, Грицько подполз к ней, прикрыв люк своим телом...
Отряд украинской полиции во главе с сотником Каб-лаком вовсю штурмовал тяжелые ворота дома на Курковой. Каблак был уже в полной форме – в черном мундире, рогатой «мазепинке», напоминающей шапки, что носили украинские националисты, служившие еще в австрийской армии в первую мировую войну. Золоченый трезубец – герб националистов – виднелся на черном сукне «мазепинки». Каблака, вооруженного немецким автоматом, как и других диверсантов, немцы забросили сюда на парашютах еще до вторжения.
– Вот зараза! Не открываются! – выругался Каблак и в остервенении дал очередь по воротам из автомата.
Одна из пуль, пробив ворота, скользнула по щеке лежащего во дворе Щирбы. Белая бороздка, которую прочертила в коже пуля, стала постепенно наполняться кровью.
– Пане сотнику, так мы проволыним тут до страшного суда! – крикнул Каблаку мордастый детина с узкими, заплывшими глазками.– Давайте я с горы заберусь во двор и открою!
Действительно, обогнув двор со стороны соседнего парка, полицай проник во двор бывшей воинской части через пролом в заборе. Изнутри ему ничего не стоило отодвинуть запор. Ворвавшись во двор, Каблак заметил распростертого на крышке люка Щирбу.
– Кто тебя повязал, хлопче? – спросил он, остановившись над лежащим.
– Кто, кто! – раздраженно ответил Щирба, силясь сам освободиться от веревок.– Будто сами не знаете кто! Большевики повязали!.. Да развяжите скорее, холера ясна, хоть кровь сотру.
Когда его развязали, он прижал платок к пораненной щеке и, тяжело дыша, посмотрел на Каблака – никто бы не мог заподозрить в этом парне сообщника тех, кто несколько минут назад скрылся под землей.
– Пойдем с нами, хлопче, раз такое дело,– милостиво сказал Каблак.– Ты пострадал от них и теперь будешь биться за неньку Украину, как рыцарь Перебийнос...
В это время Голуб уже действовал во дворе «Гастронома» на углу улиц Килинского и бывшей Легионов. Снаружи магазин штурмовала шумовина (накипь) Львова. Проникая к прилавкам через разбитые стеклянные витрины, отребье города наполняло мешки окороками, пачками крокета, банками с вареньем и кругами колбасы салями.