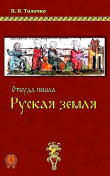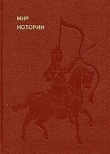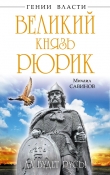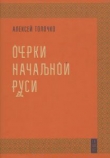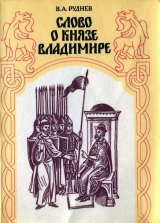
Текст книги "Слово о князе Владимире"
Автор книги: Владимир Руднев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Осада и взятие Корсуни
В 987–989 годах в Киевском государстве произошли события поистине революционные, изменившие древние устои языческой Руси, жизнь Киева и самого князя – главы и вдохновителя коренных религиозно-политических преобразований.
Жизнь требовала скорейшего введения христианства в государстве. На решительные шаги Владимира подталкивали в первую очередь внешние обстоятельства. Чтобы иметь беспрепятственный доступ русских купцов в византийские города, получить свободный выход в Причерноморье и па Дунай, необходимо было установить с Константинополем равноправные, союзнические отношения. Однако империя не торопилась признать Русь, относясь к ней как к стране «варварской», «незнаемой», «незначительной». Вот если бы она стала христианским государством, приняв новую религию из рук императора, тогда с ней можно было бы считаться, как, скажем, со Священной Римской империей.
Созрели для введения «греческой» веры и внутренние условия. Православие уже получило широкое распространение в русских городах, ведь еще бабка Владимира – Ольга крестила все свое окружение и даже внуков своих – Прополка и Олега. Оставалось лишь узаконить то, что уже давно существовало, учредив правящую, или Князеву, церковь.
Оттягивать с решением вопроса нельзя было и по той причине, что дружина Владимира Святославича в религиозном отношении не представляла собой единого, сплоченного войска, разделялась на последователей язычества и христианства. Особенно это проявлялось тогда, когда принимались клятвы перед боем или воздавались благодарения за одержанные над врагом победы: одна часть дружины следовала на Гору к требищу и статуе Перуна, а другая – в христианский храм на Подоле.
Таким образом, налицо были все условия для принятия новой веры. Но учредить ее собирались под эгидой не византийского императора, а константинопольской церкви. Оставалось лишь найти подходящий для осуществления замысла способ.
Удобный случай вскоре представился. В начале 987 года в Киев нагрянуло великое греческое посольство с богатыми дарами и посланием от императора Василия II, в котором он слезно молил «царя русов» оказать ему срочную военную помощь в подавлении восстания малоазийского сатрапа Варды Фоки, угрожавшего сместить Василия с престола. За эту услугу император обещал пойти на любые условия и уступки вплоть до признания Владимира «великим царем русов», если только тот примет крещение. В составе великого посольства находились и корсуньские священники, в том числе пресвитер Анастас, хорошо знавший русское богослужение.
И вот тут-то, вернее всего, в княжеском окружении возникла идея женитьбы Владимира на греческой царевне Анне, объявленной сестрой самого императора. Все выгоды такого брака были, что называется, налицо: Владимир становился шурином Василия II и мог как равный ему управлять не только своим государством, но и новой государственной церковью. Немалые преимущества мог получить он и в торговле со всем Причерноморьем, закрепившись на Азове, в Крыму и на Дунае. Русские изложили греческим послам свое требование.
И тем ничего не оставалось, как проинформировать обо всем самого императора. Можно лишь удивляться тому, как скоро из Константинополя был получен положительный ответ на условия киевского князя. Владимир же, не медля ни дня, сформировал шеститысячный корпус из своих дружин и отправил его к Черному морю по Днепру, с ним же в Царьград отбыло восвояси и греческое посольство. А корсуньские попы и епископ Анастас остались в Киеве, чтобы подготовить Владимира Святославича к торжественному событию. С этого времени Анастас войдет в доверие и станет служить князю до тех пор, пока сочтет нужным.
Вся зима 988 года прошла в ожидании вестей из Константинополя. Наконец пришло известие о том, что войска Варды Фоки разгромлены и русские воины, сыгравшие в этом решающую роль, возвращаются обратно.
Империя и ее император были спасены, но о выполнении своих обещаний в Константинополе и не помышляли. Еще ранее было условлено, что Анна должна прибыть в Киев до начала лета того же года. Чтобы обезопасить ее путь от нападения печенегов, Владимир с дружиной отправляется ей навстречу и до конца лета понапрасну ожидает царевну у порогов: она так и не появилась. Таким образом, ни о каком «крещении Руси» в то лето не могло быть и речи.
По возвращении в столицу Владимир, еще раз испытавший лицемерие и коварство византийских политиков, объявил о решении пойти на Корсунь, чтобы показать Царьграду свою силу и решимость отстаивать собственные интересы до конца. Поход намечался на весну 989, а не 988 года, как полагает летописец, допуская явную ошибку: византийские хроники помечают корсуньскую кампанию именно 989 годом, подробно описывая все, что происходило в те дни и недели и в Корсуни, и в Константинополе.
Мельчайшие детали предстоящего похода были тщательно продуманы. Теперь Владимир Святославич обладал вполне достаточным опытом проведения дальних военных экспедиций и посуху, и по воде. И все же на сей раз предстояло нечто новое – атаковать и захватить с моря крепость, считавшуюся неприступной. Для успеха операции необходимо было изучить все окольные подходы к Корсуни и с моря, и с суши и, кроме того, провести в полной тайне переброску по Днепру и по морю более чем тридцатитысячного войска, на перевозку которого снарядили более восьми тысяч кораблей. Одновременно готовилась и конница для обеспечения безопасности продвижения отрядов по реке.
Военные силы при Владимире Святославиче состояли из княжеской дружины, а также ополчений и войсковых гарнизонов в городах и крепостях, где они формировались из местного населения. Основой армии оставалась княжеская дружина как регулярный вид войска, делившаяся на старшую и молодшую.
Старшая дружина являлась привилегированной частью армии, ее высшим, или командным, слоем. Она состояла из приближенных князя, преимущественно из представителей боярского сословия и из потомственных служилых (княжьих) людей. Из ее среды назначались воеводы в города и заставы, а также члены военного совета. При Владимире усилился процесс обрастания дружины недвижимым имуществом и землями, и она, постепенно сливаясь с боярством, высвобождается из-под княжеской опеки.
Младшая, или молодшая, дружина представляла собой контингент постоянного войска, набираемый из княжеской и боярской челяди, купечества и горожан. В ее составе имелись формирования мечников, лучников и копьевщиков. Особо отличившихся в боях зачисляли нередко в старшую дружину.
Кроме княжеской дружины на время войны создавались ополчения из жителей городов и сел, делившиеся на сотни и тысячи во главе с сотскими и тысяцкими. Рядовых ополчения называли воями. Существовали также и временные формирования – наемные отряды и дружины, в которые за деньги шли служить иноземцы – варяги, прибалты, кочевники тюркских племен. В частности, торки и берендеи нанимались для защиты южных границ Руси от тех же печенегов или половцев. Дикое Поле, где обитали кочевники, являлось постоянным поставщиком боевых коней для княжеской конницы.
Существовал у князя и мощный по тем временам флот, который был незаменим при переброске крупных военных сил на большие расстояния. Не имея значительного количества различного типа судов, было бы немыслимо за неполное десятилетие сделать то, что удалось Владимиру – объединить славянские племена междуречья Днепра и Волги, подчинить все народы, обитавшие в Поволжье вплоть до берегов Каспийского моря, покорить волжских болгар, усмирить Хазарский каганат, умиротворить ятвягов (литовцев), косогов и печенегов, совершить военные походы на Дунай, в балтийское Поморье и в северные земли Приильменья. И наконец, двинуться в Крым и взять считавшуюся неприступной византийскую крепость Херсонес (Корсунь).
Мореходство и судостроение среди восточных славян зародились в начале первого тысячелетия. Из греческих и византийских источников мы узнаем, что наиболее древним судном у этого народа является «корабь», сооружавшийся из гибких ивовых прутьев и обшитый корой или кожами. Он напоминал пироги индейцев и каяки эскимосов, был чрезвычайно легким, удобным при переноске через бесчисленные волоки и пороги, но малоостойчивым, маловместительным и почти непригодным для плавания в открытом море. Позднее появилось более совершенное судно – лодка, или лодья-однодревка, изготовлявшаяся из огромных древесных стволов, выдолбленных внутри и обтесанных снаружи. Она вмещала большее количество людей и груза, но, как и «корабь», еще не была пригодной для плавания по морям. Наконец, ко времени первых походов на Царьград киевские князья располагали наиболее совершенными судами как для речной торговли, так и для плавания по морям. Это были так называемые «набойные лодьи», по существу – высокобортные шлюпки. Они обшивались внаклад досками и смолились смолой и дегтем. Их называли по-разному – лодьями (ладьями) морскими или заморскими, стругами, челнами. Кроме того, широко использовались в русских походах скандинавские шнеки, новгородские лойвы и ушкуи, а также греческие триеры и дромоны – предшественницы черноморских шаланд.
Какова же была грузоподъемность этих судов? В договоре Олега с греками 907 года говорилось: «…а в корабли помещалось по 40 муж». Из сочинений Константина Багрянородного узнаем, что па 7 русских судах помещалось 415 воинов, а на 10–12 – 629. Получается, что в среднем они могли принять на борт по 40–60 человек каждое. А для набегов на Царьград киевские князья располагали флотом в несколько тысяч кораблей.
Обычно, спустившись по Днепру к морю, русское войско и корабли делали последнюю стоянку на острове Евферия. Здесь флот оснащался парусами, веслами и якорями, а также катками-колесами для волоков и таранами. Для увеличения непотопляемости и остойчивости корабли обвязывали по бортам связками сухого камыша – черета. Во время плавания по морю старались не удаляться от суши. Ориентиром служили знакомые очертания берегов, звезды или солнце.
Неповторимое своеобразие русского флота определялось характером рельефа русской равнины, особенностями взаимного расположения политических центров
Руси, отстоявших довольно далеко от моря – Киева, Переяславля, Чернигова, Ростова, Смоленска, Пскова, Новгорода, Полоцка, Червена, Перемышля и других. Отсюда и отличительные черты русских кораблей. Пороги и волоки требовали плоскодонных судов с минимальной осадкой и сравнительно небольших размеров. В то же время они должны были быть достаточно грузоподъемны, дешевы и просты в постройке, пригодны для плавания и по рекам, и по морю.
Легкость, подвижность и быстроходность таких судов диктовали и соответствующую тактику русских на море. «Полная неожиданность похода, стремительность атаки, возможность быстрого отступления в открытое море или к мелководным побережьям, плавням и речным устьям, где не в состоянии были бы настигнуть их тяжелые суда греческого флота, – такова была тактика наших предков, – отмечал русский историк Н. П. Загоскин, – требовавшая флота если и многочисленного («покрыли суть море корабли» – говорится про поход Игоря 945 года), но вместе с тем не громоздкого, легкого и подвижного, способного, смотря по обстоятельствам, идти как на веслах, так и под парусами».
В бою русские стремились разгромить врага, используя момент внезапности. Быстро нападали, пытаясь сойтись с противником борт о борт, взять его на абордаж, при неудаче так же быстро отходили, рассыпаясь по морю и стараясь ускользнуть от преследования[6]6
Типичным примером такого боя на море явилось сражение у Царь-града в 1043 г. Целый день греческие триремы не решались нападать на русских, выстроившихся перед ними фронтом. Лишь вечером их тяжелые суда устремились в атаку. Камнеметные машины, «греческий огонь» и страшная буря сделали свое дело. С большими потерями русские отошли в бухту. Но когда византийский адмирал Феодорокан увлекся погоней, русские, используя свое превосходство в маневренности и быстроходности, вступили в бой, разгромили греков, пустили ко дну несколько неприятельских судов, четыре галеры захватили и убили самого Феодорокана.
[Закрыть].
Основным принципом ведения войны в Древней Руси было единство военных действий на суше и на море. Рейды предпринимались одновременно и по земле, и по воде: поход по суше превращался в морской, а морской сопровождался или заканчивался военными действиями на суше. С судов высаживались десанты, в том числе конница.
Среди воинства Древней Руси никакого деления на сухопутное и морское не было и быть не могло. Один и тот же воин по мере надобности сражался и на земле, и на воде. Этим отличалось русское военное искусство от стратегии и тактики всех европейских государств. Верность его традициям, его постоянное развитие обусловили впоследствии многочисленные победы России на суше и на море, выдвинули целую плеяду великих полководцев и флотоводцев, исповедовавших унаследованную от своих далеких предков тактику единства морского и сухопутного боя. «Русь шла своим самобытным путем, отнюдь не отгораживаясь от соседей, заимствуя у них и, в свою очередь, передавая им свои навыки, свой опыт, свое искусство, создавая оригинальные суда и своеобразную морскую тактику, эффектную и живучую, унаследованную в модифицированном виде и днепровскими казаками и галерным флотом Петра, и превзойдя многие народы в области судостроения как по качеству, так и по количеству судов, а главное, в мореходном искусстве и морской доблести, заслуженно вошла в историю как страна предприимчивых и доблестных «пенителей морей». Так характеризует В. В. Мавродин особенности флотоводческого дела на Руси.
Великое множество больших и малых судов строилось на всем днепровском пути от Ладоги и Чудского озера до Смоленска, Чернигова и Киева. Сюда же сходились корабли, сработанные на притоках Днепра и Западной Двины. Их поставляли корабелы устюжане, псковари, жившие по реке Великой и ее притоку Пскове[7]7
Кличка «псковари» перешла в «скобари» из-за обычая, распространенного среди псковских плотников: носить свои острые плотницкие топоры в деревянных скобах, чтобы они пе тупились. Про них говорили: «Эвот, пошли скобари терема строить!»
[Закрыть].
В строительстве кораблей принимали непосредственное участие и смоленские смолокуры – добытчики дегтя, мастера смолить ладьи, и вятичи – приокские мастера одно-древков.
Вся Русь строила и города, и корабли. Именно такой представляет нам ее и наш ученый-этнограф и художник Н. К. Рерих. С присущим ему даром проникновения в русскую старину отображает он в ранний период своего творчества неуемную силу и энергию созидания русских людей, возводивших новые города и крепости, делавших первоклассные по тем временам корабли. Вот лишь некоторые сюжеты его картин: «Утро богатырства киевского», «Старая Ладога», «Красные паруса», «Город строят», «Строят ладьи», «Волокут волоком», «Смолокуры» и др.
Движение армады кораблей в те времена являло собой впечатляющее зрелище. Вот как поэтически образно, романтически красочно описывает Николай Рерих эту картину: «…длинными рядами идут ладьи: яркие раскраски горят на солнце. Лихо завернулись носовые борта, завершившись высоким стройным носом – драконом. Полосы красные, зеленые, желтые и синие наведены вдоль ладьи. У дракона пасть красная, горло синее, грива и перья зеленые. На килевом бревне пустого места не видно – все резное: крестики, точки, кружки переплетаются в самый сложный узор… Около носа и кормы, на ладье щиты навешаны, горят под солнцем. Паруса своей пестротою наводят страх на врагов, на верхней белой кайме нашиты красные круги и разводы, сам парус редко одноцветен – чаще он полосатый, полосы на нем или вдоль или поперек, как придется…
Стихнет ветер – дружно подымутся весла, как одновременно бьют они по воде, несут ладьи по Волхову, Ильменю, Ловати, Днепру – в самый Царь-град…»
Это описание можно было бы дополнить некоторыми деталями: обычно большие многовесельные парусные ладьи сопровождались легкими верткими и быстрыми, как челноки, однодревками, то вырывающимися вперед, то возвращающимися к главным силам. При высадке на берег десанта они являлись незаменимыми.
Из всего сказанного о военных силах русских становится ясно, насколько серьезную угрозу создавали они для любого противника в случае войны. А что же представлял собой город, на который собирался двинуть свое войско Владимир?
Корсунь со времени ее основания греческими колонистами в V веке до н. э. (греки назвали колонию Херсонес) являлась полисом-крепостью, защищенным со всех сторон мощными оборонительными сооружениями. Свободолюбивое многоязычное население города на протяжении почти полутора тысяч лет защищало свои порядки и свободу, выработав тактику борьбы не только с самой митрополией – Византией, но и с кочевниками Причерноморья – сарматами, аварами, хазарами и печенегами. В этом богатом торговом порту издавна селились мореходы, торговцы и ремесленники из многих земель, в том числе и из Поднепровья, а ко времени описываемых нами событий его славянское население было весьма значительным, по преимуществу христианским, имело свои приходы и храмы. Именно здесь поначалу появилась славянская письменность и книжное богослужение на болгарском языке, заимствованное из Болгарии.
Как всякий торговый морской полис, Корсунь превыше всего ценила свою свободу и независимость от какой бы то ни было деспотии. Ее правители (архонты) издавна избирались всем населением и присягали на верность своему городу, произнося клятву: «Не предам Херсонес!»
Империи приходилось считаться с этим, так как императоры боялись потерять чрезвычайно важную колонию на северном побережье Черного моря, обеспечивавшую метрополию жизненно необходимыми товарами и продуктами, прежде всего хлебом, рыбой, медом, воском, которые поступали сюда из Поднепровья. Поэтому и для киевских князей Крым и особенно Корсунь приобретали все большую важность для развития торговли со всеми странами Причерноморья, да и не только его. Здесь сходились торговые речные пути Днепра, Буга, Дона, отсюда русские купцы отправляли свои товары в придунайские земли, в Византию, Армению, в средиземноморские государства.
Значение Корсуни определялось также и ее ключевым географическим положением. Располагаясь в устье Днепра, она запирала выход в море. Тот, кто владел крепостью, обладал мощным средством воздействия на стратегическую обстановку в обширном районе.
Кроме того, с незапамятных времен город являлся своеобразным плацдармом распространения христианской религии среди языческих народов. Именно отсюда, согласно церковной традиции, в I веке новой эры христианство начало проникать во все греческие колонии Причерноморья и Приазовья. Римляне сделали Херсонес местом ссылки христиан. Так, сюда была сослана племянница римских императоров Тита и Домициана – Флавия Домитилла за приверженность христовой вере, в годы правления Траяна здесь отбывал заключение римский епископ святой Климент, работавший как простой раб в местных каменоломнях[8]8
Климент якобы основал в Крыму 75 церквей, за что был сброшен в море с железным якорем на шее. Однако его «нетленные» мощи будто бы извлекли из морской пучины, и в IX в. святой Кирилл Философ перевез их в Рим. Но часть мощей осталась в Корсуни, откуда и была доставлена в Киев Владимиром Святославичем после взятия этой крепости.
[Закрыть].
В этом городе возникли еще в конце IX века первые русские церковные общины и церкви. Отсюда же пришли на Русь и многие миссионеры-христиане. И отторжение города, игравшего роль центра религиозно-миссионерской деятельности, не могло не ослабить позиции Константинополя.
Все это учитывал киевский князь и поступил очень умно, выбрав в качестве объекта военного удара не Царьград, а Корсунь.
Как ни скрытничал Владимир, но сохранить в тайне переброску такого большого войска оказалось невозможным, так как лазутчики императора постарались сообщить об этом эстафетой в Константинополь. К устью Днепра был спешно направлен флот Василия II, чтобы запереть выход русским кораблям в море. Но греки опоздали. Княжеский флот уже подходил к крымским берегам, приближаясь к Херсонесу.
Владимиру стало известно, что в Херсонесской (ныне Севастопольской) бухте находится значительное число греческих боевых кораблей, охраняющих подступы к крепости с моря, поэтому он сначала предпринял высадку своих войск на отлогом берегу в тридцати километрах от Корсуни, намереваясь затем взять ее в кольцо осады как с суши, так и с моря.
Осада Корсуни оказалась долгой и изнурительной для обеих сторон. Наступило знойное крымское лето, тянулись дни за днями, а крепость отражала все атаки русских сотен и тысяч. Стены ее были сложены из каменных блоков, толщина стен достигала трех метров, к тому же город имел двойную и тройную систему земляных и каменных оборонительных поясов, пробиться сквозь которые без наличия мощных стенобитных орудий было просто невозможно. Недаром эти стены выдерживали приступы вражеских полчищ на протяжении многих предшествующих веков.
Греческий гарнизон оборонялся стойко и умело, имея запасы продовольствия на целые годы, и Владимир крепко задумался над тем, как овладеть цитаделью, сохранив живую силу. Ведь на подход свежих сил ему не приходилось теперь рассчитывать. И тут он вспомнил, что в Корсуни находится тот самый Анастас, с которым князь еще недавно встречался в Киеве. Помнится, пресвитер предлагал свои услуги в любом предприятии против Константинополя и самого аскетичного, коварного и лицемерного императора Василия II. Решили непременно связаться с ним, послав в Корсунь своего лазутчика.
Тем временем Владимир задумал испытать еще один способ овладения крепостью: возвести у ее стен земляную насыпь до их верхнего уровня и по ней прорваться в город. За день с большим трудом едва удавалось насыпать земляную гору, но всякий раз за ночь она исчезала. Защитники города подкапывались под стены и корзинами оттаскивали землю внутрь цитадели. Все это походило на чудо.
Штурм возобновился с новой силой. И вот во время очередного приступа неподалеку от Владимира упала выпущенная сообщником Анастаса варягом Ждьберном стрела с привязанной к древку запиской. Записку тут же перевели. В ней Анастас сообщал: «Перекопай и перейми воду из колодца, лежащего от тебя к востоку, из него по трубе вода идет в город».
Прочитав послание, князь воспрянул духом и якобы воскликнул: «Если от этого Корсунь сдастся, то я сам крещусь!» Судя по этим словам, приводимым летописцем, тогда «царь русов» еще не принял крещения.
Указанный в записке колодец вскоре обнаружили, а трубы, идущие от него в город, перекрыли. Спустя несколько дней горожане, лишенные воды и изнемогшие от невыносимой жары, какая обычно наступает здесь в разгар лета, сдались на милость противнику.
Владимир торжественно вошел с дружинами в город. На улицах его встречало духовенство во главе с Анастасом, благодаря бога за сохранение жизней населения и за то, что победитель оказался добрым и милостивым, чего тут отродясь не бывало. Подавленное состояние жителей, ожидавших самого худшего, вскоре сменилось всеобщим ликованием. А Владимир Святославич, пребывая в великой радости и гордости, посылает в Константинополь нарочных с письменным сообщением: «Вот взял уже ваш город славный; слышал же, что имеете сестру девицу; если не отдадите ее за меня, то сделаю столице вашей то же, что и этому городу». Трудно судить, так ли все было, поверим летописцу на слово. И все-таки император получил нечто похожее на это сообщение из Корсуни, иначе он не стал бы срочно отправлять в Херсонес своих послов на переговоры с Владимиром, чтобы потянуть время и выторговать наиболее выгодные условия выдачи царевны за напористого и опасного «царя русов». Ответ на ультиматум Владимира, как приводит его летописец, был таким: «По пристало христианам выдавать жен за язычников». Тогда князь заявил послам: «Скажите царям вашим так: я крещусь, ибо еще прежде испытал закон ваш и люба мне вера ваша и богослужение, о котором рассказали мне посланные нами мужи». И снова из Константинополя: «Крестись, и тогда пошлем сестру свою к тебе». Но Владимир стоит на своем: «Придите с сестрою вашею и тогда крестите меня».
Пока шли препирательства, в Корсуни происходили более важные события: обсуждалось положение дел в торговле русских купцов в городах Причерноморья, в самом Царьграде и на Дунае. Одновременно с приехавшими сюда сановниками греческого патриарха решался вопрос об учреждении греко-православной митрополии в Киеве. Да и вообще в Корсуни творилось нечто доселе невиданное: пока Владимир ожидал приезда греческой царевны, в город прибывали все новые депутации из многих стран, чтобы представиться Владимиру Святославичу как сокрушителю могущества Византии и заявить о своих союзнических намерениях. Сюда пожаловали посланцы Болеслава Лядьского (Польша), Стефана Угорьского (Венгрия), Андриха Чешского (Чехия), императора германского Оттона III и папы римского Сильвестра II. Они хотели склонить киевского князя к принятию католичества, обещая ему покровительство и римской церкви, и всего католического Запада. По-видимому, именно это заставило императора Василия II поспешить с заключением мира и отправкой Анны в Корсунь вместе с сановниками и пресвитерами.
Имея о Владимире представление как о кровожадном человеке, новом Аттиле, Анна, естественно, упиралась и не хотела покидать своих близких: «Иду, как в полон, лучше бы мне здесь умереть». И тогда принимались всячески увещевать ее: «Может быть, обратит тобою бог Русскую землю к покаянию, а Греческую землю избавишь от ужасной войны».
А ведь и впрямь положение Византии было крайне неустойчивым и могло стать критическим, если бы Владимир в союзе с другими странами Европы направил свои силы на Дунай. Понимая это, император и весь его двор все же принудили Анну отправиться в Херсонес. «Она же села в корабль, попрощалась с ближними своими с плачем и отправилась через море. И пришла в Корсунь, и вышли корсунцы навстречу ей с поклоном, и ввели ее в город, и посадили ее в палате. По божественному промыслу разболелся в то время Владимир глазами и не видел ничего, и скорбел сильно и не знал, что сделать. И послала к нему царица сказать: «Если хочешь избавиться от болезни этой, то крестись поскорей; если же не крестишься, то не избудешь недуга своего».
Вот ведь сколько пришлось упрашивать Владимира, чтобы он все-таки крестился. И теперь, наконец, это свершилось: «Епископ же корсунский с царицыными попами, огласив, крестил Владимира. И когда возложил руку на него, тотчас же прозрел Владимир». Развивая тему, автор летописи приводит и такие подробности: «Крестился же он в церкви святого Василия, а стоит церковь та в городе Корсуни посреди града, где собираются корсунцы на торг; палата же Владимира стоит с края церкви и до наших дней, а царицына палата – за алтарем».
Самым любопытным в описании данных событий представляется нам следующее рассуждение летописца: «Не знающие же истины говорят, что крестился Владимир в Киеве, иные же говорят – в Васильеве, а другие и по-иному скажут…». Значит, существуют на этот счет разные точки зрения. Так когда и где в действительности крестился киевский князь? После взятия Корсуни или до корсуньского похода? В самой Корсуни или где-то еще? Над этими вопросами ломали головы многие наши историки, но так и не пришли к единому мнению. Так же как и в отношении крещения бабки Владимира – княгини Ольги. Если верить сведениям различных источников, то выходит, что оба крестились дважды. А ведь так и могло быть на самом деле. Не исключено, что Владимир Святославич первый раз принял православие в Киеве. За это говорит следующий факт.
Христианская церковь как таковая еще нс существовала на Руси из-за отсутствия официального ее учреждения как митрополии византийской либо римской церкви, и поэтому то крещение, которое практиковалось в киевских или иных храмах, не признавалось действительным в Византии, тем более если вопрос касался «игемонов» (государей) русских. Вот почему и Ольге и ее внуку пришлось перекрещиваться по всем правилам византийского церковного обряда. Актом крещения устанавливался патронат греческого императора и его церкви и над самими «игемонами», и над Киевской Русью. Ведь именно на этом настаивал византийский император Василий II, когда предлагал Владимиру принять крещение в главном храме Корсуни от греческого духовенства и взять имя их общего святого покровителя – Василия. И князю пришлось сделать такую уступку ради достижения главной цели – быть признанным наравне со всеми европейскими государями.
Таким образом, и корсуньское крещение, и венчание с Анной явились исходным актом введения греко-православной митрополии на Руси. Теперь Владимир мог возвращаться в Киев в новом качестве реформатора, вместе с вновь обретенной супругой и греческим духовенством – корсуньскими священнослужителями, в числе которых были Анастас и Иоаким, ставшие первыми русскими епископами.
Какие выгоды, конфессионные и политические, получала Русь от перехода в новую веру? Русская церковь учреждалась как самоуправляемая и национальная с точки зрения богослужебной практики, а киевский князь обретал статус суверенного государя своей страны, имеющего теперь равные со всеми европейскими государствами права в решении всех межгосударственных вопросов. Принятие христианства сулило и иные преимущества, открывающие широкие перспективы в культурном обмене со всеми европейскими странами, в распространении славянской письменности, учреждении школ, строительстве церквей и монастырей, словом, всего того, что выводило Русь на новые исторические рубежи в развитии феодализма.
Согласно летописи, и самому Владимиру новая религия принесла пользу – он чудесным образом прозрел! Здесь следует сказать, что и его слепота, и его «исцеление» могли произойти по самым что ни на есть естественным причинам. Кратковременная потеря зрения, или «куриная слепота», как раз характерна для этого приморского района и вызывается укусами москитов. Болезнь, называемая здесь «москитной», поражает тех, кто приезжает сюда впервые и проходит период акклиматизации. Этим заболеванием и поныне страдают матросы Черноморского флота, начинающие свою службу в Севастополе или Балаклаве.
А что известно о жене князя, той, которую называли сестрой обоих императоров – Василия II и Константина VII, правившего после него? Бала она, если верить летописям и византийским хроникам, дочерью коварной Феофано – жены императора Никифора, убитого своим двоюродным братом Цимисхием, состоявшим в заговоре с Феофано. Она же приходилась сестрой Феофании, выданной замуж за германского императора Генриха II. Однако в «Повести временных лет» мы находим довольно странное утверждение о том, что Анна являлась не гречанкой («грекиней»), а болгаркой («болгарыней»). Так, перечисляя всех сыновей Владимира, родившихся от разных жен, Нестор говорит буквально следующее: «…а от болгарыни имел он двух сыновей: Бориса и Глеба». Может быть, Нестор ошибся или оговорился? Или эту ошибку допустили переписчики «Повести» либо ее последующие редакторы?
И тут напрашивается еще одна версия о происхождении царевны. Вполне вероятно, что Анну выдавали за сестру императоров потому, что она являлась дочерью не византийки Феофано, как принято было считать, а болгарского царя Бориса, которого император Иван Цимисхий пленил в 972 году вместе со всем семейством и перевел на жительство в Константинополь. После гибели Бориса его дети жили при императорском дворе на правах царских отпрысков, от имени которых империя правила болгарами. Вследствие этого Анну и выдавали за сестру Василия II. Ведь не случайно и то, что вместе с нею в Корсунь прибыло большое число болгарских священников. И наконец, еще один довод в пользу нашей версии: обоим сыновьям Анны дали болгарские имена, а первенца назвали в честь болгарского царя Бориса.