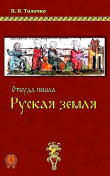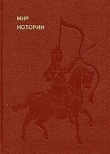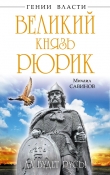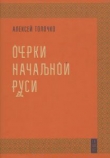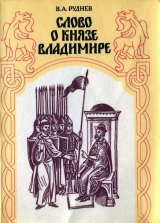
Текст книги "Слово о князе Владимире"
Автор книги: Владимир Руднев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
Се аз и дети…
В те далекие времена, о которых мы ведем речь, вырастить детей, воспитать их достойным образом, поставить на ноги, «вывести в люди» считалось главным делом жизни каждого уважающего себя человека. Продолжение рода, генеалогического древа, начатого далекими щурами и пращурами, было вопросом семейной чести, нравственным долгом, первейшей общественной обязанностью. И всякий достойный муж стремился прожить свою жизнь так, чтобы, подводя ее итог, с гордостью сказать: «Се аз и дети!» Вот, мол, я весь перед вами, а это дети мои.
Настала пора и для Владимира Святославича оглянуться на пройденный путь и поразмыслить о будущем своих детей, которых у него было немало. Одних только сыновей, что находились при нем, насчитывалось двенадцать.
И все это – княжеские отпрыски. Отцовский долг требовал соответствующим образом позаботиться о каждом. Нельзя не учитывать и тех, кто родился от наложниц или челядинок. И хотя князь теперь звался христианином, прежние, «языческие» браки обязывали ко многому, и он проявил большое душевное благородство по отношению ко всем своим детям – никого не обошел, никого не обидел. Даже тогда, когда его приемыш – Святополк вступил с врагами в заговор, чтобы захватить престол, Владимир не казнил изменника, а, продержав около года в темнице, выпустил на все четыре стороны. Однако от сыновей он требовал полного послушания и умел поставить на своем, если кто-либо из них норовил ему перечить.
Прошло два десятилетия с той поры, когда он утвердился в Киеве и за многими делами и войнами не заметил, как парни подросли, а старшие и вовсе повзрослели. Все они содержались и воспитывались при княжеском дворе, и при каждом, как водится, находился дядька-наставник. По всей видимости, Владимир Святославич общался с сыновьями весьма редко за недосугом, но то, что он о них помнил постоянно – это бесспорно. И теперь, когда настало время подумать о сохранении своей власти над столькими городами и землями, князь все более присматривался к каждому, прикидывая, кого куда лучше назначить наместником или посадником. Владимир часто наведывался к ним в «отний» дом на Старокиевской горе, интересовался, как они обучаются грамоте и книжному чтению, умеют ли сидеть в седле и владеть оружием. Не мог не заметить, что все были разными, непохожими друг на друга, и даже Рогнедины дети сильно рознились между собой во всем.
Изяслав выглядел довольно хилым и малоподвижным. Отца сторонился и боялся. Зато ходил в любимцах у матери. Полной противоположностью ему оказался Ярослав – чрезвычайно подвижный и шустрый, несмотря на хромоту (повредил ногу в раннем детстве), превосходный наездник. Кроме того, юноша с малых лет пристрастился к книгам и овладел несколькими языками – свободно читал византийские, немецкие, латинские и иные рукописные тексты. Думал ли тогда родитель, что именно этот неказистый паренек будет его верным последователем и во многом превзойдет отца, более того, станет единственным продолжателем всего княжеского рода? Мстислав отличался от остальных братьев поистине богатырской силой и красотой. Вот как его характеризовал сам летописец: «Был же Мстислав дебел телом, прекрасен лицом, с большими очами, храбр на ратях, милостив, любил дружину без меры, имения для нее не щадил, ни в питье, ни в пище ничего не запрещал ей». Мстислав оказался последним соперником Ярослава в борьбе за отцовское наследство. После долгой войны между ними произошел первый раздел Киевского государства по Днепру. Правобережье с Киевом отошло к Ярославу, а левобережье с Черниговом – Мстиславу. И только после его смерти в 1036 году Ярослав стал безраздельно властвовать на всей территории Руси.
Подбирая кандидата на то или иное место, Владимир Святославич прежде всего исходил из личных качеств каждого из своих отпрысков и значимости данного края или города для Киева. Не выделяя особо кого-то из сыновей, он не назначал и преемника на киевский престол, нарушив традицию, существовавшую до него и продолженную после его смерти. Вероятно, не видел никого, кто мог бы претендовать на роль главы государства.
В Новгород Владимир посадил старшего по возрасту – Вышеслава, рожденного варяжкой Оловой. Однако тот вскоре умер, и новгородским наместником пришлось сделать Ярослава – сына Рогнеды, переведя его из Ростова. А в Ростове сел Борис – старший сын Анны. Другой сын Рогнеды – Изяслав был назначен в Полоцк, тот самый отдаленный угол северо-западной Руси, где целые столетия после него гнездились своевольные и удалые потомки.
Самого младшего сына Глеба Владимир назначил наместником в Муроме, расположенном на восточной окраине княжества, в глухом лесном краю, жители которого имели независимый норов, отразившийся в характере былинного богатыря Ильи Муромца. Очень скоро и этот княжеский отпрыск возымел амбиции в отношении Киева и вступил в тайный союз с Ярославом.
Наместником в древлянской земле стал сын Владимира от древлянки Малфриды Святослав. Его положение с самого начала было весьма неустойчивым, и само назначение к древлянам, утратившим со времен походов в эти края княгини Ольги свое значение как племенного союза, видимо, состоялось благодаря племенной принадлежности матери Святослава. Просидев тут до самой кончины отца, он пал первой жертвой братоубийцы Святополка, решившего свести счеты со всем семейством киевского князя.
Младший сын Рогнеды Всеволод, посаженный на Волыни, явился основателем Владимиро-Волынского княжества, которое впоследствии, объединившись с Галицким, при Романе и Данииле Галицком достигнет вершины своего могущества и будет признано самим Римом и германскими императорами как суверенное.
В самые отдаленные южные земли на Таманском перешейке и в Приазовье послали Мстислава – сына Рогнеды, обосновавшегося надолго в Тмутаракани. В нем Владимир видел наиболее надежного защитника интересов Русского государства на южных рубежах: он обладал всеми необходимыми воину и полководцу качествами, которые были присущи его деду – Святославу. И Владимир Святославич не ошибся в своем выборе, направив именно этого сына на самый горячий участок, подвергавшийся постоянным набегам кочевников. В 1016 году Мстислав окончательно разбил Хазарский каганат, захватив в плен последнего его хана, а четыре года спустя покорил аланов и касогов, совершавших набеги на русские земли со стороны Кавказа. Один из эпизодов этой войны навсегда вошел в наш героический эпос как поединок Мстислава с касожским князем Редедею, завершившийся победой первого.
Наместником в Смоленске стал Станислав, рожденный чешкой. Город являлся важнейшим торговым центром и крепостью на всем Среднем Поднепровье. Он защищал Русь от нашествия врагов с запада, на его долю во все времена выпадало самое большое число вражеских осад и боев, включая жестокие сражения в ходе Великой Отечественной войны. Станислав правил в Смоленске недолго и умер еще при жизни своего отца.
Управлять Псковом Владимир поставил Судислава – сына Адели, век которого оказался долгим, а судьба – незавидной. По смерти Владимира Святославича после жестокой и длительной распри из-за власти на киевском престоле утвердился Ярослав, который вскоре взял под свою руку Новгород и Псков. В связи с этим Судислава пришлось сместить. Хотя за ним и не числилось никакой вины перед братом, Ярослав обвинил его то ли в измене, то ли в намерениях захватить великокняжеский престол и засадил беднягу в поруб (подобие глубокого колодца, сделанного из бревен), в котором тот и просидел 24 года. После смерти Ярослава он был выпущен своими племянниками Изяславом, Святославом и Всеволодом, взявшими с него клятву не претендовать на место киевского князя. После этого его постригли в монахи и отправили в один из новгородских монастырей, где Судислав тихо умер в 1064 году.
Труднее всего пришлось со Святополком, смотревшим волком на отчима и своих многочисленных братьев. Послать слишком далеко – опасно: можно ожидать чего угодно с его стороны. Оставить в Киеве – тоже не выход. Князь решил направить приемного сына в Туров на Припяти: и не очень далеко, и не слишком близко. Правда, этот город был чрезвычайно важным как форпост в системе крепостей, защищавших западные червенские города Червен и Перемышль от постоянных военных рейдов поляков. Если бы Владимир Святославич не торопился и хорошенько подумал, то вряд ли совершил такой опрометчивый шаг. Как только Святополк обосновался в Турове, он тут же изменил своему патрону, вступив в сговор с польским королем, который свел его со своей дочерью в надежде поженить их и таким образом заполучить червенские земли и города.
Святополк, по-видимому, хорошо осведомленный об истории убийства своего отца – киевского князя Прополка, проникся лютой ненавистью к названому отцу и братьям. Он стал злым роком княжеского семейства, да и всей Киевской Руси: захватив после смерти Владимира киевский престол, узурпатор организовал нашествие на русские земли войск своего тестя – короля поляков Болеслава. Поставив цель истребить всех своих братьев, Святополк сумел погубить трех из них – Святослава, посаженного отцом в древлянской земле, и двух, младших – Бориса и Глеба, сыновей царицы Анны. За все злодеяния ему дали прозвище Окаянный. Три года между ним и Ярославом шла кровопролитная жестокая война, и только после битвы на реке Альте, на том самом месте, где был убит Борис, он потерпел окончательное поражение, бежал и сгинул где-то между «ляхами и чехами». Описание сражения и бесславной гибели Святополка Окаянного, коварного братоубийцы, приводится в «Повести временных лет».
«В год 6527 (1019). Пришел Святополк с печенегами в силе грозной, и Ярослав собрал множество воинов и вышел против него на Альту. Ярослав стал на место, где убили Бориса, и, воздев руки к небу, сказал: «Кровь брата моего вопиет к тебе, владыка! Отомсти за кровь праведника сего, как отомстил ты за кровь Авеля, возложив на Каина стенание и трепет: так возложи и на этого».
И далее летописец развертывает широкую панораму битвы, рассказывает о поражении Святополка и его паническом бегстве с поля боя: «…двинулись противники друг против друга, и покрыло поле Альтинское множество воинов. Была же тогда пятница, и всходило солнце, и сошлись обе стороны, и была сеча жестокая, какой не бывало на Руси, и, за руки хватаясь, рубились, и сходились трижды, так что текла кровь по низинам. К вечеру же одолел Ярослав, а Святополк бежал. И когда бежал он, напал на него бес и расслабил все члены его, и не мог он сидеть на коне, и несли его на носилках. И бежавшие с ним принесли его к Берестью. Он же говорил: «Бегите со мной, гонятся за нами». И не было никого, кто бы гнался за ними, и дальше бежали с ним. Он же лежал немощен и, привставая, говорил: «Вот уже гонятся, ой, гонятся, бегите». Не мог он вытерпеть на одном месте и пробежал он через Польскую землю, гонимый божьим гневом, и прибежал в пустынное место между Польшей и Чехией и там бедственно окончил жизнь свою…»
Самой короткой и трагической была жизнь младших сыновей Владимира Святославича Бориса и Глеба, погибших от рук убийц, подосланных Святополком, но память о них оказалась самой долгой и доброй. Их даже причислили к лику мучеников и святых. Образ этих святых среди русских христиан был, пожалуй, наиболее популярным после Богородицы и Николая Угодника, ибо приближался к образу самого Иисуса Христа, принесшего себя в жертву ради людей. Им посвящалось множество церквей и монастырей, строившихся на протяжении всего русского средневековья. С ними связан и особо чтимый праздник, приуроченный к началу весеннего сева. «Борис и Глеб – сей хлеб!» – говорили крестьяне. Если старшие сыновья Владимира, приняв крещение в отроческом возрасте, оставались все же в чем-то язычниками, ибо воспитывались на традициях своих великих предков, то Борис и Глеб получили воспитание в чисто христианском духе, многое впитав с молоком матери-христианки и ее духовников. Влияние на них отца было, по всей видимости, незначительным. Это подтверждается хотя бы тем, как легко они попались в ловушки Святополка и погибли, точно кроткие агнцы.
Наконец, в сыновьях Владимира Святославича числился еще один по имени Позвизд. Какова его судьба и кто его мать – неизвестно. Вероятно, он являлся самым старшим среди своих братьев и родился где-то в новгородских землях.
Из дочерей киевского князя мы знаем имена лишь двух – Предславы и Доброгневы. Первую постигла учесть ее матери – Рогнеды. К Предславе сватался польский король Болеслав, но ему отказали. Когда же он захватил с помощью Святополка Окаянного – своего зятя – Киев, то силой взял княгиню в наложницы. Изгнанный из города восставшими киевлянами, Болеслав бежал в свои земли, прихватив с собой Предславу и ее сестру Доброгневу. Об остальных дочерях Владимира нам ничего не известно, но их у него, по всей вероятности, было не меньше, чем сыновей.
Братоубийственная распря сыновей Владимира Святославича явилась прелюдией последующих феодальных междоусобиц и войн за захват верховной власти в Киевском государстве или в отдельных его землях. Неумолимо надвигавшуюся угрозу раздробления Руси на отдельные княжества, чреватого для государства и его народа неисчислимыми бедами, не могли отвратить потомки великого киевского князя – Ярослав Мудрый и Владимир Мономах, завещавшие своим сыновьям хранить единство и мир между собою. О том же печалились и авторы «Слова о погибели Русской земли» и «Слова о полку Игореве». Но такова уж природа классовой борьбы, в которой каждый отстаивает свой материальный интерес, свое непререкаемое право на власть, используя для этого любые способы и средства.
Кто же оказался у кормила власти в Киевской Руси после смерти Владимира? Продолжателем дела отца стал Ярослав Мудрый.
Нелегкой оказалась его ноша. Ему пришлось заново объединять русские земли под властью Киева и восстанавливать целостность Киевской Руси, которая была поставлена под угрозу в результате раздела территории между братьями. И надо отдать Ярославу должное как дальновидному политику, дипломату, законодателю и строителю. Он более ясно и четко, нежели отец, определил свое место и свою роль в государстве, настойчиво проводя в жизнь все, что наметил исполнить. И сделал немало.
В первую очередь позаботился о защите южных границ, возведя на Роси новые крепости, основал ряд городов в Нижнем и Среднем Поволжье и среди них Ярославль, построил укрепленные города в балтийском Поморье, в частности Юрьев (Дерпт), названный его христианским именем. Пекся об обороне червенских городов: в 1030 году организовал поход в польские земли для подавления восставших мозовшан, после чего переселил большое их число из пограничных с Польшей районов в южные пределы своего государства и тем самым надолго отбил охоту у «ляхских» королей «воевать русскую землю». При нем развернулось грандиозное строительство в новых и старых городах. В Киеве рядом с градом своего отца он возводит свой, превосходящий «отний» по площади и числу каменных и деревянных строений в несколько раз. Вокруг негр насыпает оборонительные валы и воздвигает детинец с Золотыми воротами – такими же, как и в Константинополе. Строит в невероятно короткий срок и свою Софию Киевскую, а несколько позже и Софию Новгородскую.
Государи Европы ищут мира с Ярославом, спешат с ним породниться. Император Константин IX Мономах выдает свою дочь за его младшего сына Всеволода, от которого и пошли русские князья-мономаховичи. Сам Ярослав был женат на дочери шведского короля Олафа – Ингигерде (Ирине). Сестра Доброгнева становится женой польского короля Казимира. Сестру Казимира – Гертруду-Олисаву выдают замуж за другого сына киевского князя – Изяслава.
Женами королей становятся и три дочери Ярослава. Красавица Елизавета после долгих домогательств со стороны норвежского принца Гаральда, пребывавшего некоторое время при княжеском дворе по возвращении со службы у византийского императора, соглашается в конце концов быть его женой. Горячую любовь к ней Гаральд воспел в своих песнях, которые норвежцы помнят и поныне. В 1066 году он погиб в битве с англичанами под Станфордбриджем, и Елизавета вышла замуж за датского короля Свена.
Наиболее примечательной оказалась судьба второй дочери Ярослава – Анны, выданной за французского короля Генриха I. После его ранней смерти в 1060 году она управляет Францией в качестве регентши при малолетнем сыне Филиппе. Являясь продолжательницей королевского рода Капетингов, Анна вошла в историю Франции под именем Анны-Руфы – Рыжеволосой. Сохранилась ее подпись на грамоте, адресованной Суассонскому аббатству – «Анна ръина» («Анна королева»).
Дальнейшая жизнь этой женщины полна романтических приключений. В нее страстно влюбился граф Рауль де Крепи де Валуа, который похитил ее, увез в свое родовое имение и женился на ней. Однако папа римский Александр II не только не утвердил брак, но и отлучил графа от церкви. После смерти Рауля в 1071 году Анна вернулась ко двору сына. Она похоронена неподалеку от Парижа в местечке Сенлис, в основанном ею монастыре святого Викентия.
Третью дочь Ярослава – Анастасию выдали за венгерского короля Андрея I. После его смерти в 1060 году и захвата венгерского трона Белой I Анастасия с детьми бежала к германскому императору и снова вернулась в Венгрию позже, когда ее сын Шаламон занял в 1063 году королевский трон.
Судьба семейства Ярослава в чем-то схожа с судьбой Владимирова семейства: из четырех сыновей лишь один Всеволод явился продолжателем княжеского рода Рюриковичей. Остальные же – Владимир, Изяслав и Святослав, хотя и правили попеременно в Киеве, не дали большого потомства. От Всеволода через его сына Владимира Мономаха и далее через сына Мономаха – Юрия Долгорукого продолжение рода шло вплоть до последнего сына Ивана Грозного – Федора Иоанновича. На нем генеалогическая нить оборвалась. Затем царствовали Борис Годунов и Василий Шуйский, а с окончанием периода, названного Смутным временем, временем самозванства, на царство боярами был избран Михаил Федорович Романов, к роду Рюриковичей не имевший отношения, хотя и находили какую-то связь через одну из жен Ивана Грозного.
После Владимира продолжатели рода Рюрика выстраиваются в следующем порядке (в скобках даны даты смерти):
ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ (1054) – ВСЕВОЛОД ЯРОСЛАВИН (1093) – ВЛАДИМИР МОНОМАХ (1125) – ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ (1195) – ВСЕВОЛОД БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО (1212) – ЯРОСЛАВ (1246) – АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ (1263) – ДАНИИЛ (1328) – ИВАН I КАЛИТА (1341) – ИВАН II КРАСНЫЙ (1359) – ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ (1389) – ВАСИЛИЙ 1 (1425) – ВАСИЛИЙ II ТЕМНЫЙ (1462) – ИВАН III (1505) – ВАСИЛИЙ III (1533) – ИВАН IV ГРОЗНЫЙ (1584) – ФЕДОР (1598).
Обозревая далекие времена, в которые жили эти исторические лица, мы можем соотнести с их именами определенные хронологические периоды в истории нашей Родины, выделить основные этапы ее развития, включающие и раздел Киевской Руси на самостоятельные княжества, и усиление роли Владимиро-Суздальского княжества, и появление на исторической арене Москвы, и золотоордынское нашествие, и немецкую экспансию в северо-западной Руси, и возвышение Москвы, и разгром орд Мамая на Куликовом поле, и образование централизованного Русского государства вокруг Москвы, и борьбу за выход к Балтийскому морю.
Последним из выдающихся государей Киевской Руси являлся Владимир Мономах (1053–1125) – внук Ярослава Мудрого и правнук Владимира Святославича. Ему еще удавалось сохранить политическую целостность Русского государства, вступавшего в эпоху феодальной раздробленности. После него оно распалось на отдельные княжества, и Киев постепенно, уже при Юрии Долгоруком, утратил свое былое значение.
Выделяя Мономаха из всех потомков Владимира Святославича, Б. А. Рыбаков отмечает, что ни об одном из деятелей Киевской Руси не сохранилось столько ярких воспоминаний, как о нем. Об этом князе говорили и во дворцах, и в крестьянских избах спустя много веков, народ сложил о Владимире Мономахе былины как о победителе грозного половецкого хана Тугоркана – «Тугарина Змеевича» и, совместив имена обоих великих Владимиров, «влил» былины в старый цикл киевского эпоса Владимира Красное Солнышко.
Кому не известна пушкинская строка из Бориса Годунова: «Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!» Речь здесь о той самой шапке, которую якобы вручил князю его дед – византийский император Константин IX Мономах, чья дочь Мария была матерью Владимира Мономаха. Шапка со временем стала символом преемственности власти московских великих князей и самодержавной власти русских царей, короновавшихся ею вплоть до последнего самодержца Николая II Кровавого.
По описаниям современников, Мономах «лицом был красен, очи велики, власы рыжеваты и кудрявы, чело высоко, борода широкая, ростом не вельми велик, но крепкий телом и силен». Удивления достойно то, сколького он достиг за двенадцать лет киевского княжения, заняв престол уже в преклонном возрасте. Испытания куют характер и волю. Мономах же прошел суровую школу жизни. С отроческих лет ему пришлось помогать отцу, бывшему вассалом своего брата. Первое свое большое путешествие он совершил тринадцатилетним отроком, проехав путь из Переяславля в Ростов «сквозь Вятиче», через глухие Брынские леса, где не было дороги «прямоезжей», где в селах еще горели огни погребальных костров, а язычники убивали киевских миссионеров.
Мономах княжил в пяти удельных городах, воевал в разных местах, совершил 83 военных похода и проделал путь на коне в общей сложности не менее 10 тысяч километров. С 1078 года, после того как его отец Всеволод Ярославич стал киевским князем, Владимир около 16 лет княжил в Чернигове, а затем в Переяславле. Он женился на английской принцессе Гите, дочери короля Гаральда, погибшего в битве при Гастингсе.
Владимир Мономах сумел на короткое время подчинить русское боярство своей власти и, собрав воедино дружины, нанести мощные удары по половецким станам, положив конец их набегам. Князь установил свою власть на всей территории государства и решительно пресек усобицы между удельными князьями, «много поту утер за Русскую Землю». Был этот муж, помимо всего, мудры а законодателем и талантливым писателем, оставив своим сыновьям знаменитые «Поучения». После его смерти Киевская Русь окончательно распалась на полтора десятка самостоятельных княжеств.
Летом 1240 года в пределы Русского государства, пребывавшего в состоянии феодальной раздробленности, вторглись полчища хана Батыя. Захватив города и земли северо-востока, его армия осенью двинулась на юг, после осады и жестокого штурма овладела Переяславлем и Черниговом и в декабре подступила к Киеву.
Первыми его увидели передовые отряды под командованием двоюродного брата Батыя – хана Менгу. Их поразил вид киевских высот с мощными крепостными стенами, блеском золотых куполов и великолепием каменных теремов: «Меньгукановы же пришедшу сглядат град Кыева, ставшу же ему на оной стране Днепра во градска Песочного, видив град, удивися красоте его и величеству его». Так начинает свой рассказ летописец о трагических событиях.
Менгу-хан, увидев, что овладеть городом малой кровью не удастся, предложил киевлянам сдаться, но получил решительный отказ. Тогда он стал ждать подхода основных сил. И вот несметные Батыевы орды, словно черные тучи, перевалили через Днепр, обложили Киев со всех сторон «…и не бе слышати от гласа скрипения телег его, множества ревения вельблуд его и ржания от гласа стад его и бе исполнена земля Русская ратных».
Положение оказалось крайне тяжелым, ждать помощи было не от кого. Князь Михаил Всеволодович, сидевший тогда на киевском престоле, бежал в великом страхе к венграм. После бегства Михаила на престоле уселся было смоленский князь Ростислав Мстиславич, однако его сместил Даниил Галицкий. Но и Даниил не остался в Киеве, определив вместо себя тысяцкого Дмитрия. Так стольный город был брошен русскими князьями на произвол судьбы.
Атака началась с южной стороны. Враги поперву пытались ворваться внутрь через Золотые ворота, но потерпели неудачу. Тогда они стали сосредоточивать свои силы в районе Лядских ворот со стороны Крещатицкой долины, заросшей густыми лесными дебрями. Сюда подтянули «пороки» – камнеметные орудия и начали «порком же бес престани бьющим день и нощь» по воротам и деревянным стенам, стоявшим на земляных валах «города Ярослава».
После жесточайших кровопролитных боев золотоордынцам удалось овладеть «городом Ярослава», после чего они были вынуждены устроить передышку на несколько дней. А киевляне, отступив в «город Владимира», приготовились защищаться до конца в этой последней крепости.
Через день штурм возобновился с новой силой, и противнику вскоре удалось прорваться через Софийские ворота в «город Владимира». Защитники Киева – дружинники, женщины, старики, дети сражались за каждый дом, каждую улицу, пока не погибли. О том, как отчаянно защищались и стар и млад, какую резню устроили в городе захватчики, свидетельствуют проведенные советскими археологами комплексные раскопки развалин Десятинной церкви и других мест. Были обнаружены огромные братские могилы, а также груды скелетов, оставшихся в том положении, в каком их настигла смерть. В завалах найдены оружие, бусы, браслеты, мечи и шлемы, ножи и топоры.
Около некоторых скелетов лежали различные вещи, украшения, драгоценные изделия, нити жемчуга, золотые и серебряные медальоны. Все это принадлежало, по-видимому, знатным и богатым киевлянам. На месте городских домов раскопали массу предметов домашнего обихода, погребенных под обломками.
В одном из жилищ в печи нашли скелеты двух прижавшихся друг к другу девочек-подростков с поджатыми ногами. На шее одной сохранились два миниатюрных крестика – медный и янтарный. Рассказывая об этом, археолог С. Р. Килиевич высказала предположение, что в поисках надежного убежища от жестокой расправы дети спрятались в печку, где их и настигла смерть, когда рухнули стены и крыша их дома.
Среди множества костяков обнаружено немало скелетов с монгольским типом черепа. Очевидно, они погибли в смертельной схватке с киевлянами.
Потрясающая картина предстала археологам, когда они раскопали три скелета: взрослого мужчины и двоих детей. Мужчина головой упирался в печь, нижняя половина костяка находилась в предпечной яме. Череп его раздавлен, повернут направо, ноги обгорели. В правой лопатке торчал воткнутый деформированный предмет, вероятно обломок копья, левая рука, согнутая в локте, обнимала голову ребенка, у которого обгорела нижняя челюсть. На руке ребенка был бронзовый браслет из витой проволоки. Другой детский обгоревший скелет лежал, прижавшись к ногам мужчины. На правой руке у него красовался бронзовый орнаментированный пластинчатый браслет. В жестокой схватке, защищая самое дорогое – детей, мужчина был убит, вместе с ним погибли дети…
К востоку от развалин Десятинной церкви на месте, где тогда стоял каменный княжеский дворец, обнаружено огромное количество человеческих костяков обоих полов и разных возрастов, начиная с младенческого. Многие черепа оказались рассеченными и пробитыми, при некоторых скелетах находились кресты, а на руках нескольких детских костяков были надеты стеклянные браслеты.
Картину трагической участи, постигшей некогда процветавший город, нарисовал в стихотворении «Киев» Кондратий Федорович Рылеев:
Как все изменчиво, непрочно!
Когда-то роскошью восточной
В стране богатой он сиял,
Смотрелся в Днепр с брегов высоких,
Пришельцев чуждых привлекал.
На шумных торжищах звенели
Царьградским золотом купцы,
В садах, по улицам блестели
Великолепные дворцы…
…Но уж давно, давно не видно
Богатств и славы прежних дней,
Все Русь утратила постыдно
Дворцы, сребро, Врата Златые,
Толпы граждан, толпы детей,
Все стало жертвою Батыя…
Попутно скажем о том, что К. Ф. Рылеев – талантливый поэт, во многих произведениях которого нашли отражение важные события отечественной истории. Так, в цикле стихов «Думы» он касается самых разных исторических тем: «Олег Вещий», «Ольга при могиле Игоря», «Святослав», «Святополк», «Рогнеда», «Бонн», «Дмитрий Донской», «Ермак» (стало народной песней), «Петр Великий» и др.