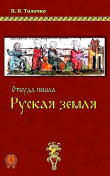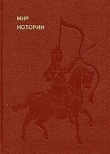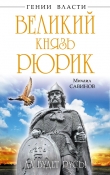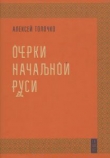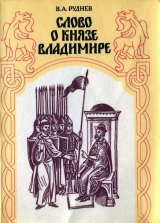
Текст книги "Слово о князе Владимире"
Автор книги: Владимир Руднев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
Киев Владимира Святославича
Введение христианства значительно укрепило власть князя и боярской верхушки, ускорило процесс объединения русских земель, способствовало развитию торговли, росту городов. Недаром Киевскую Русь во времена Владимира называли «Гардарикой» – страной городов. И действительно, такого их множества не имелось ни в одной стране Восточной и Северной Европы. Объясняется это тем, что нигде не было такого обилия торговых водных путей, как на Руси, которые соединяли Прибалтику и Беломорье с Поволжьем, Прикаспием, всем Причерноморьем и Византией.
Многие русские города ведут свое начало с VI–VII веков – исторического рубежа, когда еще не существовало ряда столиц и будущих крупнейших городских центров европейских государств. А на землях восточных славян уже стояли Киев (Куяба), Коростень (Искоростень), Овруч (Вручий), Чернобыль, Любеч, Рогачев, Смоленск, Чернигов, Ельня, Трубеч, Новгород-Северский, Сновск, Полоцк, Псков и Новгород. Помимо названных значилось немало других городов и городищ на территории всего междуречья Западной Двины и Волги, торговавших с Поднепровьем и считавшихся по тем временам довольно крупными. Не все из названных нами древних русских городов сохранились, дожили до нынешних времен, но, судя по раскопкам, они представляли собой людные, богатые торговые и промысловые центры. Не случайно же их так обстоятельно описывал видный византийский историк, император Константин Багрянородный.
Одновременно города играли роль торговых перевалочных баз при перевозке товаров на большие расстояния, опорных пунктов сбора дани (полюдья), стекавшейся сюда из окрестных деревень и отправлявшейся затем в Киев, а также военных крепостей, служивших заслоном на пути посягавших на русские земли захватчиков.
Владимир Святославич, проявляя постоянную заботу об организации общегосударственной обороны границ, возводит грандиозную систему крепостей с воинскими гарнизонами, набирает воев (воинов) со всей Руси и даже на балтийском Поморье. «И сказал Владимир: «Не добро есть мало городов около Киева». И нача строити города по Десне и по Устри, и Трубешови, и по Суле, и по Стугне», – сообщает Ипатьевская летопись.
Создание укреплений вокруг столицы началось задолго до Владимира Святославича, еще во времена легендарного Кия. Они представляли собой систему земляных насыпей, получивших название «змиевых валов», вероятно из-за их змеевидной конфигурации на степной поверхности, обозреваемой с киевских вершин. Позже на этих валах сооружались частоколы и сторожевые вышки. «Змиевы валы» служили передовой линией обороны Киева, преграждавшей путь печенежским конным ордам. При Владимире города-заставы строили по преимуществу по левобережью, так как оно было менее защищено со стороны Поля – подступающих к самому Чернигову степей, откуда делали набеги печенеги. По реке Суле крепости стояли в 15–20 километрах друг от друга. Преодолев этот рубеж, кочевники натыкались на новый заслон по реке Трубеж, на котором находился главный город-крепость Переяславль. Далее им противостоял еще один пояс обороны по Сейму и Десне, защищавший уже и Чернигов, и Киев. И наконец, на пути противника вставал мощный рубеж по реке Стугне с центром в городе Витнчеве, обнесенном земляным валом и крепкими стенами детинца с сигнальной башней на самом высоком месте. Зажженный на пей огонь оповещал о приближении врага и был виден в Киеве.
Города Треполь, Тумаш и Василев соединялись земляным валом, образуя заградительный пояс, внутри которого на самых подступах к Киеву Владимир Святославич поставил город-крепость Белгород. Здесь сосредоточивались передовые воинские силы, конница и корабли, готовые по первому зову выступить против врага. Создание этой оборонительной системы положило конец внезапным жестоким и разрушительным набегам печенежских орд, и русский народ обрел долгожданный покой.
Но главенствующее положение среди всех городов занимал Киев. Он впервые в истории приобретает статус столицы крупнейшего в Восточной Европе государства и перестраивается на манер византийских городов, по праву считаясь одним из самых богатых. По свидетельству германских послов, посетивших его в разное время, столько золота, драгоценных изделий, мехов и прочих предметов роскоши им не приходилось видывать даже в таких столицах, как Рим и Константинополь.
Княжеские терема и боярские хоромы, как и множество церквей, производили неотразимое впечатление своей красотой и богатым убранством. Деревянные хоромы бояр возводились как многостенные и многоярусные строения. Их узорчатые крыльца, карнизы и окна украшали тончайшей резьбой и узорами, а шиферные кровли покрывали позолотой, отчего они «горели» на солнце, создавая поразительное по красоте зрелище. Все дороги и улицы Верхнего города выстилали плинфой и содержали в чистоте, а Боричев взвоз уже тогда был вымощен брусчаткой.
Киевляне слыли законодателями русских мод и всяческих украшений, а киевские ювелиры, чеканщики, портные и изготовители искусного узорочья славились не только во всех русских городах, но и далеко за пределами Руси.
Прекрасный знаток Древней Руси Н. К. Рерих посвятил «матери городов» – Киеву немало вдохновенных полотен и поэтических строк, пытаясь передать колорит тех времен. «Мужи Ярослава и Владимира, – пишет он, – тонко чувствовали красоту, иначе все оставленное ими не было бы так прекрасно… Вот терем:
Около терема булатный тын,
Верхи на тычинках точеные,
Каждая с маковкой-жемчужинкой.
Подворотня – дорог рыбий зуб,
Над воротами икон до семидесяти,
Середи двора терема стоят,
Терема все златоверхие,
Первые ворота – вальящетые,
Средние ворота – стекольчатые,
Третий ворота – решетчатые…
Платье-то на всех скурлат-сукна,
Все подпоясаны источенками,
Шапки на всех черны мурманки,
Черны мурманки – золоты вершки,
А на ножках сапожки – зелен сафьян,
Носы-то шилом, пяты востры,
Круг носов-носов хоть яйцом прокати,
Под пяту-пяту воробей пролети.
А вот как выглядел русский богатырь дружинный:
Шелом на шапочке как жар горит,
Ноженки в лапотках семи шелков,
В пяты вставлено по золотому гвоздику,
В носы вплетено по золотому яхонту,
На плечах шуба черных соболей,
Черных соболей заморских,
Под зеленым рытым бархатом.
А во петелках шелковых вплетены
Все-то божьи птичушки певчие,
А во пуговках злаченых вливаны
Все-то люты змеи, зверюшки рыкучие…
Предлагаю на подобное описание посмотреть не со стороны курьеза былинного, а по существу. Перед нами – детали, верные археологически. Перед нами в своеобразном изложении отрывок великой культуры, и народ но дичится ее. Эта культура близка сердцу народа: парод горделиво о ней высказывается.
Заповедные ловы княжеские, веселые скоморошьи забавы, мудрые опросы гостей во время пиров, достоинство постройки городов сплетаются в стройную жизнь. Верится, что в Киеве жили мудрые богатыри, знавшие искусство».
В центре «града Кия», или, как тогда говорили, на Горе, возникла большая площадь с примыкающим к ней торгом, называемым в летописи «Бабиным Торжком». Украшенная привезенными из Корсуни античными статуями и бронзовой квадригой, она стала местом смотров и парадов дружин, средоточием религиозно-церковной жизни и торговой деятельности. Здесь постепенно и обоснуется новая политическая партия, или блок, бояр, купцов и церковной иерархии, который со временем постепенно встанет в оппозицию самому князю. Одновременно завершалось строительство крепости, или детинца, известного в исторической литературе под названном «города Владимира».
За весьма короткий срок на Горе были возведены вокруг Десятинной церкви и на месте погоста дворцовые сооружения, боярские златоверхие терема, торговые дворы, проложены широкие улицы. Личная резиденция князя располагалась вне «града», в «оттином» (родительском) каменном доме, построенном при жизни Ольги. А поблизости от Десятинной церкви, как установлено недавно нашими археологами, воздвигли огромное по тем временам светское дворцовое сооружение. В нем, по всей видимости, и располагалась упоминаемая в «Повести временных лет» «гридница», в которой устраивались большие собрания и пиры княжеских дружин и «нарочитых мужей». «По вся неделя устави на дворе в гриднице пир творити и приходити боляром, и градем, и соцким, и десятским, и нарочитым мужем, при князе и без князя».
О роскошном убранстве и внушительных размерах гридницы рассказывается в арабских хрониках, в которых описывается, что «во дворе княжеском собиралось до 400 человек из храбрых соподвижников князя и его верных людей, они умирают при его смерти и подвергают себя смерти за него. Эти 400 человек сидят под его престолом (рядом с ним. – В. Р.), престол же велик и украшен драгоценными камнями. Когда он желает ездить верхом, то приводят его лошадь к престолу и оттуда садится он на нее, а когда желает слезть, то приводит лошадь так, что слезает на престол».
С этой самой поры Владимира, по-видимому, стали в народе величать «Красным Солнышком». Таким он и воспет в былинах:
Во стольном городе во Киеве
У ласкового князя у Владимира
Было пированьице, почестей пир
На многих на князей, на бояр,
На могучих на богатырей,
На всех купцов на торговых,
На всех мужиков деревенских.
Удивительный пример того, когда в истории кратчайший период запечатлевается на века в памяти народной, в отличие от долгих лет безвременья, которые обычно бесславно исчезают, канув в Лету.
Пиры и гульбища прекратились лишь в последнее десятилетие жизни Владимира Святославича. Их место заняли христианские посты и праздники, а народные игрища переместились в глубинные территории – отдаленные русские города и веси, проводились по местному обычаю, пока вовсе не трансформировались благодаря возрастающему влиянию церкви. Усиливалось классовое расслоение городского населения, имущественное неравенство отдельных его слоев.
Героическая эпоха Владимира Святославича, как справедливо замечает Б. А. Рыбаков, была воспета и феодальным летописцем, и народом потому, что политика князя совпадала в тот период с общенародными интересами.
В связи с бурным ростом населения Киева интенсивно застраивались прилегающие к детинцу площади и на Старокиевской горе, и у Днепра на Подоле. Здесь селятся камнетесы, плотники, ткачи, гончары, огородники. Основные строения были наземного типа – каркасно-столбовые и срубовые и стояли тесно – стенка в стенку. Поэтому улицы являли вид сплошных рядов или оборонительных заграждений.
Во всех концах на месте бывших кумирен и языческих требищ строились деревянные церкви, а в «граде Кия», там, где недавно возвышалась статуя Перуна, воздвигали храм в честь святого Василия, чье имя, как упоминалось ранее, при крещении принял киевский князь. Одновременно возвели самую грандиозную в то время церковь на Руси в честь Пресвятой Богородицы, получившую название Десятинной. Как раз на этом месте ранее находился дом варяга Иоанна и его сына Федора, ставших первыми русскими христианскими мучениками, погибшими за православную веру.
Как мы уже говорили, казначеем Десятинной церкви был поставлен грек Анастас, возведенный в сан епископа за оказанные князю услуги при осаде Корсуни. При нем началось интенсивное накопление церковных богатств – как денег, так и имущества, благодаря которым так скоро утверждалось экономическое и политическое могущество православной церкви на Руси.
Этот храм стал прототипом ряда русских церквей и соборов. По своим масштабам он превосходил многие из тех, что появились в дальнейшем, в том числе и Софийский собор, построенный при Ярославе Мудром. Десятинную церковь украшали лепные узоры и росписи византийского образца. Ее венчали двадцать пять глав, которые изнутри подпирались множеством каменных столбов, облицованных яшмой и другими самоцветами. Стены были расписаны фресками, а перед входом, по обе его стороны, установлены привезенные из Корсуни медные кони: получилась типичная греческая базилика, сочетавшая элементы античной и византийской архитектуры.
Век церкви оказался недолгим, а судьба – трагической. В ее подземелье в каменных саркофагах захоронили останки Владимира и его супруги Анны. Ярослав Мудрый с приходом к власти наложил опалу на любимую церковь отца и возвел для себя новый храм – Софийский. А детище Владимира оставалось его усыпальницей вплоть до золотоордынского нашествия. Осенью 1240 года орды Батыя овладели Киевом, разграбили и сожгли город. Десятинная церковь рухнула под тяжестью спасавшихся на ее крыше людей. Лишь в 1635 году по велению митрополита Петра Могилы руины этого храма расчистили и на их левом крыле возвели из остатков уцелевших стен небольшую церковь с прежним названием. Никаких сообщений о том, что в ходе строительства производились раскопки подземелий Десятинной церкви, мы не имеем. Только в 1824 году с благословения митрополита Евгения[9]9
Митрополит Евгений, в миру Ефимий Алексеевич Болховитинов, был известен не только как церковнослужитель, но и как крупный ученый. Он родился в 1767 г., учился в воронежской семинарии, а затем в Московской духовной академии, где увлекся идеями Новикова и Бан-тыш-Каменского – представителей русского просветительства. Серьезно занимался изучением архивов, написал историю московского края. Б 1800 г. после смерти жены и детей постригся в монахи. Назначался префектом Петербургской духовной академии, занимал высшие епископские должности в Новгороде, Калуге, Пскове и Киеве, одновременно изучал историю, этнографию и литературу – не только церковную, но и светскую. Увлекался и стихотворством, был в дружеских отношениях с самым безбожным поэтом того времени – Г. Р. Державиным. Труды Болховитинова отличались строгой объективностью, критическим подходом к фактам исторической действительности и памятникам дровней литературы. В раскопках Десятинной церкви он сам принимал непосредственное участие.
[Закрыть] раскопки Десятинной церкви провел археолог К. А. Лохвицкий – страстный исследователь русской старины, основатель Исторического музея при Киевском университете. Материалы раскопок по указу Святейшего синода передали в архивы Киево-Печерской лавры, общие данные о них обнародовали.
В ходе археологических изысканий обнаружили и вскрыли два саркофага. В одном находился женский скелет, в другом – мужской. Обращает на себя внимание тот факт, что женский костяк полностью сохранился. По версии церковных писателей, это были останки княгини Ольги. Приводился стереотипный рассказ о том, как «прах княгини распался на глазах свидетелей». На самом же деле откопали женский скелет, принадлежавший, вне всякого сомнения, княгине Анне, умершей прежде князя Владимира в 1011 году. Ольгу же, по преданию, похоронили вне пределов «киевского града», вероятнее всего, поблизости от ее постоянной резиденции в Вышгороде, в 18 километрах от Киева, на берегу Днепра.
При вскрытии второго саркофага, в котором, как установили, покоился прах Владимира, глазам археологов предстала несколько необычная картина: у скелета недоставало черепа и кистей обеих рук. Однако создавалось впечатление, что в гробницу ранее никто не проникал, так как сохранились остатки одежды и утвари, слиток серебра очень высокой пробы, деньги и, наконец, колокол времен князя Владимира. Если бы эти предметы обнаружили в процессе проводившихся Петром Могилой работ, то вряд ли их вновь погребли бы под толстым слоем каменных руин, скорее, они стали бы церковными реликвиями.
Духовенству пришлось срочно заниматься сочинением версии о якобы имевшем место перенесении недостающих частей скелета Владимира в различные церковные обители России в качестве святых мощей. Так, глава князя будто бы находилась в пещерах Киево-Печерской лавры, кисти рук – в Киевской Софии, а челюсть – в Успенском соборе Московского Кремля. О том, куда же в действительности подевались названные фрагменты костяка Владимира Святославича, приходится только догадываться и предположить, что их там не было с самого дня похорон…
Бурное развитие торговли резко увеличило спрос на деньги. И Владимир Святославич учреждает собственную чеканку монет. Под надзором тиунов (надсмотрщиков) около ста кузнецов день и ночь варили серебро, отливали в опоках длинные стержни, резали их на кружки. На одной стороне выбивалась княжеская печать – Владимир с венцом на голове, с крестом в правой и скипетром в левой руке; на обратной – княжеский знак: три перекрещенных копья и надпись: «Володимир на столе, а се его серебро». Такой вид имела гривна Владимира.
Такой же печатью помечалось его серебро и золото, она же изображалась на стенах его палат и храмов как символ власти и могущества князя. Восковая печать прикладывалась на золотом шнуре к грамотам, рассылаемым во все концы света, к хартиям и уставам, к жалованным грамотам па владения землями и имуществом. Обзаводились личными золотыми, серебряными или из твердого камня виниса печатями бояре и воеводы. С той же поры пошли боярские и княжеские гербы.
Денежное обращение прочно вошло в жизнь государства. Помимо дани в натуре – житом, мехами, воском, рыбой каждая земля теперь обязывалась выплачивать ежегодно определенную сумму в гривнах: Новгород – две тысячи гривен, Червен и Волынь – по полторы, Тмутаракань, тиверцы и уличи – по тысяче и т. д. Денежными податями облагались каждая домина, место на торгах, переправы и переезды через мосты. Вводилась также плата и за церковные требы – крещение, венчание, отпевание и пр.
Наряду с русскими гривнами широкое хождение имели монеты греческие, арабские, персидские, которые сегодня нередко обнаруживают в кладах даже на территории самых северных земель бывшей Киевской Руси.
С введением русской монеты заметно оживились городские торги, вырос их денежный оборот, усилились торговые связи между городами. В самом же «киевском граде», на его просторной площади, развернулся самый большой на Руси торг, а на Подоле у привоза – другой. Здесь помимо русских торговали греческие, болгарские, персидские, еврейские и арабские купцы. А по соседству с ними располагались ремесленники, менялы, ростовщики и прочие расхожие люди.
Рост денежного обмена повлек за собой не только увеличение товарооборота и емкости внутреннего рынка, но и распространение различных видов денежного накопительства, включая ростовщичество. Одновременно начало бурно развиваться и ювелирное ремесло, а изделия киевских ювелиров стали пользоваться огромным спросом во всех русских и заморских городах. Большое число ювелирных лавок находилось как на Бабином Торжке, так и на торговище на Подоле.
Как и раньше, здесь также продолжали вести торговлю челядинами (работорговлю), которая захватывала и все греческие города с их черноморскими колониями. Таким образом, княжеская и боярская челядь представляла собой в зародыше элемент будущей феодальной собственности и крепостного хозяйства.
Итак, Киев становится самым многолюдным, богатым и красивым городом Руси, центром ее экономической, политической и культурной жизни, а его князь удостаивается звания «кагана земли Русской». А что же нам известно о внешнем облике того, кто восседал на киевском престоле?
К сожалению, летописцы не оставили описаний внешности князя. И если благодаря Льву Дьякону мы имеем реалистический портрет Святослава, то образ Владимира предстает как былинный, иконописный, лубочный. Наиболее ярким и удачным мы считаем портрет, созданный фантазией писателя Семена Скляренко в романе «Владимир»: «Князь Владимир принимал послов и гостей на Горе с достоинством. Он сидел в той же Золотой палате в старом, источенном шашелью кресле своих отцов, позади стояли выцветшие знамена древних князей и его новое, из белого оксамита, шитое золотом, знамя…
Князь Владимир обладал тем, о чем его предки и не помышляли: голову его венчала сверкающая золотом и драгоценными камнями корона. Одет он был в серебряный с крестами скарамангий, плечи его прикрывала багряная хламида, на ногах – червьи из красного сафьяна…»
К этому можно лишь добавить, что фигура Владимира была, по всей видимости, довольно внушительной, а сам он обладал большой физической силой и выносливостью. Ведь князь слыл неутомимым воином и охотником, прекрасным наездником и гребцом, так же, как и его отец Святослав, во время походов спал на земле, положив под голову седло.
Усваивание евангельских истин
Несмотря на принятие христианства, киевский князь все еще оставался во власти старых родо-племенных обычаев, общинно-демократических порядков, которые повсеместно господствовали на Руси. Основная масса населения обитала в деревнях, состояла из свободных общинников-смердов, живших по законам родовой демократии, и князья обычно не вмешивались в их дела. В городах классовое расслоение происходило более активно, хотя и здесь еще полностью сохранялись черты городской демократии и вечевое самоуправление. Но оно теперь становилось серьезной помехой на пути новых перемен. Церковь, как блюститель феодальных порядков, не могла мириться с подобным положением и с самого начала повела наступление на вольности и свободы, способствуя сосредоточению в руках князя всей государственной власти по принципу «несть власти – аще от бога». И самому «властелину» она стремилась привить новые взгляды, внушая ему мысль о его богоизбранности, непререкаемости его авторитета и нрав как «божьего помазанника». Однако Владимир с трудом усваивал эту «науку», оставаясь в душе язычником.
И все же, если верить летописям, поначалу он увлекся идеями христианства о всепрощении, милосердии и щедрости. Его не могли не заинтересовать евангельские рассказы о жизни и деяниях Христа, призывавшего последователей своей веры пожертвовать последнюю рубашку нуждающемуся или раздать личное имущество ради «вечного спасения». Из каждодневных чтений вслух книгочеями-чернецами Евангелия князь усвоил заповеди Христа: «Блаженны милостивые, яко тии помилованы будут. Продайте имение ваше и отдайте нищим. Не собирайте сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль и ни ржа не истребляют». В Псалтыри царя Давида он мог обнаружить наставления: «Блажен муж, который милует и дает». А в книге Премудрости царя Соломона его привлекла мысль: «Дающий нищему, богу взаймы дает».
Ублаженный, Владимир простодушно последовал этим правилам: распорядился открыть двери своих теремов и всех кладовых для доступа к ним нищих и бродяг – пусть каждый берет из княжеской казны, что душе угодно. Не забыл и о тех, кто по болезни или немощи не мог прийти на его двор: приказал снарядить возы с хлебом, мясом, рыбой, всяким овощем, медом, квасом в бочках и отправить их во все концы города с глашатаями. Разъезжая по Киеву, они кричали: «Нет ли где больного и нищего, который сил не имеет, чтобы явиться на княжеский двор?» И пошло везде веселье. Прямо на улицах выставляли длинные столы с яствами и напитками, привлекавшими толпы киевлян и приезжих.
Милосердие и великодушие Владимира было беспредельным, оно многократно проявлялось и впоследствии. Сам же он получал истинное удовольствие, видя веселящийся и ликующий народ. Следуя христианским заповедям, князь совершает беспрецедентный акт: во имя Христа милующего и прощающего отменяет казни и телесные наказания, переплюнув в этом деле индийского царя Ашоку, прослывшего великим гуманистом. Отменяя казни за разбой и другие преступления, Владимир теперь всецело стал полагаться на «суд божий». Как следствие этого, в Киеве и на больших дорогах учинился такой разбой, какого доселе никогда не было. Резко возросло число грабежей и убийств.
Не в силах терпеть дольше насилие, возроптало боярство и купечество, да и остальное население Киева. Представительная делегация из купцов, бояр и нарочитых мужей! вместе с духовенством приступила к князю с вопросом: «Умножились разбойники, пошто не казнишь их?»
– Боюсь греха! – отвечал он.
– Но ты же поставлен от бога казнить злых, а добрых миловать!
И князь пошел на попятную, разрешив казнить головников – убийц, грабителей и воров. Разбой тут же пошел на убыль. Зато пришлось подумать о другом: как определять меру наказания за разные преступления? И появилась пеня, или вира, размер которой зависел от тяжести антизаконного деяния. Это явилось первым шагом на пути, который в будущем приведет к составлению судебника, получившего название «Правда Ярослава».
Однако несмотря на эти нововведения, гульбища и пиры в Киеве и княжеском дворе продолжались. Владимир переживал «золотую пору» своего княжения и упивался достигнутыми победами и властью. В многодневных застольях участвовала вся княжеская дружина, или гридьба, сотские, десятские, выборные от волостей, слобод, улиц и концов, попы и монахи, отроки и отроковицы. Перед княжеским теремом накрывали длинные столы, уставленные горами мяса, всякой снеди, бочонками крепкого меда, сусла, браги и кваса, птицей и сладостями ароматными. С удовольствием пировало и духовенство, видевшее в разгульях «общие христианские первоапостольские трапезы» своей братии: «в пирах своя своих познаша, а что касаемо пития, то сие и монаси приемлют и невозбранно еси».
Особо жаловал и веселил князь свою дружину, ничего для нее не жалея. И это являлось не просто его прихотью. Ведь власть Владимира держалась на его воинах. Поэтому необходимо было прислушиваться к голосу дружинников. Так, на одном из пиров до него дошли жалобы, что гридням приходится есть деревянными ложками. Тогда князь приказал отлить для всей дружины серебряные ложки, говоря: «Серебром и золотом не соберу дружину, а дружиной сыщу и золото, и серебро, как и дед мой, и отец мой».
Сам по себе приведенный факт представляется весьма примечательным. В то время, по свидетельствам источников, да и по археологическим данным, во всех европейских странах и при дворах королей еще не едали ложками, а брали пищу руками, которые после еды вытирали об одежду или скатерти. Так же ели народы Востока. Не являлась ли деревянная ложка славянским изобретением, как палочки для еды – китайским?