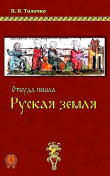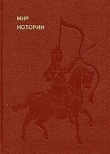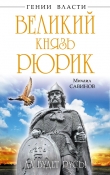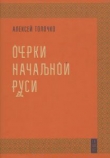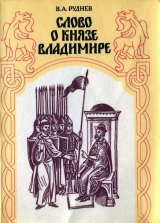
Текст книги "Слово о князе Владимире"
Автор книги: Владимир Руднев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 15 страниц)
В конце пути
Последнее десятилетие жизни Владимира Святославича – это время борьбы, тревог и огорчений. Он мог бы сам о себе сказать языком псалмов: «Обступили меня тельцы тучные. Скопище злых обступило меня».
Обстановка в государстве осложнялась, владеть ситуацией становилось все труднее, хотя князь и продолжал упорно отстаивать свои права и принципы, подолгу не слезал с боевого коня, устремляясь в разные концы обширных русских земель усмирять непокорных или отражать вторжения иноземного врага. И надо заметить, что только благодаря его энергичным усилиям до поры до времени в стране поддерживался некий единый порядок и сохранялось подчинение многочисленных городов и весей центральной власти. Но уже были налицо признаки назревающего кризиса, готового вылиться в междоусобные войны.
Так и не достиг Владимир согласия с церковниками. Бояре же киевские и удельные увидели в церкви свою опору и быстро нашли общий язык с митрополитом и епископами. Чтобы как-то ограничить, уменьшить влияние митрополита на дела государства, Владимир Святославич, как мы уже говорили, приравнял его к разряду городского боярства, выделив ему во владение один из городов второстепенной значимости. Но это не решило вопроса.
Положение Владимира Святославича все более осложнялось войной с поляками, которая велась с 981 года и была прервана лишь однажды по случаю женитьбы Святополка на католичке – дочери польского короля Болеслава. По заключении брака в Туров, где сидел наместником Святополк, король направил епископа Рейн-берна в качестве духовника королевской дочери. Ему поручалось выполнить особое задание: подготовить заговор с целью устранения Владимира и занятия киевского престола Святополком. Вскоре Рейнберн сумел установить связи с боярской оппозицией и киевским духовенством, склонив на свою сторону и епископа Анастаса.
Узнав от верных людей о готовящемся против него заговоре, Владимир Святославич приказал схватить Святополка вместе с женой и ее «духовником» и посадить их в поруб.
После случившегося война на границе с Польшей возобновилась с еще большим ожесточением. Болеслав стал собирать крупные силы для вторжения на Русь и пытался заручиться военной поддержкой печенегов. Однако те, то ли почуяв опасность усиления Польши, то ли вследствие вторжения в Нижнее Поднепровье половецких орд, отказались воевать с Русью и тем самым сорвали планы польского короля.
Спустя некоторое время Святополку удалось выйти из заточения, и он, по некоторым предположениям, нашел себе тайное прибежище в Вышгородском замке, где когда-то находилась резиденция княгини Ольги. Возможно, Владимир не стал его преследовать потому, что полагал: этот незадачливый заговорщик уже не может теперь ничем ему угрожать. Если это действительно так, то он глубоко заблуждался. Святополк, как показало будущее, не только не смирился с участью пасынка-изгоя, но еще яростнее включился в борьбу за овладение киевским столом, на который он претендовал как сын убиенного Ярополка, как законный наследник князя Святослава. Его сторону приняли виднейшие боярские фамилии, готовые посадить устраивавшего их претендента на место Владимира и совместно править в Киеве. Все это в конце концов привело к тому, что сразу же после смерти князя Святополк оказался на киевском столе, а Болеслав захватил червенские города, а затем и сам Киев, подвергнув его невиданному разграблению. Король захватил все сокровища киевских князей, а Анастаса назначил главным хранителем королевской казны. Возмущенный народ не мог дольше терпеть бесчинства иноземцев. Поднялось восстание, и началось избиение польских гарнизонов. Болеслав вынужден был спешно бежать в Польшу, прихватив награбленное. Вместе с ним подался в Краков и Анастас. Оценив ситуацию, Святополк принял сторону восставшего населения, сделавшись противником Болеслава. Он готовился убрать со своего пути главного противника – Ярослава. Но это ему не удалось.
Как мы уже отмечали, сообщения летописей о последних годах жизни Владимира Святославича чрезвычайно скупы и ограничиваются краткими записями о кончине княжеских родственников. Таким образом, заключительный, более чем пятнадцатилетний период его деятельности остался «за кадром». А завершается рассказ о великом реформаторе описанием обстоятельств смерти и похорон князя.
Вне всякого сомнения, Нестор, как и другие летописцы, хорошо знал, что происходило в Киеве в тот период и что творилось в самом княжеском семействе. Возможно, он даже и включил в свою «Повесть» многие интересные подробности, но они были вымараны при составлении последующих летописных сводов, так как выставляли князя Владимира в невыгодном для его воспреемников свете. И все же постараемся по сохранившимся скупым сведениям проследить ход событий.
Крутые перемены в княжеском доме произошли в 1011 году, когда скончалась княгиня Анна. Об этом имеется краткая строка в летописи: «В год 6519. Преставися Ца-риця Володимеряя Анна». Отчего умерла и каково ей приходилось в супружестве – о том нет ни слова. А ведь княгине ко дню смерти было немногим более сорока лет. Видимо, на ее долю выпало немало тяжких испытаний. Долгие годы она жила почти в полном одиночестве в княжеском тереме на Старокиевской горе. Великий князь находился в постоянных отлучках, вызванных государственным делами, и лишь изредка появлялся на Горе. А после того как оба ее сына были определены наместниками в разные города, Анну реально уже ничего не связывало с Киевом. Ее отношения с Константинополем прервались окончательно из-за обострения разногласий Руси с империей и сближения князя с германским императором. Анну похоронили в Десятинной церкви, и упоминание о ней сохранилось в церковных святцах как о «благоверной княгине киевской».
Не прошло и года, как Владимир Святославич обзавелся новой женой, н эта его женитьба круто изменила жизнь в доме и отношение к нему окружающих, о чем и летописи, и жития намеренно умалчивают. А случилось то, чего никто от него не ожидал: новая киевская княгиня оказалась католичкой – немецкой графиней, внучкой императора Оттона I. Таким образом, миссия епископа Бруно и последующие посольства германского императора Генриха II повлияли на киевского князя. И, женившись на католичке, он сделал вызов не только боярской верхушке и православному духовенству, но и всем ближним своим, еще более осложнив свое положение.
Развязка наступила в конце 1014 года, когда Новгород, управляемый Ярославом, категорически отказался выплачивать Киеву ежегодную денежную дань. Это было равнозначно объявлению войны. Владимир Святославич немедля начал готовиться к походу на Новгород, приказав «расчищать пути и мостить мосты», но неожиданно разболелся. Мог он, конечно, и заболеть, но слишком уж часто повторяет летописец слово «разболелся», словно оправдывая князя или утаивая причину его смерти, которая произошла вскоре после решения идти войной на Ярослава. Прочитаем внимательно это место из летописи:
«В год 6523 (1015). Когда Владимир собрался идти против Ярослава, Ярослав, послав за море, привел варягов, так как боялся отца своего, но бог не дал дьяволу радости. Когда Владимир разболелся, был у него в это время Борис. Между тем половцы пошли походом на Русь, Владимир послал против них Бориса, а сам сильно разболелся, в этой болезни и умер июля в пятнадцатый день. Умер он в Берестове, и утаили смерть его, так как Святополк был в Киеве».
Как стало известно впоследствии, вести о вторжении половцев, полученные Владимиром накануне своей смерти, явились ложными и, вероятно, намеренно выдуманы его врагами. Оказалось, что никакого нашествия половцев в это время на Киев не было, выдумка понадобилась для того, чтобы как-то убрать Бориса из Берестова подальше от отца, отправив на реку Альту, где он позже и нашел свою смерть от подосланных Святополком убийц. Вместе с Борисом навстречу «половцам» отослали также княжеские дружины, и теперь Владимир остался без надежной охраны.
Читаем летопись дальше: «Ночью же разобрали помост между двумя клетями, завернули его (тело Владимира. – В. Р.) в ковер и спустили веревками на землю, затем, возложив его на сани, отвезли и поставили в церкви святой Богородицы, которую сам когда-то построил».
Как видим, погребение совершалось тайно, под покровом темной ночи. Князя поторопились похоронить в Десятинной церкви. По всей вероятности, о его смерти киевляне узнали не сразу, а некоторое время спустя, когда Святополк успел освоиться на великокняжеском столе и люди поняли, что Владимира Святославича уже нет в живых. «Узнав об этом, – пишет летописец, – сошлись люди без числа и плакали по нем – бояре как по заступнике страны, бедные же как о своем заступнике и кормителе». Согласимся: такую характеристику не заслужил, пожалуй, никто из всей плеяды киевских князей. А вот как оценивает государя Руси его берестовский духовник Иларион в своей «Похвале князю Владимиру»: «То новый Константин великого Рима. Как тот крестился сам и людей своих крестил, так и этот поступил так же. Если и обращался он прежде к скверной страсти, однако после усердствовал в покаянии, по слову апостола: «Где умножится грех, там преизобилует благодать». Удивления достойно, сколько он сотворил добра Русской земле, крестив ее. Мы же, став христианами, не воздаем ему почестей, равных его делу».
Что правда, то правда: сыновья и внуки «крестителя» не торопились воздавать своему предку ни почести, ни дани уважения. С годами приумножалось число святых русской православной церкви, в их сонм зачислили и княгиню Ольгу, и братьев Бориса и Глеба, и многих других подвижников церкви, а о Владимире забыли. И только более двух столетий спустя о нем, наконец, вспомнил Александр Невский после победы над шведами на Неве, произошедшей 15 июля 1240 года, то есть в день кончины Владимира Святославича, и объявил его своим покровителем, учредив в честь славного предка церковный праздник, приуроченный к этой дате. Однако канонизация князя Владимира как «святого» и «равноапостольного» фактически не производилась, а признавалась лишь по традиции в связи с празднованием его дня. Вот как этот казус объясняет церковный историк Е. Голубинский в книге «История канонизации святых в Русской православной церкви», изданной в 1903 году: «Владимир скончался 15 июля 1015 года. Очень не скоро причислен был к лику святых формальным образом через установление празднования его памяти. Причиной сего было то, что мощи его не были прославлены от бога даром чудотворения».
Иначе говоря, никакой канонизации быть не могло, ибо Владимир до конца дней своих оставался неисправимым «язычником». Ссылаясь на жития святых, Е. Голубинский рассуждает: «Автор жития хотел сказать, что если бы русские люди в день преставления его совершали его поминовение, то Бог по молитвам их прославил бы его даром чудотворения и тогда он был бы причислен к лику святых». И здесь содержится недвусмысленный намек на то, что церковь слишком долгое время не могла простить князю все его прегрешения перед нею, какие у него были и до «крещения», и после него.
Исторический казус с канонизацией Владимира Святославича привлекал внимание и Н. М. Карамзина, который почел за истину называть князя Великим, а не Святым. В главе IX тома I его «Истории государства Российского» мы находим весьма примечательное резюме об итогах жизни и месте Владимира в отечественной истории: «Сей князь, названный церковью Равноапостольным, заслужил в истории имя Великого. Истинное ли уверение в святыне христианства или, как повествует знаменитый арабский историк XIII века, одно честолюбие и желание быть в родственном союзе с государями византийскими решило его креститься? известно богу, а не людям. Довольно, что Владимир, приняв веру спасителя, освятился ею в сердце своем и стал иным человеком. Был в язычестве мстителем свирепым, гнусным сластолюбцем, воином кровожадным и – что всего ужаснее – братоубийцею, Владимир, наставленный в человеколюбивых правилах христианства, боялся уже проливать кровь самых злодеев и врагов отечества. Главное право его на вечную славу и благодарность потомства состоит, конечно, в том, что он поставил россиян на путь истинной веры, но имя Великого принадлежит ему и за дела государственные».
Как видим, Н. М. Карамзину Владимир Святославич импонирует более как исторический герой, мирские дела и подвиги которого перевешивают его прегрешения перед человеческой совестью.
«Сей князь, похитив единовластие, – продолжает историк, – благоразумным и счастливым для народа правлением загладил вину свою: выслав мятежных варваров из России, употребив лучших из них в ее пользу, смирил бунты своих данников, отражал набеги хищных соседей, победил сильного Мечислава и славный храбростию народ ятвяжский, расширил пределы государства на западе, мужеством дружины свои утвердил венец на слабой голове восточных императоров, старался просветить Россию, населил пустыни, основал новые города, любил советоваться с мудрыми боярами о полезных уставах земских, завел училища и призывал из Греции не только иереев, но и художников, наконец, был нежным отцом народа бедного. Горестию последних минут своих он заплатил за важную ошибку в политике, за назначение особенных уделов для сыновей».
О назначении «уделов особенных для сыновей» Владимира можно судить по-всякому, но само по себе это является неизбежным фактором развивающегося русского, как, впрочем, и иного, феодализма. Ту же ошибку повторяют и Ярослав Мудрый, и Владимир Мономах, пытавшиеся подчинить эти «особенные уделы» власти одного из своих сыновей, посаженного на киевском столе. Здесь важно отметить то, что Владимир основал и политически оформил первое Русское государство, положившее начало новой феодальной эпохи, подобно тому, как это произошло в Западной Европе при Карле Великом. Но империя Карла Великого распалась сразу же после его смерти на множество феодальных государств, а держава Владимира просуществовала почти целое столетие.
ПОСЛЕСЛОВИЕ

Если вам случится посетить Киев и осматривать исторический заповедник Киево-Печерской лавры, вы получите возможность ознакомиться и с церковью Спаса на Берестове, в которой был похоронен основатель Москвы Юрий Долгорукий. Надо лишь выйти за ворота лавры и, следуя указателям, пройти по довольно глухому закоулку, минуя невысокие жилые строения. Скоро взору предстанет свежеотреставрированное здание церкви. Особого впечатления она не производит, так как вид ее окрестностей, да и качество самой реставрации далеки от тех, какими должны быть. Здесь во времена Владимира стоял Берестовский замок, который находился скорее всего на месте двухэтажного жилого дома.
Довольно высокая земляная гряда создает ощущение отъединенности этого уголка от внешнего мира. Насыпь возвели по приказу Петра I в связи с подготовкой к войне с Карлом XII. Теперь она вся в густых зарослях акаций и ивняка и закрывает обзор прилегающей местности. А ведь раньше, когда насыпи не было и стоял здесь высокий княжеский терем, в котором подолгу живали после Владимира и Ярослав, и Всеволод Ярославич, и Владимир Мономах, отсюда открывался сказочный вид.
Можно себе представить, как на этом месте в июльские дни 1015 года Владимир Святославич лихорадочно готовился к походу на Север, рассылая гонцов в города и крепости с приказом собирать новые полки, расчищать пути и мостить мосты. Отсюда же он отправил сына Бориса с дружинами на юг отразить набег половцев. И вот князь остался один. А где-то поблизости, у самых стен его замка, рыскали соглядатаи и изменники. Ждали своего часа…
…Из глубины веков доносится до нас голос сподвижника Владимира Святославича – священника Илариона, который скорбит об усопшем:
«Встань, благородный муж, из своего гроба! Встань, отряси сон, потому что ты не умер, а только спишь до общего всех пробуждения!
Встань, ведь ты не умер, потому что ты и не мог умереть, веруя во Христа, всего мира жизни. Отряси сон, возведи очи, чтобы видеть, какой чести господь сподобил тебя на небе и какую славу по тебе создал среди сыновей твоих.
Встань, взгляни на дитя свое Георгия, взгляни на свой собственный отпрыск, взгляни на своего милого, на того, кого господь создал из твоей плоти и крови, взгляни на украшающего престол твоей земли и возрадуйся и возвеселись. Посмотри также и на благоверную сноху твою Ирину, на внуков твоих и правнуков, как они живут, как хранит их господь, как хорошо исповедуют веру, тобой завещанную, как часто они посещают святые церкви, как славят Христа и поклоняются его имени.
Взгляни, наконец, и на город, величеством сияющий, на церкови цветущие, на христианство растущее, взгляни на город, святыми иконами освящаемый, блистающий, овеваемый благоуханным темьяном, хвалами и божественным пением оглашаемый…»
Весь 2000-летний период истории нашей страны, начиная с восточных славян, следует рассматривать в контексте исторического развития мировой цивилизации, как феномен, обусловленный особыми или уникальными обстоятельствами, которые определили место Русского государства среди других народов.
Эти особые обстоятельства заключались в том, что Русь, занимая срединное географическое положение и располагаясь на великой равнине между империями Азии и Европы, восприняла и творчески переработала не только культуру античного мира, культуру стран Востока, но и множество сопредельных культур различных племен и народностей Восточной Европы, Скандинавии, финских и тюркских племен Поволжья и Причерноморья. Благодаря этому Русь создала особую, многообразную, неповторимую, с присущими только ей чертами и признаками культуру, или то, что нашим поэтом Ф. И. Тютчевым названо «особой статью»: «Умом России не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать – в Россию можно только верить».
И эта «особенная стать» позволила русскому народу пройти великий исторический путь, преодолев такие преграды, пережив такие испытания, каких не выпадало на долю ни одного другого народа мира.
И теперь, за далью времен в тысячу лет, вникая в слова вдохновенной речи Илариона или сказания Нестора-летописца, проникнутые горячей любовью к Отечеству, мы постигаем не только умом, но и сердцем свою духовную связь с той эпохой, так глубоко выраженную словами древнерусского писателя: «…и тысяча лет, как день един». И ведь как это верно! Каждому из нас необходимо стремиться к тому, чтобы постоянно ощущать и осмысливать сопричастность судьбам своего народа, его истории, памятникам старины, памяти предков. «…И тысяча лет, как день един» делают нас теми, чем мы должны быть – неутомимыми в добрых деяниях на счастье и благо людей.
Фотографии

Летописец Нестор. Скульптура М. Антокольского

Перунов холм. Миниатюра Радзивиловской летописи.

Скоморохи. Фрагмент фрески киевского Софийского собора.

Скоморохи. Фрагмент фрески киевского Софийского собора.

Ярослав Мудрый. Картина Н. К. Рериха.

Киевские Золотые ворота.

Заморские гости. Картина. Н. К. Рериха.

Клятва Игоря. Рисунок В. П. Верещагина.

Святослав перед сражением. Рисунок В. Лисснера.

Боевое снаряжение древнерусского воина. Реконструкция.

Княгиня Ольга. Картина В. М. Васнецова.

Прибытие византийской принцессы Анны в Киев. Миниатюра Радзивиловской летописи.

Крещение князя Владимира. Картина В. М. Васнецова.

Князь Владимир. Картина В. М. Васнецова.

Пир у киевского князя. Миниатюра Радзивиловской летописи.

Беседа Владимира с отцом кожемяки. Миниатюра Радзивиловской летописи.

Владимир и Рогнеда. Картина Н. Медведева.

Десятинная церковь. Реконструкция.

Освящение Десятинной церкви. Миниатюра Радзивиловской летописи.

Шиферная гробница из Десятинной церкви.

Скелеты жертв, павших во время разгрома города золотоордынцами. Раскопки 1976 года. Десятинная улица, дом 2.

Святой Владимир. По Титулярнику.

Ян Усмошвец. Картина П. И. Угрюмова.

Большой княжеский дворец. Реконструкция.

Проводы Анны Ярославны во Францию. Рисунок А. В. Клодта.

Польский король Болеслав. Старинная гравюра.

Анна Ярославна – королева Франции. Гравюра.