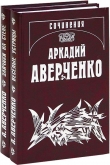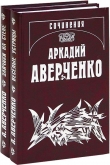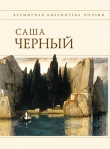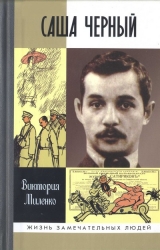
Текст книги "Саша Черный: Печальный рыцарь смеха"
Автор книги: Виктория Миленко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 27 страниц)
Домик появится в 1930 году, пока же, в 1929-м, Александр Михайлович и Мария Ивановна жили на даче Милюкова. Вместе с ними отдыхали семьи Билибиных и Станюковичей, которых хотелось бы кратко представить для полноты картины.
Художника Ивана Яковлевича Билибина Черный знал еще с сатириконских времен: тот достаточно активно сотрудничал с журналом. Билибин был членом объединения «Мир искусства», славился как талантливый график, иллюстратор русских сказок и былин. После Октябрьского переворота некоторое время жил на своей крымской даче в Батилимане, потом эмигрировал из Новороссийска, попал в Каир, где увлекся изучением египетского искусства, там же и женился на художнице Александре Васильевне Щекатихиной-Потоцкой. Саша Черный, да и все в Париже, знали историю этой любви. До революции Александра Васильевна (Шурочка), ученица Билибина, успела выйти замуж и родить сына Мстислава, в 1920-м овдовела и чудесным образом разыскала адрес Билибина в Каире. Отправила ему весточку о себе, а тот ответил телеграммой с предложением руки и сердца. Они поженились в Каире, много путешествовали, побывали в Палестине, Сирии. Александра Васильевна стала мастером по росписи фарфора еще до отъезда из России, и сегодня ее сервизы с агитационной советской символикой являются дорогостоящими раритетами.
С этой семьей и встречались каждое утро за завтраком Александр Михайлович и Мария Ивановна. Улыбались, наблюдая, как Билибин ни свет ни заря уже обнимает бутылочку местного вина. Выходило это картинно и богемно: художник носил щегольскую бородку, которую Черный называл «стрелецкой», лихо заломленный берет. Над Александрой Васильевной, одетой так, чтобы всем было ясно – она недавно из Африки, муж подтрунивал и упорно называл Солохой: мол, никакая ты не африканка, а типичная хохлушка. Рядом сосредоточенно жевал самый преданный друг Саши Черного – тринадцатилетний Мстислав, в просторечии Славчик. Он-то и станет прототипом мальчика Игоря в Сашиной книжке «Чудесное лето».
Станюковичи же появились в жизни поэта недавно и при забавных обстоятельствах. Прошлым летом Черный возвращался после турне из Ниццы в Париж и ему досталось неудачное купе: соседями оказались шумные матросы, пившие, дымившие махоркой всю дорогу и развлекавшие его рассказами о своих любовных похождениях. Александр Михайлович совершенно сник, как вдруг в купе заглянул незнакомый соотечественник и отчетливо произнес:
– Вы Саша Черный? Пойдемте, у нас есть место.
Впоследствии Николай Владимирович Станюкович вспоминал, как, заглянув в купе, сразу понял, что с поэтом – беда: в глазах несчастного «светилась и подавляемая досада, и явная насмешка над своим незавидным положением, а на губах играла улыбка – „попался, брат! и так до самого Парижа!!“ <…> Со вздохом облегчения, но без всякого удивления Саша Черный, захватив свой небольшой, поношенный, но добротный чемоданчик русской работы, последовал за мною» (Станюкович Н. Саша Черный // Дальние берега: Портреты писателей эмиграции).
Станюкович признался, что первой незавидное положение Черного заметила жена, проходившая по вагону и узнавшая поэта, которого мельком видела на каком-то литературном вечере. Сам Станюкович тоже имел отношение к литературе, но заслуги пока имел скромные. В прошлом поручик Добровольческой армии, он прошел через Галлиполи, где написал поэму «Парад генерала Врангеля», а теперь, в Париже, работал шофером, ночами – таксистом, от унылых будней спасался стихами, вступил в Союз молодых поэтов и недавно выпустил сборник «Из пепла».
В Париж Саша Черный и Николай Станюкович приехали уже друзьями и летом следующего года решили вместе ехать в Ла Фавьер.
Итак, три семьи – Черные, Билибины и Станюковичи – разместились на даче Павла Николаевича Милюкова. Потянулись солнечные, безмятежные дни. Встречались все за трапезой. Три стола, у каждой семьи свой, накрывались под соснами, на свежем воздухе. Между ними кочевал, попрошайничая, Микки. Ему разрешалось всё: не только сидеть полноправно на стуле, но и лазать по столам (это видно на сохранившихся фотографиях).
Затем разбредались. Александр Михайлович часто увязывался за Билибиным и с удовольствием наблюдал за тем, как тот работает:
Сидит, молчит и пишет…
Сосна натурщик кроткий:
Едва-едва колышет
Развесистые щетки.
Ботинок жмет конечность,
Лучи стреляют в темя…
………………………
Увы!.. Пришла собака,
О ствол потерла спину
И с видом вурдалака
Уставилась в картину.
Сто раз метал он шишки
В лохматого эстета…
(«Горе от прохожих», 1928)
Мы догадываемся, кто был этот «эстет», в которого летели шишки. Черный же, наблюдая творческие муки друга, видимо, вспомнил свое сатириконское стихотворение «Всероссийское горе», судя по названию процитированного опуса. Покинем взвинченного Билибина, мечтающего о том, чтобы поставить вокруг себя четыре пулемета, и прогуляемся с Сашей Черным и Микки по русскому Фавьеру.
Если посмотреть на «ситэ рюсс» со стороны, то на первый взгляд это какое-то становище. Современница описывала его так: «…среди камней и деревьев – дома и домики, в беспорядке, один выше другого, как гнезда птиц, влепились в скалу. Своеобразный раскинувшийся аул. От дома к дому вьется тропочка; ночью и не найдешь пути. Участки не отгорожены ничем; то есть есть какие-то, одним хозяевам понятные отметины. Новому же глазу ничего не понять» (Тимашева Т. В русском гнезде//Возрождение. 1934. 16 августа).
Александр Михайлович уже старожил, поэтому без труда находит нужные тропочки. Направимся за ним к мысу Гурон, где до сих пор стоит домик «Бастидун». Художник Песке продолжает здесь летом отдыхать и вдохновенно обучает живописи местного фермера и винодела Александра Труана, который пишет на любых подручных материалах: кусках картона, оберточной бумаге. Ныне здравствующая дочь Труана (родившаяся в 1922 году) вспоминает, что с русскими отец рассчитывался «бартером» – вином, а те тоже просили вино в обмен на свои произведения, в частности, картины[132]132
Lucie et Jean-François Durbec. Histories de rencontres // http://www.ot-lelavandou.fr/data/htmleditor/file/Guide%202013/MAGAZINE%20.LAVANDOU.pdf
[Закрыть]. Кто знает, сколько шедевров осело у этой французской семьи! Наверняка была у них какая-то дань и от Билибина. Однако продолжим нашу экскурсию.
Вот круглолицый курносый работяга с засученными рукавами взмокшей рубашки, невесть чем подпоясанной, босой, с косынкой на голове. Это Михаил Федорович Ларионов, выпускник Московского училища живописи, ваяния и зодчества, чьи картины сегодня уходят с мировых аукционов по колоссальным ценам. Есть среди них и «Сбор винограда в Ла Фавьер», и «Виды Ла Фавьер», обе 1930 года. За плечами у него были фронт, контузия, госпиталь, демобилизация в 1915 году и приглашение от Сергея Дягилева работать над декорациями и костюмами для зарубежных гастролей «Русского балета». Ларионов один из немногих в Фавьере не был «белым» эмигрантом: революция и Гражданская война его не коснулись, так как он давно жил за границей, а с 1918 года – в Париже.
Однако уже показались сосны, шапкой покрывшие мыс Гурон, и черепичная крыша «Бастидуна». Этим летом Песке сдали часть домика Соломону Самойловичу Крыму, фамилия которого совпадала с названием взрастившей его земли. Один из богатейших жителей Феодосии, кадет, караим по национальности, Крым профессионально разбирался в вопросах виноградарства и виноделия. Его звездный час пробил в смутных 1918–1919 годах, когда он возглавил Крымское Краевое правительство, просуществовавшее на полуострове, раздираемом хаосом, полгода. Министром юстиции в этом правительстве был Владимир Дмитриевич Набоков, с кем Черный, как помним, тесно общался в Берлине.
В эмиграции Крыму пригодились его винодельческие знания и опыт, к тому же он окончил высшую сельскохозяйственную школу в Монпелье и считался и у французов ценнейшим специалистом, однако до уровня своего прошлого благополучия так и не поднялся. Некогда крымчане с почтением провожали взглядом этого миллионера и мецената, теперь же Черный описал его без всякого пиетета: «В саду показался земляк-агроном, / Под мышкой баклага с пунцовым вином» («Мистраль», 1927).
Александр Михайлович освобождает Микки от поводка, и тот со всех ног бросается к невзрачному «кабанону» на вершине мыса, где его, как брата, принимает в свои объятия Куприн.
Вот уже 23 года, прошедшие со времени его высылки из Балаклавы, Куприн мечтает о том же, что и Черный: об участочке земли у моря. Денег Александру Ивановичу катастрофически не хватает, и он смог осилить лишь сезонную оплату нищего полудеревянного-полукаменного «кабанона». Представление о нем мы можем составить по очерку Куприна «Сплюшка», вскоре опубликованному в «Возрождении»: «Хромой стол, два хромых стула, два утлых топчана, и все это из некрашеного гнилого дерева, керосиновая лампа – вот вся наша обстановка. Готовим пишу мы на спиртовке (понятно, когда есть что готовить…). Здесь нет ни газа, ни электричества и не только нет уличных фонарей, но и самих улиц и даже дорог. Нет и помина о водопроводе и канализации. Нет никакого подобия лавок, ресторанов или пансионов. Все эти культурные удобства и соблазны имеются лишь в купальном курорте Лаванду, километрах в семи от нашего дикого уголка, у черта на куличках. А о неудобствах я не смею и говорить из боязни потерять репутацию приличного человека. Довольно сказать, что сквозь наш высокий пирамидальный потолок, крытый разбитой марсельской черепицей, можно ночью с удовольствием любоваться ночными огромными мохнатыми звездами».
Александр Иванович, невесело усмехаясь, рассказывает Черному, что они с Елизаветой Морицовной устроились сносно, только не высыпаются: почти под носом у них привязаны лодки, и ежедневно ни свет ни заря местные рыбаки начинают их готовить к выходу в море, бурно обсуждая свои проблемы. Колоритный народ! Чем-то похожи на балаклавских рыбаков, только балаклавские колоритнее. Когда-то он был среди них совсем своим, даже в артель приняли, были тем же Иннокентием Швецовым, угощавшим всю Балаклаву, только называли его по-гречески: «кирийе[133]133
Кирийе – господин (греч.).
[Закрыть] Александр». Куприн с Черным сочувственно качают головами: этим летом неистовый «Кена» Швецов в Фавьере почти не появляется; кутежи и широта души его сгубили – разорился вдребезги и теперь устроился работать на винограднике неподалеку, в окрестностях Йера.
Куприн с Черным бредут берегом к небольшой бакалейной лавчонке, единственной здесь. Магазинчик содержит зять князя Владимира Оболенского – Борис Грудинский. Ему нередко помогает 24-летний Лев Владимирович Оболенский, один из сыновей Оболенского-старшего, недавно окончивший Пражский университет и постоянно живущий в Фавьере. Возможно, Черный и Куприн сейчас застали его и между ними завязалась неторопливая теплая беседа. Вполне вероятно и то, что где-нибудь поблизости оказался художник Федор Рожанковский (иллюстратор «Дневника фокса Микки»), с которым Оболенские поддерживают почти родственные отношения. Он также проводит каждое лето в Ла Фавьере.
Имя князя Владимира Андреевича Оболенского уже появлялось в нашем повествовании, когда мы размышляли о том, каким образом Александр Михайлович Гликберг в 1916 году мог получить перевод из Красного Креста во Всероссийский союз городов. Оболенский в то время возглавлял Петроградский комитет Союза городов, был влиятельнейшим масоном, и мы выдвигали версию, что именно он помогал Черному. С тех пор прошла, казалось, целая жизнь, но Оболенский-старший, шестидесятилетний деятельный человек, продолжал активно участвовать в мероприятиях «русского Парижа». С Сашей Черным у них была и заветная общая тема: Псков. Князь был псковичом по рождению, много лет проработал в статистическом отделе Псковской губернской земской управы. Тогда он сочувствовал социал-демократам и теперь, разводя руками, нет-нет да рассказывал о том, как в 1900 году приютил в своей псковской квартире Ленина, помогал ему нелегально работать в статбюро и получить загранпаспорт. Ну кто же знал!.. Куприн как «человек, который видел Ленина», всегда жарко поддерживал такие разговоры: он побывал на приеме в Кремле 25 декабря 1918 года, запомнил этот день и написал о нем немало.
Черный и Куприн, оба заядлые курильщики, купив табак, бредут на пляж. Улыбаются: над одним из дачных домиков развевается трехцветный российский флаг. Это чудачество старика Николая Николаевича Белокопытова, величественного и некогда сказочно богатого помещика, негласно принявшего на себя обязанности главы стихийного русского поселка Ла Фавьер. Французские власти немало рады тому, что здесь появился «главный и крайний», считают Белокопытова кем-то вроде мэра и направляют на его имя различные официальные бумаги. Адрес на них проставлен удивительный – «cit’e Russe», а привозит их на велосипеде из Лаванду старик-почтальон (см.: Станюкович Н. Саша Черный // Дальние берега: Портреты писателей эмиграции).
Белокопытов живет вместе со старушкой-сестрой Ольгой Николаевной Мечниковой. Черный недавно встречал ее в детском приюте «Голодной пятницы» в Монморанси, где она заведующая. Ольга Николаевна хранит архив своего великого мужа – ученого Ильи Ильича Мечникова, и даже создала в дачном домике маленький музей семейных реликвий; сюда же перевезла огромную библиотеку мужа. Свято чтя его память, она с особым чувством общается с фавьерским соседом – профессором зоологии Сергеем Ивановичем Метальниковым, который некогда стажировался у ее мужа в парижском Институте Пастера.
Александр Михайлович и Мария Ивановна дружны с Сергеем Ивановичем, особенно Мария Ивановна, ведь в прошлом они были коллегами: Метальников преподавал на естественном факультете столичных Высших женских курсов. Есть у них еще одна общая тема: Гейдельбергский университет, где Сергей Иванович стажировался в 1897 году, за девять лет до приезда туда же Гликбергов.
В отличие от многих обитателей Ла Фавьера профессор был чистый «ботаник», политикой не интересовался и в эмиграции оказался случайно. В 1918 году он был командирован в Симферополь помогать в организации Таврического университета, основанного Соломоном Крымом, оказался отрезан фронтами Гражданской войны и разделил судьбу беженцев. Теперь Метальников работал в Институте Пастера. О своем фавьерском житье он не без удовольствия сообщал Николаю Константиновичу Рериху, с которым дружил: «Пишу Вам это письмо из La Faviere, одно<го> из самых красивых местечек на юге Франции, в окрестностях Тулона. Здесь у меня крошечный кусочек земли и небольшой домик на курьих ножках, где я провожу обычно каникулы»[134]134
Наука Будущего. Переписка Н. К. Рериха и С. И. Метальникова // http://www.icr.su/rus/evolution/urusvati/Roerich_Metalnikov/index.php?print=yes
[Закрыть].
…Вечереет. На пляж понемногу стекаются все русские фавьерцы. Кто покуривая, кто потягивая вино, неспешно переговариваются, делятся радостями и трудностями и всякий раз вольно или невольно предаются воспоминаниям.
Куприн сетует: мол, больно даже думать о том, что стало с его участком в Балаклаве, который они с первой женой купили в 1905 году. Читал как-то в «Последних новостях»[135]135
Подробнее см.: Куприн А. Сад // Русская газета [Париж]. 1924. 30 апреля.
[Закрыть], что он национализирован для устройства там рабоче-крестьянской санатории, а значит, разорят всё, изуродуют[136]136
Участок Куприна в Балаклаве, купленный на имя М. К. Куприной, в курортных целях более никогда не использовался. В наши дни совершенно запущен.
[Закрыть].
Князь Оболенский вспоминает свою дачу в имении «Саяни», между Гурзуфом и Алуштой.
Вздыхает Соломон Крым: разве может сравниться убогий домик на мысе Гурон с его виллой «Виктория» на набережной Феодосии? Целый замок у него там был: модерн с элементами кавказской храмовой архитектуры. Проектировал сам Николай Петрович Краснов, талантище, автор императорского дворца в Ливадии.
Печально качает головой кадет Николай Николаевич Богданов, бывший подчиненный Соломона Крыма, имевший две роскошные виллы в Симеизе, а теперь ведущий с женой в Фавьере образцовое хозяйство: огород, промышленный цветник.
Артистически закатывает глаза баронесса Врангель, вспоминая свою прошлую жизнь в Крыму: отец имел огромный дом в центре Ялты. Задумчив ее муж, барон Николай Врангель. Его отец владел доходным имением в Чоргуне, под Севастополем: собственный виноградник, дом, прямо на участке средневековая башня, оставшаяся Бог знает с каких времен.
А вот профессор Метальников точно знает, что стало с их семейным гнездом «Партенит» на склоне горы Аю-Даг – там теперь пионерский лагерь «Артек», которым так гордятся в СССР. Что же стало с его дачкой в Батилимане, и думать не хочется, наверняка ничего нет.
«Наверняка!» – эхом отзывается Иван Билибин. Он подозревает, что и его батилиманский домик не пощадило лихолетье[137]137
В 1929 году, когда происходил описанный разговор, все дачи в Батилимане еще были целы и использовались в курортных целях. На даче П. Н. Милюкова, самой большой и добротной, работали столовая и библиотека, фонд которой составили книги самого Милюкова, брошенные здесь. Большинство дач было уничтожено во время фашистской оккупации Крыма в 1942–1944 годах.
[Закрыть]. Был он ветхим, перестроенным из рыбацкой хижины. Ох и тяжело там жилось во время деникинского «сидения»: холодно, голодно, страшно. Щекатихина-Потоцкая бросает на мужа недовольный и ревнивый взгляд: она знает, что там, в батилиманской глуши, Иван Яковлевич увлекся дочерью Чириковых Людмилой и написал ее восхитительный портрет.
«Это все хорошо, господа, но кто из вас имел дачу по проекту самого Растрелли?!» – переключает на себя внимание старик Белокопытов. Все давно знают эту историю, но снова с замиранием сердца слушают о деревне Поповка на Киевщине, родовом имении Белокопытовых, которое, по семейной легенде, проектировал Растрелли.
Слушают, вспоминают, вздыхают и расходятся по своим «кабанонам».
До поздних, «мохнатых» звезд засиживаются на берегу Саша Черный и Николай Станюкович. Первый не спеша рассказывает о своей жизни, второй с любопытством слушает. Слушает и вдруг не выдерживает: показалось ему, что старший товарищ говорит о той жизни как о чем-то, что никогда более не вернется; сам же Станюкович еще думает о возвращении на родину. Потому и спросил: неужели Александр Михайлович больше не верит в их общее русское будущее? Поэт «со светлой и грустной улыбкой» покачал головой. «Нет! – сказал он. – Что бы ни случилось, я не вернусь обратно, потому что моей России более нет и никогда не будет!!» (курсив автора. – В. М.) (Станюкович Н. Саша Черный // Дальние берега: Портреты писателей эмиграции).
Россия потеряна безвозвратно – Александру Михайловичу это было ясно. А Франция хоть и прекрасная страна, но русские обречены в ней быть инородцами, эмигрантами, «апатридами», и выносить это с возрастом все тяжелее. Но выход есть. Нужно жить в Ла Фавьере, где все равны. Первобытность создает иллюзию, что всё общее, что нет хозяев, а к политике окрестные фермеры вообще равнодушны.
Поэт ложится спать, но сон не приходит. Трещат безумные цикады, ухает где-то совушка, шумит, шурша песком, волна, одуряюще пахнет лавандой, и сердце постепенно оттаивает:
Как волк, смотрю я в звездный мрак,
В пустое, мертвое Ничье,
Вот стол, вот лампа, вот табак,
Вот сердце теплое мое…
(«Ночью», 1929)
3
Отныне все житейские помыслы Саши Черного были сосредоточены на строительстве домика и благоустройстве своего участка в Ла Фавьере. Этому был посвящен весь 1930 год. Они с женой приезжали в Прованс даже зимой, чтобы наблюдать за ходом работ. Париж тяготил поэта все больше, и все реже он покидал свою «штаб-квартиру» на авеню Готье. Журналист Николай Рощин, приятель Куприна, рассказывал, что Александр Михайлович стал исключительным домоседом и очень устал от всех «противоречий жизни»: «В осенние долгие вечера изредка заходил я в его скромную квартиру в Отей. Мы говорили о многом – о литературе и языке, об ответственности писателя и читательском долге, о прошлом и действительности, и в разговорах с ним как-то особенно резко выступала грань между черным и белым, особенно остро чувствовалось, как трудно сберечь в мире правду простой человеческой совести. Волновала эта неуступчивость, эта возвышенность над властной мелочью дней, этот огонь, неназойливый, но неугасимый» (Рощин Н. Печальный рыцарь). Черный казался Рощину «почти аскетом», а в целом – Рыцарем печального образа, очень несовременным и потому загадочным.
Тем не менее в оставшиеся ему немногие годы наш герой успел принять участие в трех мероприятиях отнюдь не затворнического характера, и о них никак нельзя умолчать.
Первое состоялось в марте 1930 года и, надо полагать, доставило поэту массу волнений и хлопот: он впервые праздновал юбилей творческой деятельности. Мы уверены в том, что Александр Михайлович принес себя в жертву Ла Фавьеру, ведь логичнее было бы устроить юбилей в октябре, когда ему исполнялось 50 лет. Но деньги, которые мог принести его вечер, нужны были сейчас, накануне сезона. Нашу версию подтверждает Андрей Седых, которого командировали интервьюировать юбиляра. Он преподнес красную дату как возникшую спонтанно: «…в один прекрасный день А. М. Черный вспомнил, что 25 лет тому назад Саша Черный явился в редакцию „Волынского вестника“, издававшегося в Житомире, и предложил первое свое произведение. <…> Через несколько дней житомирская периодическая печать обогатилась новым сотрудником, горделиво подписывавшим свои заметки „Сам по себе“» (Седых А. Юбилей без речей). Далее Седых изложил основные вехи творческого пути Черного. Поскольку сообщить о них мог только сам поэт, посмотрим, что же он считал значимым, этапным. После появления в «Волынском вестнике» это – приход в 1905 году в «Зритель», затем выход в 1911 году первой книги стихов и «Живой азбуки», затем Шаляпин спел «Чижа», Аверченко выпустил «Сатирикон», а сам Саша Черный поэму «Ной» в «Шиповнике». Еще Александр Михайлович счел нужным напомнить о книге «Жажда» и своих детских эмигрантских книгах.
Показательно! Однако юбиляр допустил массу неточностей, которые ему позволительны, а нам следует устранить: его дебют в житомирской печати состоялся не двадцать пять, а двадцать шесть лет назад, летом 1904 года. Первая книга стихов («Сатиры») вышла не в 1911-м, а в 1910 году, «Живая азбука» вообще в 1914-м. Аверченко начал выпускать «Сатирикон» раньше всех этих последующих успехов, в 1908-м, хотя – какая разница? Юбилей состоялся, и это главное.
Интервью, взятое Андреем Седых, называлось характерно – «Юбилей без речей». Сохранившиеся фотографии этого вечера позволяют утверждать, что народу было немного, в основном молодежь. Атмосфера камерная, никакого пафоса и сцен с рампой. Александр Михайлович сидел с чашкой чая посреди своих гостей и тем не менее, судя по его неловкой позе, схваченной фотографом, очень волновался и смущался. Моральную поддержку ему оказывал Куприн.
Через год после юбилея судьба преподнесла Саше Черному шанс снова приблизиться к уровню своей петербургской славы. Это второе важное событие: весной 1931 года Черный с Микки явились на рю Вивьен, 51, в редакцию… «Сатирикона».
Мы не оговорились. Спустя 17 лет после кончины первого «Сатирикона» и 13 лет после запрещения большевиками второго – «Нового Сатирикона», вновь родился журнал «Сатирикон». Однако назвать его третьим никак нельзя, ведь и до него рождались и достаточно быстро погибали несколько других «Сатириконов». В 1921–1922 годах «Наш Сатирикон» выходил в Кишиневе; в 1922 году, живя в Константинополе, Аркадий Аверченко выпустил «Рождественский Сатирикон». В том же году «Дальневосточный Сатирикон» распространялся в Харбине. В 1925 году один номер «Сатирикона» увидел свет в Риге. Парижский же проект был интересен тем, что за ним стоял легендарный Михаил Германович Корнфельд собственной персоной.
Сколько воды утекло с тех пор, как Саша Черный в 1908 году видел Михаила Германовича растерянным юношей, корпевшим над журналом «Стрекоза» и старавшимся вывести его из смертельного пике! Теперь это был 46-летний бизнесмен, издатель: «…тщательно выбрит, тонзура как у католического прелата, глаза играют, галстук бабочкой» (Дон Аминадо. Поезд на третьем пути // Дон Аминадо. Наша маленькая жизнь). С предложением редактировать журнал Корнфельд пришел к Дон Аминадо, однако тот согласился только при условии, что его имя в качестве редактора фигурировать не будет: «…после третьей рюмки мартеля – три звездочки, modus vivendi… была установлена: редактором-издателем будет Корнфельд, то есть портить отношения с братьями-писателями и художниками его дело, а внутренняя работа будет лежать на мне» (Там же).
Что и говорить, это была громкая акция. «Возрождение» сообщило о грядущем воскрешении журнала еще в начале февраля 1931 года, добавив, что «к участию в журнале привлечены, помимо старых „сатириконцев“ все лучшие литературные и художественные силы зарубежья» («Сатирикон» // Возрождение. 1931. 4 февраля). Надо полагать, что с этого времени наш герой никак не мог оставаться в стороне от организационных вопросов. В его жизнь вдруг вернулись давно забытые, но засевшие в подкорке мозга понятия: идти на редсовет в «Сатирикон», «расклейка», тематический номер, карикатура на разворот… Все они неминуемо привели за собой старый Петербург, а стало быть, ностальгию. Это настроение еще более усилилось, когда 5 марта 1931 года Александр Михайлович оказался в числе приглашенных на вечере памяти Аркадия Аверченко, которого уже шесть лет не было на свете и который наверняка был бы рад узнать о том, что его детище вновь становится на ноги. Вечер получился на удивление теплый! Пришли те, кто действительно близко знал Аркадия Тимофеевича; пафосных фраз не бросали, а делились воспоминаниями о нем – непринужденно, с юмором. Многое всколыхнул в памяти Саши Черного вышедший на сцену замечательный артист Михаил Яковлевич Муратов: он дружил с редакцией «Сатирикона» с первых лет существования журнала и припомнил сатириконский бал 1910 года. Тогда дата бала совпала с днем похорон Веры Федоровны Комиссаржевской, из-за чего Аверченко, оказывается, переживал. А еще он негодовал, что на кладбище к нему подошел некто и в лоб спросил: «Ты зачем здесь? Что тут смешного?» Муратов, пожимая плечами, признавался, что для него Аверченко остался загадкой: это был не человек, а оживший юмор, и он умел обратить в смех любую ситуацию, даже самую трагическую. Ту же мысль Черный высказывал в своем стихотворении «Сатирикон», которое прозвучало и в этот раз, но не в авторском исполнении, а из уст актрисы Елены Маршевой, близкой подруги Аверченко (см.: Ч. Памяти Аверченко // Возрождение. 1931. 7 марта).
То же стихотворение, помещенное на траурной страничке памяти Аверченко и Потемкина, русские парижане прочитали в первом номере «Сатирикона» 4 апреля 1931 года. И пусть подпись под ним была «А. Черный», а не «Саша Черный», – факт остается фактом: наш герой декларативно вернулся в ряды сатириконцев.
Корнфельд запустил журнал именно в этот день, памятуя о дате рождения первого «Сатирикона». Преемственность была подчеркнута и тем, что на обложке красовался старый логотип, и тем, что возродили эмблему – толстяка-сатира, некогда придуманного Ре-ми, и старыми рубриками «Волчьи ягоды», «Перья из хвоста». Это с удовлетворением было отмечено теми, кто хорошо помнил, что такое «Сатирикон» и как он должен выглядеть. «И с внешней стороны, и по содержанию этот „первый номер“ удался на славу, – писал Сергей Маковский, бывший издатель петербургского журнала „Аполлон“, – и, можно думать, понравится даже тому читателю, который не помнит старого петербургского „Сатирикона“. Впрочем, кто не помнит?» (Маковский С. Возрожденный «Сатирикон» // Возрождение. 1931. 5 апреля).
Те, «кто помнит», конечно, были рады видеть в составе сотрудников А. Черного. Однако сказать об этом эпизоде его эмигрантской жизни особо нечего. Он был кратковременным, да и высоко оценить то, что поэт давал в журнал, трудно. Хотелось бы вспомнить лишь один забавный случай из жизни редакции, который существенным образом был связан с жизнью Парижа, и не столько русского, сколько французского.
К концу 1920-х годов население страны охватила апатия в связи с экономическим кризисом. Правительство было обеспокоено. Лихорадило французские колонии. Политики предсказывали колониальный кризис. Нужно было что-то предпринять для поднятия национального духа. И вот родилась идея организовать в Венсенском лесу под Парижем колониальную выставку. Она открылась 6 мая 1931 года и работала полгода. Это было нечто грандиозное; ничего подобного по зрелищности и размаху французская столица более никогда не устраивала.
В середине июня на очередном совещании в редакции «Сатирикона» Александр Михайлович услышал, что планируется тематический «колониальный» выпуск и что сотрудники командируются в Венсенский лес. Кстати, в юмористическом отчете об этом заседании сообщалось, что на него был допущен «на правах терпимости к животным» вездесущий Микки и «трепетанием хвоста» участвовал в обсуждении, а 22 июня ровно в 11 часов вместе со всеми рванул в разноцветные павильоны (Экспедиция сатириконцев на колониальную выставку // Сатирикон. 1931. № 15). С ним ходил и Черный: глядя в путеводитель, обозревал бутафорские пагоды, дворцы, туземные деревни с живыми неграми.
Все, что надо, я проделал:
Полчаса глазел, как негры,
Зверски дергая задами,
По помосту дули вскачь…
………………………
Дотащился до зверинца…
На площадке голой спали
Львы, брезгливо повернувшись
К пестрой публике спиной.
В ров жираф забрался тощий
И, как нищий, клянчит пищи…
Я облатку аспирина
Сунул в рот ему, смутясь…
(«Колониальный день», 1931)
Все не так, как надо. Только один объект вызвал искренний восторг поэта: копия храма Анкор-ват, посвященного богу Вишну, в натуральную величину (оригинал в Камбодже). Грандиозная постройка напомнила Александру Михайловичу о его заветной мечте: «Обошел я храм Анкорский… / Ах, пожить бы в этом храме / Одному недели три!»
Этот юмористический отчет появился в «Колониальном» выпуске «Сатирикона», а под ним был напечатан портрет Микки, стилизованный под индийский, с точкой во лбу. Микки был и на обложке в весьма сатирическом и не совсем приличном виде: не будем его компрометировать описанием. Судя по всему, фокстерьер Черного был легендой «русского Парижа» и, подобно Микки I, украшавшему собой «Иллюстрированную Россию», становился элементом фирменного стиля «Сатирикона».
К лету 1931 года журнал Корнфельда уже отправлялся в Германию, Австрию, Голландию, Данию, Турцию и другие страны русского рассеяния. Пресса захлебывалась рекламой и бодрыми прогнозами, но… «Сатирикон» тихо скончался в октябре того же 1931 года на 28-м номере. Причины этого, по нашему мнению, были и объективные, и субъективные.
Прежде всего, «новое старое» начинание Корнфельда возникло не в лучшие времена. Финансово-экономический кризис. Великая депрессия. Напряженная международная обстановка: по ту сторону Рейна уже маршировали нацисты. Было как-то не до смеха. Впрочем, и первый «Сатирикон», стартовавший в 1908 году, заставлял многих пожимать плечами: до юмора ли?
Полагаем, что провал был предрешен и потому, что главного козыря старого «Сатирикона» – слаженного коллектива молодых, талантливых и остроумных людей – не было, как не было и редактора Аверченко.
Что представляли собой к этому времени бывшие сатириконцы, приглашенные в новый проект? Владимир Александрович Азов, в прошлом знаменитый питерский критик-эстет, теперь был старым, больным, раздавленным и обозленным человеком, слишком долго, до 1926-го, жившим «под большевиками». Печальное зрелище являл собой Валентин Горянский, по словам современника, «полуслепой», «вечно голодный, вечно оборванный» (Любимов Л. На чужбине. Ташкент: Узбекистан, 1965. С. 204). Сергей Горный, живущий в Берлине, никак не мог оправиться от штыковой раны в живот. Вернуть дух «Сатирикона» всем этим людям было не под силу, как не под силу вернуть свою молодость. Да и нельзя войти в одну воду дважды. Это поняла лишь проницательная Тэффи, отказавшаяся участвовать в новой затее.