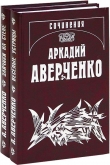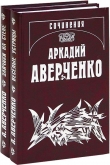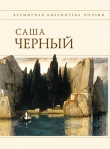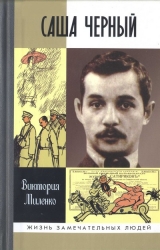
Текст книги "Саша Черный: Печальный рыцарь смеха"
Автор книги: Виктория Миленко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
Здесь же Анна Ильинична, вдова Леонида Андреева. Уже год как она приехала в Париж из Чехословакии вместе с Мариной Цветаевой, с которой там подружилась. Рассказывала Александру Михайловичу и Марии Ивановне, что выдала замуж старшую дочь Нину и теперь приходится эту семью содержать: зять безработный, и еще ребенка завели. Андреева не любит говорить о внуке, она не хочет быть бабушкой и настрого запретила так себя называть. Савву и Валентина отдала в парижскую Русскую гимназию, а Веру отправила в Прагу доучиваться.
Борис Григорьев с женой. С тех пор как он в Берлине иллюстрировал «Детский остров» Черного и смутно представлял себе будущее, жизнь наладилась. Художника очень ценят в США, и он живет на две страны: зимой в Америке, летом во Франции…
Размышления поэта прерывает внезапно наступившая тишина. Высокий, статный человек с благородной сединой на висках вышел на сцену и что-то говорит аккомпаниатору, а зал уже взорвался овациями. Для сотрудников «Иллюстрированной России» сегодня поет Юрий Морфесси!
Минута – и полилась знакомая до щемящей боли мелодия, зазвучал глубокий бархатный баритон: «Эй, ямщик, гони-ка к „Яру“!..» Да, пел когда-то Морфесси и в московском «Яре», и в петербургском «Кавказском погребке» на Караванной, и перед императорской семьей по их Высочайшему приглашению, а теперь работает в парижском ресторане «Эрмитаж», торгуя экзотикой «а-ля рюсс».
Куприн, сидящий напротив Черного, хитро улыбается. Александр Иванович знает Морфесси очень давно, и, возможно, вспоминаются ему развеселые дни далекого одесского 1909 года, когда они дружили компанией: он, Морфесси, клоун Жакомино, борец Иван Заикин и негр-танцор Боба-Гопкинс. Да-с, Одесса их запомнила!.. Морфесси как-то предложил поставить своими силами оперетту «Прекрасная Елена» в помощь нуждающимся одесским студентам. Куприну досталась роль Калхаса, Заикину – Ахилла, Жакомино – одного из Аяксов, сам Морфесси взял Менелая. А у Александра Ивановича тогда, как на грех, появился поклонник из местных, безостановочно поставлявший коньяк, и когда он вышел на сцену, то понес полную околесицу. Морфесси хватался за голову, но публика всё снесла – слишком любили Куприна! (см.: Морфесси Ю. Жизнь, любовь, сцена. Воспоминания русского баяна. Париж: Старина, 1931. С. 87–89).
Концертная программа сменилась речами. Председатель Гольдштейн затянул приветственное слово в адрес создателя «Иллюстрированной России» Миронова. Александр Михайлович слушал вполуха: …культурное значение… сплочение лучших российских авторов… несомненная заслуга руководителя… Следующее выступление его.
Поэт поднялся. В одной руке бокал вина, в другой торжественный спич. Конечно, он был ироничен, возвышенных фраз не ронял, шутил над тем, до чего все они докатились, по сути, обслуживая бессмертного обывателя:
Словно в Ноевом ковчеге,
Всё в журнале вы найдете:
Двухголового верблюда,
Шляпку модную для тети,
Уголовную новеллу
В двести двадцать литров крови
И научную страничку —
«Как выращивают брови»…
(«Иллюстрированной России», 1926)
А что делать? Вон даже «старцы Петр и Павел» завели в своих газетах рубрики «Тайны замков» и «Вампиры», придумав наконец, как связать тираж с идеей. В зале смех. Все поняли, что Черный намекает на Павла Милюкова и Петра Струве, издателей газет «Последние новости» и «Возрождение».
Обед затянулся до поздней ночи; расходились неохотно и всё говорили, говорили, говорили. О России, о борьбе, о походе на Москву. Черный слушал, кивал, но мысленно был уже не здесь, а в Провансе, на юге Франции. Но этому мы посвятим отдельную главу.
Осень 1926 года принесла им с женой новую трагедию: 21 октября скоропостижно скончался Петр Потемкин. И снова это не укладывалось в голове, ведь совсем недавно Черный видел его веселым и счастливым. Петр Петрович провел лето в Венеции и Флоренции, где снимался в кино[119]119
Потемкин сыграл эпизодическую роль мессера гранде в картине «Казанова» (1928), снятой русским режиссером Александром Волковым. Фильм доступен в сети Интернет.
[Закрыть], достаточно заработал и, вернувшись в Париж, снял хорошую квартиру близ Венсенского леса. «Устроился!» – говорили все. Вот и «устроился»: 19 октября заболел гриппом, давшим осложнение на больное сердце, и сгорел за три дня. Потемкину было всего 40 лет.
И вновь наш герой стоит в переполненном скорбящими русском храме на рю Дарю, где в марте прошлого года он поминал Аверченко. Гроб покойного утопает в цветах и венках. Кончилась служба, и печальная процессия потянулась к кладбищу Пантэн. Опустив голову, брел Черный; за ним Борис Зайцев – земляк Потемкина, орловчанин, Марк Алданов, Тэффи… Насупившись, шли издатель «Иллюстрированной России» Миронов и Дон Аминадо.
«Милый Петя Потемкин… – напишет Дон Аминадо в некрологе. – Наверное, все мы хоть и немножко, а уж чем-то пред тобой виноваты. Ведь все мы тут друг к дружке и немного небрежны, и неласковы, и торопливы. – Здравствуйте, до свидания, сердце болит?.. Пустяки, не надо прислушиваться, всего хорошего, боюсь свое метро пропустить!
И махнули рукой… и больше не встретились…
Так, пожалуйста, Петр Петрович, если можешь, прости нас» (Миронов М. Петр Потемкин // Иллюстрированная Россия. 1926. № 44 (77).
Саша Черный же думал о том, что в землю опускают настоящего поэта, каких нет больше и вряд ли будет. Вспоминал, как Потемкин умел видеть в буднях живую и красочную жизнь. «Соловьиное сердце» – так поэт назвал стихотворение памяти ушедшего друга, оборвав его красивой и трагической метафорой:
Надорвался и сгинул. Кричат
биржевые таблицы…
Гул моторов… Рекламы… Как
краток был светлый порыв!
Так порой, если отдыха нет,
перелетные птицы
Гибнут в море, усталые крылья
бессильно сложив…
Через несколько дней после этой смерти Александр Михайлович устроил гибель понарошку: в ночь на 27 октября 1926 года он заставил скончаться от алкоголизма своего двойника профессора Смяткина, о чем с прискорбием сообщила «Иллюстрированная Россия». Так Черный официально отказался от сатирико-юмористической рубрики «Бумеранг». После смерти Аверченко он ее получил, а после ухода Потемкина решил оставить. Вряд ли это случайность; ему было невесело.
Жизнь тем не менее продолжалась, и похороны сменялись шумными праздниками. 12 декабря 1926 года в зале «Альма» состоялось чествование Бориса Зайцева в связи с 25-летием творческой деятельности. Юбиляр пригласил свыше 250 человек и крайне сожалел, что некоторым пришлось все же отказать. Газета «Возрождение» утверждала, что Борису Константиновичу «удалось осуществить такое объединение русской эмиграции, какого до сих пор никому не удавалось» (С. Чествование Б. К. Зайцева // Возрождение. 1926. 14 декабря). Был здесь и общественно-политический бомонд (П. Н. Милюков, П. Б. Струве, В. М. Зензинов, Н. Д. Авксентьев), и артистический (актриса Е. Н. Рощина-Инсарова, композитор А. Т. Гречанинов), и литературный (И. А. Бунин, Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус, Тэффи, Марк Алданов). Саша Черный с супругой, разумеется, оказались в числе приглашенных.
Поэтессе Ирине Одоевцевой, впервые увидевшей в тот вечер Зайцева, он запомнился таким: «Борис Зайцев был как-то совсем по-особенному тихо-ласков и прост, аристократической, высокой простотой, дающейся только избранным» (Одоевцева И. На берегах Сены. М.: Художественная литература, 1989. С. 214). Одоевцева, знавшая, что обязательно будет Бунин, специально приехала из Ниццы, чтобы с ним познакомиться. Нужно ли говорить о том, что и Саша Черный был счастлив видеть Бунина, восседавшего рядом с юбиляром и, по словам Одоевцевой, постоянно оттягивавшего все внимание на себя. В эмиграции Иван Алексеевич сильно изменился внешне: перестал носить усы, от чего, по общему мнению, добрал солидности, породы, как-то весь приосанился.
Бунин председательствовал на мероприятии и во вступительной речи сразу предупредил, что не допустит никакой политики в речах ораторов. Те «подчинились и тщательно обходили это запретное место» (С. Чествование Б. К. Зайцева). Тосты были нескончаемы. С лукавой улыбкой и Черный зачитал поэтический подарок, выразив свое отношение к Борису Константиновичу.
Борису Зайцеву не нужно плести «пышноцветный хвост павлиний». Он настолько хороший человек и прекрасный писатель, что слова находятся сами собой. Когда «Карамзин маститый» говорил, что хороший писатель должен быть хорошим человеком, это он явно имел в виду Зайцева…
Далее поэт коснулся той темы, что ему самому была памятна, – встречи с Зайцевыми в Риме:
Пункт четвертый. Тихий Зайцев,
Как ни странно, двоеженец:
Он Италию с Россией
В чистом сердце совместил.
Сей роман – типично русский, —
И у Зайцева Бориса
Римский воздух часто веет
Безалаберной Москвой.
(«Б. К. Зайцеву», 1926)
Текст этого спича сохранился в архиве Бориса Зайцева. Другую реликвию, напоминавшую о Саше Черном, всю жизнь хранила дочь Зайцевых Наташа (в замужестве Соллогуб). В 1927 году родители на пятнадцатилетие подарили ей альбом для автографов, с которым она приставала к именитым гостям дома. Был там и автограф Александра Михайловича[120]120
Воспроизведен в кн.: «Напишите мне в альбом…»: Беседы с Н. Б. Соллогуб в Бюсси-ан-От / Авт. – сост. О. А. Ростова; коммент. Л. А. Мнухин. М.: Русский путь, 2004.
[Закрыть] – стихотворение «Римский дождь».
Между тем наш герой стоял на пороге новых событий: уходящий 1926 год принес ему знакомство с художником, с которым они выпустили несколько прекрасных детских книг.
4
Художник Федор Степанович Рожанковский, выпускник Московского училища живописи, ваяния и зодчества, фронтовик, только-только начинал обживаться в Париже. Он перебивался случайными заказами: рисовал рекламные плакаты для универмага «Бон марше» и изредка получал мелкую работу в «Иллюстрированной России». Это потом Федор Степанович станет мэтром книжной иллюстрации[121]121
С 1932 года Ф. С. Рожанковский станет иллюстрировать серию французских детских книг «Albums du Pere Castor» («Альбомы папаши Бобра»), на которых вырастут несколько поколений французских детей. Одной из самых популярных была книга «Michka» («Мишка», 1941).
[Закрыть], обладателем наград и медалей, а сейчас ему впервые улыбнулась удача: он познакомился с известным поэтом Сашей Черным и получил от него несколько заказов.
Повторилась история с Вадимом Фалилеевым, которого поэт некогда вывел на большую арену. Кстати, Вадим Дмитриевич к этому времени уже жил в Берлине, а в позапрошлом году приезжал в Париж, где принимал участие в Международной выставке декоративных искусств и художественной промышленности. Черный на выставке был, потому что написал о ней шутку «В венском павильоне» (1925), однако нет никаких указаний на то, что они с Фалилеевым встречались. Ни одной новой книжки вместе они больше не сделали. Странно, но это так.
Есть основания полагать, что Александр Михайлович не только творчески, но и по-человечески симпатизировал Рожанковскому, потому что позволил своему новому знакомому написать с себя портрет (до сих пор это удавалось одному Фалилееву). Портрет был в некотором смысле игровой и с намеком: Саша Черный изображен в той черногорской шапочке, в которой его видела в Риме Валентина Праве, с мандолиной, а над ним – двухголовая утка-свистулька, свидетель веселого Рождества 1913 года у Фалилеевых. Неясно, что поэт хотел сказать этой игрушкой. Привет Фалилееву? Извинение перед Фалилеевым за то, что «ушел» к другому художнику?
Первой ласточкой нового творческого тандема Черный – Рожанковский стала знакомая нам «Живая азбука», вышедшая уже в третий раз с третьим вариантом иллюстраций (Фалилеев, Дризо, Рожанковский). Рецензии на нее были самые положительные, и их авторы, что немаловажно, отмечали мастерство художника: «Каждая буква в этом букваре сопровождается соответствующим рисунком. Слон ужасно заболел. Сливу с косточкою съел. Наивность рисунка вполне соответствует тексту. Слон с завязанным животом беспомощно лежит на спине и, видимо, очень страдает, бедняга. Я не сомневаюсь, что эта книга Саши Черного будет иметь большой успех. Она стоит того. По такой книге и весело, и приятно учиться грамоте. Рисунки г. Рожанковского превосходны» (Яблоновский А. «Живая азбука» // Возрождение. 1927. 24 февраля).
Воодушевившись успехом «Живой азбуки», Черный и Рожанковский сели за работу над «Дневником фокса Микки». Чувствуется, что оба вложили в него много души и выдумки. Александр Михайлович издавал книгу на собственные деньги, поэтому в работу никто не вмешивался и он сделал все так, как хотел.
Прежде всего, Рожанковскому был представлен прототип Микки, который попал крупным планом на цветную обложку. Хитрый фокс с приподнятой бровью (думает) и карандашом в зубах получился очень убедительным. Остальные иллюстрации в книжке черно-белые. Микки во всех ракурсах – танцующий, спящий, скучающий, просящий подачку, подглядывающий за кухаркой, плывущий на пароходе, едущий в купе – царит на ее страницах.
Родителей, то есть покупателей, должно было привлечь великолепное качество издания «Дневника…», которое обеспечила русская типография «Навар» на рю Гобелин. Типография принадлежала владельцу газеты «Возрождение» миллионеру Абраму Осиповичу Гукасову и печатала многочисленные русские издания, в том числе «Иллюстрированную Россию». «Дневник фокса Микки» вышел на прекрасной бумаге, тиражом в 200 экземпляров, причем каждый был пронумерован и, согласно предуведомлению автора, лично им подписан. Биограф поэта Анатолий Иванов сообщал, что надпись была такая: «Саша Черный. Париж. 1927». Мы же утверждаем, что подписаны были не все книги: та, что найдена нами в пражской Славянской библиотеке, имеет только порядковый номер (157), но не имеет автографа.
Фокс Саши Черного обрел шанс шагнуть в века: книга есть книга, и встретили ее ласково. Писатель Владимир Николаевич Ладыженский отметил в рецензии: «Писать от имени животного, передавать его мысли и чувства, – дело необыкновенно трудное. <…> Дело в том, чтобы все время чувствовалось животное, а не автор, спрятавшийся за ним, как резонёр в классической пьесе, для выражения своих мыслей. И надо отдать справедливость, Саша Черный за едва заметными исключениями с большой художественной изобретательностью справился с задачей. Когда фокс говорит, что автомобиль, прежде всего, дурно пахнет, когда он описывает Париж так, что, куда ни посмотришь, ноги, ноги и ноги; автомобили, как пьяные носороги, летят, хрипят и все на меня; когда он с чисто собачьей привязанностью, оставшись на даче, тоскует по своей хозяйке Зине, вы уже не чувствуете за его образом автора. „Попала бы моя книжка в лапки какой-нибудь девочки в зеленом платьице… Села бы она у камина с моим сочинением, читала бы, перелистывала бы и улыбалась. И в каждом доме, где только есть маленькие ножки с бантиками и без бантиков, знали бы мое имя: Микки!“ И вот во имя этой детской улыбки, не часто блистающей в эмиграции, рецензенту остается только присоединиться к пожеланию автора и горячо рекомендовать книгу Саши Черного. Книга издана мало сказать превосходно, но, несомненно, с большой любовью и знанием дела» (Ладыженский Вл. Детская книга // Возрождение. 1927. 27 июня).
Выход «Дневника фокса Микки» обрадовал не только детей, но и семью Куприных возникшим взаимовыгодным сотрудничеством с Сашей Черным. Дело в том, что Елизавета Морицовна, изыскивая дополнительные средства к существованию, открыла на рю Фондари библиотеку, которой присвоила имя Куприна в расчете на то, что возможность не просто взять книгу на дом, но и пообщаться перед этим с «живым Куприным» привлечет сюда публику. Тем не менее маленький бизнес Куприных хромал, и Елизавета Морицовна едва сводила концы с концами. Желая ее поддержать, Александр Михайлович отдал ей на реализацию «Дневник фокса Микки», разумеется, решая и свои проблемы. Вряд ли он предполагал продавать книгу самостоятельно (не все это умеют), а у купринской библиотеки была наработанная клиентура.
Позднее Куприны получат эксклюзивное право на продажу «Кошачьей санатории», которая выйдет в мае 1928 года в «Детской библиотечке „Микки“». Федор Рожанковский выполнит чудесные иллюстрации и к этой веселой книжке, а «русский Париж» поблагодарит Сашу Черного и за само ее появление, и за то, что она – «отличное руководство к изучению родного языка для детей, которые вынуждены в чужой стране учиться на чужом языке» (С. Кошачья санатория // Возрождение. 1928. 31 мая).
Вообще, наступил период, когда всё удавалось и предложений работы поэту хватало. Оставалось только сделать выбор, наконец, какой из ведущих парижских русских газет отдать свое перо: «Последним новостям» Милюкова или «Возрождению» Струве. Обе выражали взгляды своих редакторов и продолжали спорить о новой России, в которую верили: белая эмиграция непременно вернется и ей предстоит выбирать форму государственности, исправляя ошибки 1917 года. «Последние новости» ратовали за демократическую республику, «Возрождение» – за монархию.
Александр Михайлович как-то кружил около, был над схваткой, в то время как все его коллеги выбор так или иначе сделали. В жизни рядом с ним в основном оказывались сотрудники «Возрождения»: Куприн, Зайцев, Яблоновский, Тэффи, Рощин, Ренников. Однако Черный, переживший в Пскове, в нескольких километрах от места событий, отречение императора, о возрождении монархии не грезил. В октябре 1927 года, не посмотрев на то, что получает конкурента в лице Дон Аминадо, он все-таки пришел в «Последние новости», к кадетам, и оставался им верен до самой своей кончины. Может быть, в этом решении присутствовал и голый расчет, ведь Павел Николаевич Милюков был главой Союза русских писателей и журналистов в Париже, членом которого поэт являлся.
У Черного появился еще один рабочий коллектив, помимо «Иллюстрированной России», в который нужно было вживаться. Появляясь в редакции, он быстро уяснил, что Милюков – это вывеска, а на самом деле всем здесь руководит Александр Абрамович Поляков, «Абрамыч», «отец», как его зовут сотрудники. Знакомиться им не было нужды, потому что Поляков занимался журналистикой еще с питерско-московских лет, когда сотрудничал с сытинским «Русским словом». После бегства из красного Петрограда он работал в беженских русских газетах, в Севастополе при Деникине и Врангеле редактировал «Юг» и «Юг России», где фельетонистом был Аверченко. Потом были сумасшедший Константинополь и газета «Пресс дю суар», которую беженцы окрестили «Пресс де писсуар». И снова бок о бок с Аверченко.
Когда Поляков вспоминал былое, к разговору подключался молодой, но уже опытный сотрудник «Последних новостей» Андрей Седых, отвечавший в газете за политические репортажи. Он тоже хорошо помнил и белый Крым, и константинопольское «сидение», когда с друзьями зарабатывал тем, что показывал в телескоп небо и сочинял предсказания судеб.
Седых проживет очень долгую и интересную жизнь. Он станет литературным секретарем Бунина, поедет вместе с ним на вручение Нобелевской премии, многие годы будет редактором крупной нью-йоркской газеты «Новое русское слово» и скончается в возрасте девяноста двух лет, дожив до известия о распаде СССР. Сейчас же, в 1927 году, он был 25-летним и увидел Сашу Черного таким:
«…наружность у Саши Черного была располагающая. Ничего резкого, мягкие черты лица, румянец на щеках, блестящие, черные, всегда внимательные глаза и седые как лунь волосы. Однажды он сказал мне, еще молодому, с большой шапкой черных волос:
– Как странно: вот вы Седых, а черный. А я – Черный и совсем седой.
Мы потом много смеялись, вспоминая эту остроту. Он вообще любил смеяться, не только для читателя, но и для себя и для своих друзей» (Седых А. Далекие, близкие. Нью-Йорк: Новое русское слово, 1962. С. 82).
Седых вспоминал, что Черный приходил в редакцию довольно часто и сразу старался раствориться: «Устраивался где-нибудь в уголке, застенчивый, скромный, и молча наблюдал. Если ему говорили комплименты, он смущался, словно в чем-то был виноват, скорее переводил разговор на другую тему» (Там же). Вспоминал Седых и одну ядовитую остроту Дон Аминадо, обращенную к Александру Михайловичу: «Неправильная у вас биография. <…> Непростительная это ошибка – не иметь ни родины, ни квартиры, ни портрета Алексея Максимовича Горького с собственноручной надписью…», намекая, видимо, на его былые дружеские отношения с «буревестником революции». Дон Аминадо и сам не имел родины, а портретом Горького с автографом кто из эмигрантов в 1927 году стал бы гордиться? Практически все открещивались от прошлой дружбы с ним.
А впрочем, Саше Черному было не до дрязг.
В его жизни случилось чудо, и с каждого редакционного заседания он со всех ног бежал домой.
5
Должна была все-таки фоксомания вылиться во что-то более осязаемое, нежели книжка о Микки! И вот:
В углу сидит в корзинке фокс —
Пятинедельный гномик.
На лбу пятно блестит, как кокс.
Корзинка – теплый домик.
С любой туфлей вступает в бокс
Отважный этот комик.
В корзинке маленький апаш
Зарыл свои игрушки:
Каблук, чернильный карандаш,
Кусок сухой ватрушки,
И, свесив лапки за шалаш,
Сидит, развесив ушки.
(«Щенок», 1928)
В начале 1928 года у Саши Черного появилась собственная собака, и он не мог не известить об этом весь мир. Известить с упоением, не обращая внимания на вольное ударение в слове «туфлёй». Не до грамматики, черт возьми!
Повседневная жизнь Александра Михайловича и Марии Ивановны, одинокая и не слишком веселая, вдруг наполнилась особым смыслом: теперь они отвечали за крохотное беспомощное существо, требующее постоянного внимания. По первому писку «серьезный господин» из стихотворения «Щенок», что-то строчивший в тетрадке, «Вскочил, как на резинке, / Швырнул тетрадку на камин / И подошел к корзинке…». Вместе завозились на полу: большой, взрослый ребенок и крошка-фокс, разумеется, получивший имя Микки:
Щенок устал. Закрыл зрачки,
Лизнул партнера в ухо…
Застыли строгие очки…
……………………………
По тельцу пробегает дрожь,
Врозь лапки, нос – в лопатку…
И человек вздохнул: «Ну что ж…»
И снова за тетрадку.
«Строгие очки» Микки хорошо видны на всех фотографиях: глаза у собаки имели черные ободки. К сожалению, красивой легенды о том, что щенок был сыном Микки I (псевдоавтора «Дневника…»), не выйдет, потому что Микки II был жесткошерстным фокстерьером, а это другая порода.
Бедная (или счастливая?) Мария Ивановна! Она обрела еще одного, и не самого покладистого, ребенка. Фокстерьер – собака с характером и не просто охотничья, но и хищная. С ней нужно заниматься, и Александр Михайлович с женой занимались.
В квартире на авеню Теофиля Готье прибавилось шуму. Рассказывая о том, как поэт переехал сюда в конце 1924 года, мы умолчали об одном обстоятельстве: в доме была консьержка, а у нее – маленькая дочка. Даже тот, кто не очень хорошо знаком с творчеством Саши Черного, наверняка слышал строки его известного стихотворения «Мой роман» (1927), герой которого влюблен в «консьержкину Лизу»:
Для нас уже нет двадцатого века,
И прошлого нам не жаль:
Мы два Робинзона, мы два человека,
Грызущие тихо миндаль.
……………………………
Для ясности, после ее ухода,
Я все-таки должен сказать,
Что Лизе – три с половиной года…
Зачем нам правду скрывать?
Здесь девочка названа Лизой, однако в других случаях она носит имя Жильберта («Консьержкина дочка», 1927). У малышки очень строгая мама, которая не разрешает ходить к жильцам в гости, чуть раскосые глазки и медаль на фартуке: в школе наградили. Абсолютно так же девочка описана в рассказе «Визит» (1929): к его герою приходит в гости Жильберта, «тихенькая консьержкина дочка с раскосыми глазками и школьной медалью на фартучке – за отличное поведение». Посему остановимся все-таки на французском варианте имени. У Жильберты с Микки сложатся особые отношения. Детские сюжеты сами шли к поэту в руки.
Микки, как и полагается фокстерьеру, вырос террористом. Он рвал в клочки фотографии, истошно лаял при виде горящих спичек и старался их потушить. Отдельная его ярость распространялась на африканский сувенир, «паскудного проплеванного идола», как называл его Александр Михайлович. Эта статуэтка жуткого вида стояла над умывальником: «Черное вздутое пузо с огромным пупком, бюст, как две дудки, и задранный кверху сверхъестественный зад. А уж про рожу лучше и не говорить: другой и непьющий запьет, если с таким маримондой месяц в комнате проживет» («Африканские вещи», 1931). Идола подарил Саше Черному его приятель Владимир Николаевич Унковский, врач и литератор, несколько лет проработавший в африканской французской колонии Дагомее. Местные аборигены бабе-идолу плевали в глаза, а потом этой слюной натирали себе виски, чтобы снять головную боль. Микки при виде чудовища доходил до исступления, прыгал, как на батуте, пытаясь до него достать. Достать не мог, выбивался из сил, распластывался на полу «лягушкой» и истошно выл. Мария Ивановна была с ним солидарна и постоянно ворчала, что идол неприличный (Из воспоминаний М. Н. Потоцкого. Собрание А. С. Иванова). Унковский, судя по всему, жил в одном доме с Александром Михайловичем и Марией Ивановной, так как в рассказе «Африканские вещи» среди детишек, пришедших поглазеть на привезенные им удивительные сувениры, была и «консьержкина бойкая девочка Жильберта».
С Микки у девочки свои старые счеты. Каждое утро консьержка, ее мать, просовывала под дверь Черного почту и корреспонденцию. С другой стороны уже нетерпеливо перебирал лапами Микки: он занимал пост у двери ровно в половине восьмого утра. Как только показывался угол газеты, фокс хватал ее и со всех ног мчался в спальню к хозяину, прыгал на кровать и вручал ему почту. Эту церемонию как-то наблюдал пришедший к поэту в гости Андрей Седых, он и рассказал об этом (Седых А. Юбилей без речей: К 25-летию литературной деятельности Саши Черного). Но иногда почту просовывала Жильберта, и вот тогда-то она вволю куражилась над Микки, дразня его углом газеты.
Итак, утро начиналось с газетного аттракциона. Потом Александр Михайлович и Микки шли гулять, а весной и летом – купаться. От их дома несколько минут пути до моста Гренель. Микки рвет во все стороны поводок, увидев под мостом сородичей. Оказывается, там разворачивается целая драма! У стены навес, скамья и стол. Здесь работает собачий парикмахер, и хозяева тащат к нему упирающихся питомцев: кто «китайского вурдалака», а кто «Болонку старую, собачью полудеву, / Распластанную гусеницу в лохмах…» («Собачий парикмахер», 1930).
Поднимемся с поэтом и его собакой на мост Гренель, посмотрим налево – вдали силуэт Эйфелевой башни, направо – парижская Статуя Свободы, громоздкая и весьма уродливая дива с факелом. Не может быть, чтобы Черный, глядя на нее, не вспоминал собственных стихов о баварской «бабе из металла», которую он видел в Мюнхене.
По пути домой эта пара – поэт и Микки, источник его поэз, – заворачивает на старый рыбный базар, живописнее которого нет в Париже. «Фоксик вежливо и робко / Полизал усы лангусты» («Базар в Auteuil», 1927). А может пойти в противоположную сторону – к любимому Булонскому лесу. И там Александр Михайлович обязательно найдет детей и устроит с ними и с Микки веселую игру:
Мальчишка влез на липку —
Качается, свистя…
Спасибо за улыбку,
Французское дитя!
«Слезай-ка, брось свой мячик,
Мой фокс совсем не злой, —
Быстрее всех собачек
Помчится он стрелой…»
И вот они уж вместе —
И зверь, и мальчик-гном.
(«В Булонском лесу», 1930)
…Бредут по парижской улочке двое: задумчивый, сутулый, стареющий поэт и собака, ловящая его взгляд… Здесь слова бессильны, здесь кисть требуется.
Кто знает, не было ли этой пары в эпизодах кинофильма «Русский Париж», создатели которого хотели сохранить для истории и облик писателей эмиграции. Эта лента, снятая на студии «Бианкур», сегодня утрачена. Саша Черный, если и не снимался в ней, то уж точно видел, потому что фильм демонстрировался на балу Союза писателей и журналистов 9 марта 1928 года, где он играл одну из ведущих ролей.
Много воды утекло с тех пор, когда поэт, морщась, открещивался от сатириконских бальных затей. Теперь он не просто участвовал в балах, но и проявлял инициативу. На масленичном балу 9 марта 1928 года они с Куприным организовали тир, «русские горки» и сами плясали в маскарадных костюмах (Бал писателей и журналистов // Возрождение. 1928. 9 марта). Происходило действо в ресторане отеля «Лютеция», давно облюбованном русскими.
Черный бывает в «Лютеции» так часто, что выучил наизусть и все темы русских споров, и весь репертуар буфета:
Опять поймаешь в коридорчике коллегу
И, продолжая прошлогодний диалог,
Как встарь, придешь к буфету и с разбегу
Холодной рюмкой подчеркнешь итог…
(«Размышление у подъезда „Лютеции“», 1928)
До мелочей изучил поэт и всех гостей, состав которых из года в год не меняется: «Все те же смокинги, жилеты и проборы, / Лишь седины прибавилось в висках…» Этой аудитории он почти уже не боится:
Когда ж, к прискорбию, – о Господи, помилуй! —
Тебе придется что-нибудь читать,
И над эстрадой с прошлогодней силой
Цветник уездный расцветет опять, —
Любой в нем нос изучен в полной мере,
Любой в нем лоб знаком, как апельсин.
Летом 1928 года поэт настолько осмелел и освоился в качестве артиста, что решился на гастрольное турне по курортным городам юга Франции в компании с Александром Александровичем Яблоновским. 23 июня они выступали в Лионе, 30 июня – в Гренобле, 1 июля – в Марселе, 7 июля – в Каннах и 8 июля закончили турне в Ницце. По словам Марии Ивановны, везде были аншлаги, но заработать ничего не удалось. В отличие от Парижа, где некоторые эмигранты могли заплатить за вход на литературный вечер 100 франков, в русских колониях Прованса цена в пять франков вызывала отчаяние.
Тем не менее в поездке были и плюсы. Черный опробовал на широкой публике свои юмористические рассказы для взрослых, в том числе байки из военной жизни, над которыми работал в последнее время. Убедившись в успехе, по возвращении из турне он выпустил сборник «Несерьезные рассказы», который был принят читателями с благодарностью, ведь в эмигрантской жизни было не так много веселого. Куприн писал, что книжка «пронизана легкой улыбкой, беззлобным смехом, невинной проказливостью, и если ухо улавливает изредка чуть ощутимый желчный тон, то что ж поделаешь: жизнь в эмиграции не особенно сахар» (Куприн А. Несерьезные рассказы // Возрождение. 1928. 25 октября). В числе лучших многие отметили фронтовую байку «Замиритель» о русском ефрейторе с необузданной фантазией, который придумал, как ликвидировать Вильгельма и победить Германию. Нужно подлететь на «ероплане» к немецким позициям, спустить веревку с петлей, поддеть проклятого под мышки, приволочь в штаб и заставить сдаться, «помириться».
Борис Лазаревский вспоминал об одном отзыве на «Замирителя». Как-то он разговорился с полковником А. Н. Васильевым-Яковлевым, и тот попросил: «Передайте ему (Саше Черному. – В. М.) мой восторг и мою благодарность, ведь я сам немалое время отзвонил „вольнопером“ и уж я-то могу судить, насколько Саша Черный знает быт и душу былого русского солдата…» (Б<орис> Л<азаревский>. Памяти А. М. Черного). Лазаревский передал «восторг и благодарность» Александру Михайловичу, а тот весь расцвел, покраснел и решил немедленно отослать полковнику свои «Несерьезные рассказы» с автографом.