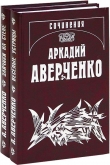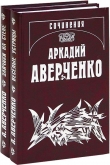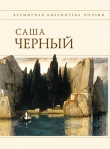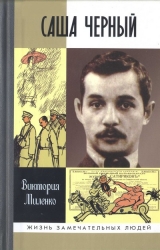
Текст книги "Саша Черный: Печальный рыцарь смеха"
Автор книги: Виктория Миленко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
Глава седьмая
БЕЖЕНЕЦ
Саша Черный больше не был фронтовиком. Четыре года страха, беспрекословного подчинения и дисциплины, портянок и сапог, вшей и мата канули в Лету, однако для поэта они никогда не превратятся в прошлое. Он так до конца и не придет с войны: она станет напоминать о себе постоянно, особенно во сне, и он будет, истязая себя, порываться что-то исправить там, в Пскове, кого-то спасти. И не он один. «Нет, от войны не уйти, пока она остается в душе» – так закончит свои воспоминания Владимир Станкевич, бывший начальник Саши Черного. «Забыть не смеем, – ты и я…» – скажет сам Александр Михайлович в стихотворении «Русские инвалиды» (1926).
Война для него кончилась. Наш герой теперь ничем не отличался от любого другого испуганного жителя бывшей Российской империи, скрывающего свое прошлое, обвешанного тюками с нехитрым скарбом и несущегося куда глаза глядят. Они с женой стали беженцами.
По словам Марии Ивановны, полковник Будревич, выехавший вместе с ними из Пскова, на первых порах пригласил их пожить на своей даче близ железнодорожной станции Турмонт под Двинском[89]89
Ныне Турмантас под Даугавпилсом.
[Закрыть]. Личность Будревича осталась для нас загадкой. Сам Черный вспоминал его как «бородатого русского Робинзона» (рассказ «Дорогой подарок», 1926), а Мария Ивановна объясняла, что полковник был мастером на все руки – умел штукатурить, белить, плотничать, столярничать, чистить дымоход, и муж с удовольствием учился у него всем этим ремеслам. И ведь не напрасно. В жизни Александра Михайловича еще наступит то время, когда все эти навыки пригодятся ему при обустройстве собственного дачного дома. Особенно он увлечется плотницким делом и будет пилить и строгать доски даже в своих городских квартирах – в сугубо лечебных целях; это занятие хорошо расслабляло нервы.
Ходи, рубанок, легче,
Укачивай мозги, —
………………………
Так любо в такт работе
Заливисто свистать
И ни о чем не думать,
И ничего не знать.
(«В поте лица», 1923)
Наши герои оказались, как тогда говорили, «на Литве». Здесь им пришлось задержаться на полтора года и наблюдать очередную политическую чехарду. Виленская губерния, к которой относился Турмонт, была оккупирована немцами еще с 1915 года. 16 февраля 1918 года в Вильно Литовская Тариба (Совет Литвы) провозгласила восстановление самостоятельного государства и подписала Акт о независимости. Однако путь к подлинной независимости оказался тернистым, литовским депутатам приходилось считаться с немцами, лавируя между ними и собственным народом. Не считаться было нельзя: немцы контролировали всю территорию Литвы, которая по их инициативе с 11 июля по 2 ноября 1918 года именовалась «королевством», хотя в нем не было короля.
Крах «королевства» по времени совпал с началом беспорядков в самой Германии, переросших в «ноябрьскую революцию» 1918 года. Немцы начали спешно покидать оккупированные территории, и Саша Черный, живший близ железнодорожной станции, ежедневно наблюдал прохождение эшелонов, набитых немецкими солдатами и имуществом. Порядок рухнул. Теперь никакая сила не могла остановить большевиков и, опасаясь, что они со дня на день окажутся здесь, Александр Михайлович и Мария Ивановна в конце декабря сами сели в поезд и через пару часов сошли на перрон вокзала города Вильно (Вильнюса), столицы ныне независимой Литвы.
В городе они наблюдали интересную расстановку политических сил: большевики, имевшие среди населения (преимущественно еврейского) значительную поддержку, малопопулярные литовские националисты и поляки, поддерживаемые местной буржуазией. Все они раздирали Вильно на части, тем более что немцы 31 декабря, прямо под Новый, 1919 год, ушли окончательно. Несколько дней столица была в руках местных польских формирований самообороны, которые не смогли противостоять большевикам.
Уже на следующий день после исчезновения немцев Саша Черный узнал о том, что в центре города идет бой: в одном из особняков объявились ЦК Коммунистической партии Литвы и Совет рабочих депутатов. Поляки напали на здание, осажденные отчаянно защищались. Бой длился два дня. 5 января 1919 года Вильно был занят частями Красной армии, а 8 января жертв этого боя торжественно хоронили. И будто в насмешку над Сашей Черным и его женой, бежавшими из Пскова, – в городе расположились 1, 2 и 3-й Псковские полки. В Вильно из Двинска переехало советское Временное революционное рабоче-крестьянское правительство. Стены домов украсились декретами Совнаркома. Немедленно исчезли продукты. На глазах поэта проходил первый съезд Советов Литвы (18–20 февраля 1919 года), было провозглашено образование Литовско-Белорусской Советской Социалистической Республики (27 февраля)…
Именно здесь у поэта составилось окончательное мнение о большевиках, ведь он больше никогда с ними не встретится. И мнение это было не в их пользу: лютая ненависть интеллигента к «скифам», как он нередко будет называть новую власть. Трудно сказать, чем было вызвано такое чувство. В Литбеле, как сокращенно называли Литовско-Белорусскую ССР, режим был установлен относительно мягкий: провозглашался курс на «примирение с буржуазией», предпринимались попытки совместного восстановления промышленности, не проводилась продразверстка. И тем не менее – лютая ненависть, а вместе с ней – любопытное пророчество:
Революция очень хорошая штука, —
Почему бы и нет?
Но первые семьдесят лет —
Не жизнь, а сплошная мука.
(«Голос обывателя», 1923)
Александр Михайлович спасался творчеством. Он с головой ушел в работу над новой книгой стихов «Детский остров», в которой не было ни слова о прошедших страшных годах, а речь шла о жизни новой, нормальной, которая должна возвратиться. Желая хоть как-то оградить рано повзрослевших детишек от груза проблем, сохранить чудесный и хрупкий мир наивности и мечты, поэт придумал для них волшебный остров, отрезанный от остального бушующего и безумного мира. И сам отдыхал на этом острове.
Мария Ивановна тоже возилась с детьми. Она рассказывала, что в Вильно оказалось много русских и еврейских семей, сумевших сохранить средства, и они приглашали ее давать частные уроки их отпрыскам, не имевшим возможности регулярно учиться.
После выхода России из Первой мировой войны и заключения Брестского мира (3 марта 1918-го) на территории бывшей Российской империи начала разгораться Гражданская война, образовывались группировки и правительства, в том числе в Польше, выступавшие против власти большевиков. 21 апреля 1919 года, когда из Вильно полностью были выбиты большевики, в город прибыл сам маршал Юзеф Пилсудский, в то время глава Польши. Он был местный: родился в местечке под Вильно, провел здесь детство и учился в гимназии.
Начались лихие дни.
Поляки мстили евреям, которых обвиняли в большевизме; устроенные погромы унесли около ста жизней. Резонанс от этих событий был настолько велик, что в июле 1919 года в Вильно прибыла специальная американская комиссия во главе с известным правозащитником Генри Моргентау. Таинственные американцы, о которых Саша Черный, как любой мальчишка его поколения, составил представление по книгам Майн Рида и Марка Твена, теперь запросто расхаживали по улицам литовской столицы. Они вмешивались в прибалтийские события и развернули повсюду пункты гуманитарной помощи, подчинявшиеся Американской администрации распределения помощи (АРА). Был такой пункт и в Вильно, и его будни Саша Черный описал в стихотворении «Американец» (1923).
Поэт рисует «нелепый город Вильно», куда его забросила судьба, безотрадным: «зловонные дворы», «дымящиеся кучи у помоек», «желтые навозные ручьи», «коридор домов, слепых, как склепы». И в этом жутком мире появляется некий марсианин – американец, о котором никто ничего не знает. Он ежедневно раздает пищу «понурой толпе» голодающих, фантастически контрастируя с ними своим благополучием: у него гладко выбритое лицо, полупоходная «манчестерская куртка», полосатый макинтош, отличные ботинки, портфель под мышкой, трубка в зубах и, как потом оказалось, браунинг в кармане. Саша Черный попытался взглянуть на Георгиевский проспект, главную улицу Вильно, глазами этого американца:
В запряжке пленные, чуть двигая ногами,
Везли к реке в возах военный скарб.
По сторонам лениво полз конвой.
Один из пленных, сдернув боком шапку.
За милостыней робко подбежал.
У фонаря проплыл балетной рысью
Чиновник польский в светлом галуне,
Расшитый весь до пяток алым кантом.
За сумасшедшей, нищею старухой,
Похожей на испуганную смерть,
Гурьбой бежали дети и визжали,
Лупя ее рябиной по плечам.
Американец пожимает плечами: «Дикая страна». Ему-то что? Он просто зритель, и он идет обедать в ресторан. А ночью на него напали, хотели убить и ограбить. Он вышел из схватки героем, и об этом теперь говорит весь город. Вот некий дом, где русская девушка-беженка, ее «собрат по бегству» агроном и местный адвокат играют в шашки, развлекаясь бесконечными спорами о том, «что было б, если б да кабы». Девушка задумчиво спрашивает:
…вы слыхали ли в былые дни у нас,
Чтоб кто-нибудь в Москве иль Петербурге
Оставил кров свой, близких и дела
И к голодающим вдруг в Индию помчался?
Саша Черный – а он, несомненно, присутствовал при разговоре – мог бы рассказать о том, как сам в юности ездил на голод в Башкирию и был таким же «американцем». Теперь всё перевернулось вверх дном, и русские, осколки великой империи, благодарно прижимают к сердцу перепавшие им консервы АРА. На вопрос девушки адвокат, протирая пенсне, цинично замечает, что, если бы этот американец совершил свой подвиг не здесь, а в Совдепии, на московской Вшивой горке, никто бы этот подвиг не заметил, или хуже того – подоспевший патруль его самого еще бы и прикончил за незаконное ношение оружия.
Тот же остроумный адвокат воскресает и в другом стихотворении Черного – «Оазис» (1919): «Матвей Степаныч, адвокат, / Владелец хутора под Вильно» приглашает героя прогуляться на этот самый хутор к своей тетке. Стихотворению предпослан эпиграф из Корана, и это не случайно. Мы почти не сомневаемся в том, что под «Матвеем Степановичем» подразумевается татарин Мачей Сулейманович Байрашевский, виленский адвокат, в прошлом учившийся в Петербургском университете, вращавшийся в столичных литературных кругах, приятельствовавший с Константином Бальмонтом и Александром Блоком. Для облегчения произношения Мачей Сулейманович наверняка разрешал называть себя на русский манер Матвеем Степановичем. Подтверждает нашу правоту найденная вильнюсским писателем Георгием Метельским в антикварной лавке книжка Саши Черного «Сатиры» (Берлин, 1922) с дарственной надписью: «Дорогому Матвею Степановичу Байрашевскому на память о Виленских мытарствах. А. Черный. 15.IV. 1922. Берлин» (Метельский Г. Моя библиотека. О чем говорят автографы // Эхо Литвы. 1993. 18 мая).
Одно из виленских «мытарств» летом 1919 года и описано в стихотворении «Оазис». Лирический герой, «задумчивый поэт», зол и очень голоден, а чувство юмора – единственное, что у него осталось:
Когда душа мрачна, как гроб,
И жизнь свелась к краюхе хлеба,
Невольно подымаешь лоб
На светлый зов бродяги Феба, —
И смех, волшебный алкоголь,
Наперекор земному аду.
Звеня, укачивает боль,
Как волны мертвую наяду…
Двое изголодавшихся виленских жителей плетутся на литовский хутор, в тетушкин «плоский домишко», оказавшийся волшебным рогом изобилия. О, как изменилось после большевистской голодухи мировоззрение «катарного сатирика» Саши Черного, в стихах которого раньше было все что угодно, кроме поэтизации трапез! Утвердившись за столом, он и «Степаныч» жадно набрасываются на еду: первый заглатывает ее «как кит», второй «как допотопный ящур»… Остановись, мгновенье! Наконец адвокат, «набив фундамент», другой, «выпучив фасад», доковыляли до леска, упали на землю и едва предались метафизическим прениям, как из домика раздалось: «Обе-е-дать!» Сказка продолжалась: «О, суп с лапшой, / Весь в жирных глазках, желтый, пылкий…»
«Что слышно в городе?» – «Угу».
Напрасно тетушка спросила:
Кто примостился к пирогу.
Тот лаконичен, как могила…
Вполне вероятно, что на том же хуторе Саша Черный познакомился с героиней стихотворения «Докторша» (1922). Вместе с этой несчастной женщиной, потерявшей на войне мужа и подымавшей в одиночку ребенка, поэт в тоске смотрит на дальний лес, откуда тянется нескончаемый «хвост» беженцев:
Скрипят-ползут печальным длинным рядом.
Безудержный, мятущийся набег
Из русского бушующего ада.
…………………………………
Плетутся беженцы. В глазах тупая жуть.
В телегах скарб, лохматый и убогий.
Так каждый день.
Равнодушна пышная литовская природа. Весело «шумит и плещет» река Вилия. Плачет лишь душа поэта, осознавшего, что беженцы – это всё, что осталось от его России, что России больше нет:
Россия – заушенье – боль – и стыд,
И лисье бегство через сто рогаток,
И наглый бич бессмысленных обид,
И будущее – цепь немых загадок…
Что делать? Куда дальше?
Такое всё вокруг знакомое. Сколько раз они с женой гостили в деревне, благословляя ее размеренность и покой. Вот и здесь, на берегу Вилии, всё так, будто не было войны и революции.
На миг забыть – и вновь ты дома:
До неба – тучные скирды,
У риги – пыльная солома,
Дымятся дальние пруды…
…………………………
Очнись. Нет дома – ты один:
Чужая девочка сквозь тын
Смеется, хлопая в ладони.
(«На миг забыть – и вновь ты дома…», 1922)
Эта «чужая девочка» своего рода знамение, начало темы «чужого, чужбины» в дальнейшем творчестве поэта. К весне 1920 года Саша Черный и Мария Ивановна приняли решение об эмиграции. Их целью стал Берлин. Возможно, из тех соображений, что это «недалеко», или вследствие хорошего знакомства с немецким бытом и языком.
В то время выехать можно было так: получить литовское подданство, паспорт, а затем уже хлопотать о визе. Сложнее всего было сделать первое: требовалось доказать, что ты жил здесь до войны или же родился. И вот Александр Михайлович вынужденно стал мошенником, о чем рассказывал так: «…родившись в Одессе, должен был в Вильне, при помощи двух бескорыстных лжесвидетелей, заново родиться в Ковно» (фельетон «Птичка», 1929). Так Александр Гликберг стал уроженцем Ковно (Каунаса), и они с женой смогли получить литовское подданство. Может быть, и адвокат Байрашевский в чем-то помог, поэтому Саша Черный, будучи благодарен, посвятил ему остроумное стихотворение и прислал потом из Берлина свою книгу.
Имя поэта на литовский манер должно было звучать как Александрас Гликбергас, а «родиться» в Ковно ему пришлось не случайно. В 1920 году Вильно был литовской столицей de juro, а Ковно, именуемый «временной столицей», стал ею de facto. Сюда перебрались органы власти, здесь же было немецкое консульство, выдававшее визы в Германию.
Грустным холодным мартовским днем 1920 года, на рассвете Александр Михайлович и Мария Ивановна покидали Литву. Садились в вагон, стараясь не смотреть на провожающих, чтобы не расплакаться. «Я считаю, что моя настоящая жизнь закончилась в этот момент», – напишет потом Мария Ивановна.
В поезде они несколько повеселели. Благополучно миновали пограничное Вержболово, пересели на поезд до Берлина. Здесь все было, как до войны. Так же старая немка в белом переднике убирала вагоны, кельнер так же резво разносил пиво и чай. Скоро впереди показались остроконечные крыши Кёнигсберга.
И вдруг началось.
В Кёнигсберге, на остановке, в вагон вошла местная полиция, отрывисто и резко отдавая команды. Пассажирам приказывали немедленно собирать вещи и выходить на перрон. Публика роптала. Полиция объявила, что следующий поезд будет через три дня, а может быть, и через три месяца. Не нужно задавать лишних вопросов!
Саша Черный с женой прожили в Кёнигсберге десять дней. За это время узнали причину задержки: в Берлине, как оказалось, произошла попытка военного переворота (Капповский путч). Командующий войсками Берлинского округа генерал Вальтер Лютвиц, идеолог германского милитаризма генерал Эрих Людендорф и один из лидеров Немецкой отечественной партии крупный помещик Вольфганг Капп, недовольные прекращением войны, при содействии верных им войск 13 марта 1920 года заняли Берлин, основав там свое правительство во главе с Каппом. Взбунтовавшиеся рабочие в ходе боев подавили мятеж. 17 марта 1920 года руководители путча бежали в Швецию. Александр Михайлович и Мария Ивановна получили возможность следовать дальше. Пароходом они добрались до Штеттина, а оттуда по железной дороге отправились в Берлин.
По словам Марии Ивановны, они прибыли на Штеттинский вокзал Берлина в семь часов утра, надеясь, что испытаниям настал конец. Однако снова послышались отрывистые крики, поезд окружила полиция и всех пассажиров под конвоем повели в станционный зал. Началась бесконечная проверка документов. Немцев отпускали, иностранцам же приказали оставаться на своих местах. Таких собралось человек десять. Александра Михайловича с женой посадили в грузовой автомобиль с открытым кузовом и куда-то повезли по улицам Берлина. Из открытых окон домов неслись проклятия: «Изменники! Шпионы!»
На этом унижения не закончились.
Их доставили в Главное полицейское управление, где подвергли допросу и обыску. Мария Ивановна с тревогой следила за мужем, когда полицейский агент распахнул его чемодан и стал грубо рыться в рукописях, расшвыривая их по сторонам. Ни слова понять там он не мог и всё повторял: «Агитационная литература!» Александр Михайлович белел на глазах. Вдруг один из тех, кто рылся в чемодане, спросил на чистом русском:
– Вы поэт? Как ваше имя?
– Саша Черный.
Незнакомец ахнул:
– Как? Саша Черный – сатириконец? Не может быть! Так вот вы какой! А я вас воображал совсем другим!
Кто был этот человек, читавший «Сатирикон» и, по словам Марии Ивановны, говоривший «по-немецки с настоящим русско-еврейским акцентом», осталось тайной. Но он прекратил унизительную сцену, сумев убедить коллег в том, что этот русский поэт совершенно безопасен, заниматься большевистской агитацией никак не может, ведь он сам бежит из Советской России. Однако для окончательного решения вопроса Александра Ивановича и Марию Ивановну повели к начальнику полицейского управления, которого они около двух часов убеждали в том, что никакого вреда Германии нанести не могут. Убедили. Им разрешили бессрочное пребывание в Берлине.
Так в марте 1920 года Саша Черный стал эмигрантом.
Глава восьмая
БЕРЛИНЕЦ
Вот уже год как Берлин являлся столицей нового государственного образования – Веймарской республики, возникшей после немецкой «ноябрьской революции» на руинах Германской империи. Огромный и мрачный город еще хранил следы недавних уличных стычек. Встреча с ним была окрашена горечью таких же воспоминаний. Однако это ощущение быстро ушло, потому что Александр Михайлович и Мария Ивановна оказались окружены заботой друзей, уже нашедших для них квартиру. Они стали одними из первых обитателей «русского Шарлоттенбурга», зеленого района в западной части Берлина. В ближайшие годы здесь поселятся «вся Москва» и «весь Петербург»; пока же русская колония была малочисленной.
Восемь лет назад Саша Черный, сидя в саду своего флигеля на Крестовском, переносил в строки весеннее пробуждение природы и «нелегальные собрания» галок. Потом, на войне, плакал от того, что в цветущих садах хоронят убитых. Теперь он сочинял «Весну в Шарлоттенбурге» (1920), гимн новой и спокойной жизни, которую наблюдал с балкона, улыбаясь цветущим вишням и легкомысленным воробьям: «И воробьи дерутся у окна. / Весна!» И все же не верилось: «И скорбь растет, как темная волна. / Весна?»
Адрес берлинского балкона известен. Владимир Набоков, тогда писавший под псевдонимом Сирин, вспоминал, что Саша Черный жил «в Шарлоттенбурге, в 60-м, кажется, номере по Вальштрассе; против его окошка высилась кирпичная стена, в комнате было темновато» (Сирин Вл. Памяти А. М. Черного // Последние новости. 1932. 13 августа). Биограф поэта Анатолий Иванов несколько поправил Набокова, назвав точный адрес, сохранившийся на визитных карточках: Вальштрассе, 61[90]90
С 1947 года эта улица называется Циллештрассе.
[Закрыть]. Этого дома больше нет – Шарлоттенбург был сильно разрушен в годы Второй мировой войны.
Представить обстановку квартиры поэта и приметы окрестностей помогают воспоминания коллег и его собственные стихи. Писатель Глеб Алексеев рассказывал, что напротив дома, где жил поэт, была венерическая больница, и Саша Черный саркастически хмыкал, что из ста дам на его улице – шестьдесят безносые (Алексеев Г. В. Воспоминания // Сборник материалов ЦГАЛИ СССР. Встречи с прошлым. Вып. 7. М.: Советская Россия, 1990). Сам он «воспел» в стихах «острогранной больницы сухой силуэт» («На берлинском балконе», 1923) и как-то поделился, что жил на третьем этаже (рассказ «Берлинское Рождество», 1924). Обстановка его жилья, судя по воспоминаниям Алексеева, мало отличалась от других спартанских квартир Александра Михайловича и Марии Ивановны: «едва сдерживающее тяжесть человеческого тела коварное кресло», над диваном – полочка с книгами, на стенах – портреты писателей, в ящиках – «яичница» из рукописей. По фотографиям поэта и стихам известно, что его мандолина пережила все лихолетья и воцарилась на новом месте. Вместе с квартиркой ему в наследство досталась клетка с белкой, крутившейся там в колесе. Поэт ее освободил и поселил в чулане, а клетку забросил на антресоли. Белочка отзывалась на свист, дружила с новым хозяином и никогда его не кусала. Саша играл для нее на мандолине, напевая колыбельную: «Ходыть сон по улонци / В билесенькой кашулонци» («Берлинское Рождество»). А мог грянуть и плясовую: «Из-под дуба, из-под вяза, / Из-под липовых кореньев…», и старый друг-мандола, «нежный и певучий», разгонял сплин («Мандола», 1923).
О том, как у него на стене появлялись портреты писателей, рассказывал сам Саша Черный. В частности, он поделился историей приобретения Пушкина «со скрещенными руками», который теперь висит над столом «в цветной, парчовой раме». Вероятно, это была репродукция известного портрета работы Ореста Кипренского, а попала она к поэту якобы так. На том литовском хуторе, где они с женой гостили, он однажды зашел в брошенный дом, который обживал рязанский беженец Федот, и увидел в углу рядом с образами портреты Пушкина и неведомого турецкого генерала. Генерал его не заинтересовал, а за Пушкина он отдал Федоту целое состояние – картуз махорки. С тех пор возил с собой «как бальзам от русского бича» (стихотворение «Пушкин», 1920).
Итак, Александр Михайлович и Мария Ивановна вновь оказались «у немцев». Но как это «вновь» отличалось от счастливой поры их молодости в Гейдельберге! В 1920 году ему исполнилось сорок лет, ей – сорок девять. Надо было налаживать жизнь с нуля, а это всегда непросто. К тому же Германия, проигравшая войну, пребывала в глубоком экономическом кризисе, отягчаемом выплатой репараций. Марка обесценилась, стояла страшная безработица. Однако, по словам Марии Ивановны, денег им на первых порах хватало, поэтому работу они искали скорее по инерции.
Черному сразу повезло. Он узнал, что в Берлине издается газета «Голос России», и немедленно отправился в редакцию. Там возликовали – пришел первый известный литератор, «вырвавшийся из большевистского ада». Предложили огромный, по мнению редакции, гонорар, который поэту показался смешным, и он от него отказался, чтобы было не так унизительно. Этот царский жест поднял его авторитет на недосягаемую высоту.
Однажды случился курьез, о котором вспоминала Мария Ивановна. Редактор газеты Самуил Яковлевич Шклявер как-то воскликнул, думая, что обрадует своего нового сотрудника:
– Знаете, кто у меня был вчера?! Ваш приятель Попов из Загреба. Обещал зайти сегодня, чтобы с вами повидаться, а то, говорит, вы так внезапно уехали и не оставили адреса!
Черный опешил:
– А кто это такой? Я в Загребе вообще никогда не был. Где это – Загреб?
Настал черед Шклявера удивляться. По выражению его лица Александр Михайлович понял, что его вот-вот сочтут самозванцем. В этот волнительный миг в кабинет вбежал некий молодой человек и, озираясь по сторонам, недоуменно спросил:
– А где же Саша Черный? Мне сказали, что он пошел к вам!
Шклявер указал на Сашу:
– Вот он, собственной персоной.
Но визитер хотел видеть какого-то другого Сашу Черного, этого он не знал. Запальчиво рассказывал, что поэт давал у них в Загребе литературные вечера, потом подарил ему свою книгу с автографом…
Сцена становилась тягостной. Шклявер занервничал, ведь он поверил Саше на слово, но сам в лицо его не видел. Поэт вспыхнул:
– Недавно я узнал, что в Берлине находится Иосиф Владимирович Гессен. Вероятно, он не откажется засвидетельствовать мою личность!
Фамилия Гессена, известного российского кадета, занявшего видное положение и в Берлине, произвела магическое действие. Инцидент был исчерпан; потом над ним много смеялись. Вообще же Гессен, о котором в Берлине сложили поговорку «Мир стал тесен, всюду Гессен», и его окружение помогли нашему герою довольно ощутимо. Вскоре по приезде Мария Ивановна встретила свою бывшую ученицу, оказавшуюся женой человека, расположения которого искали многие эмигранты, – Бориса Исааковича Элькина. В прошлом петербургский юрист и редактор кадетской газеты «Право», Элькин уже год жил в Берлине, возглавлял русское издательство «Слово», основанное при крупном местном пресс-концерне «Ульштейн». Была у Элькина еще одна должность: казначей и член правления германского отделения Американского фонда помощи русским литераторам и ученым. Документация американского фонда, хранящаяся ныне в РГАЛИ, свидетельствует о том, что Черный получал от него материальную помощь (Российский государственный архив литературы и искусства. Путеводитель. Вып. 7. Фонды, поступившие в РГАЛИ в 1984–1992 гг. М., 1998). Помимо этого, как вспоминала Мария Ивановна, «он (Элькин. – В. М.) устроил сейчас же издание сборника Сашиных детских стихов „Детский остров“, который взялся иллюстрировать наш петербургский знакомый художник Борис Григорьев». О благодарности поэта говорит надпись на его портрете, подаренном благодетелю: «Милому Борису Исааковичу Элькину на память о прекрасных днях берлинской жизни. А. Черный. 15—VI 1926» (Собрание А. С. Иванова).
Первая книга за последние семь лет![91]91
Если не считать переиздание «Сатир и лирики», предпринятое «Шиповником» в 1917 году.
[Закрыть] «Детский остров» стал точкой отсчета эмигрантского творчества поэта. Понимая, что его старые читатели выросли, а новые с ним еще не знакомы, Саша Черный (а он оставил для детей свой старый псевдоним с детской составляющей – Саша) предпослал книге шуточную саморекомендацию, где рассказал, кто такие поэты и «какие их приметы». Это такие люди, которые днем спят, а ночью шагают по комнате и сочиняют стихи; они во всё суют свой нос и вообще очень похожи на детей, так же любят сказки и праздники.
Ну так вот, – такой поэт примчался к вам:
Это ваш слуга покорный.
Он зовется «Саша Черный»…
Почему? Не знаю сам.
(«Детям», 1920)
«Примчавшись» к русским детям в 1920 году, Александр Михайлович более их не покинет до самой кончины, а первым подарком сделает «Детский остров». В книгу он включил стихи, ранее печатавшиеся в Петербурге, и новые, написанные в Вильно. Выход книжки был приурочен к новогодним праздникам. Хотя на титуле был указан 1921 год, первый отклик на нее появился 25 декабря 1920 года в берлинской русской газете «Руль».
«Подарком» мы назвали книгу образно. На самом деле она была доступна немногим семьям. Роскошно изданная – альбомного формата, на дорогой бумаге, – и стоила она дорого. Куприн в рецензии шутил: «Цена не проставлена. Издание недешевое» (Куприн А. И. Саша Черный. Детский остров. Берлин: Слово, 1920 // Общее дело. 1921. 9 мая). Мария Ивановна тем не менее утверждала: «Несмотря на довольно высокую цену, эта книга быстро разошлась в двух изданиях». Сегодня «Детский остров» – раритет еще и потому, что иллюстрировал ее Борис Дмитриевич Григорьев, один из известнейших мастеров Серебряного века. Они были знакомы с Сашей Черным с сатириконских времен. Жизнь поистрепала Григорьева: бегство из Советской России стоило ему многих нервов. В октябре 1919 года он с женой и четырехлетним сыном тайно на лодке переправился через Финский залив в Финляндию, а оттуда переехал в Берлин, но и здесь задерживаться не стал, в 1920 году уехал в Париж.
«Детский остров» полетел во все уголки русского рассеяния, попал даже в далекий Константинополь, где уже разворачивалась эпопея выживания недавно эвакуированного белого Крыма. Мало кто из беженцев мог тогда купить эту роскошную книгу своим детям, тем не менее местная франко-русская газета «Пресс дю суар» ее упорно рекламировала. К слову, один из известных константинопольских сидельцев, бывший шеф Саши Черного Аркадий Аверченко тоже выпустил свою первую эмигрантскую книгу «Записки Простодушного» (1921), продавалась она в том же магазине «Знание», где и Сашина, и спрос на нее был тоже невелик.
В Париже на «Детский остров» откликнулся Александр Иванович Куприн, чьим мнением Саша Черный дорожил. Рисунками Бориса Григорьева Куприн как раз остался недоволен, а вот самого автора в уже упомянутой рецензии хвалил:
«Раскрываешь наугад любую страницу и очаровываешься прелестью красок и теплотою содержания. И чувствуешь, что все у него живые, и дети, и зверюшки, и цветы. И что все они – родные. Тонкими, точными, забавными и милыми чертами обрисованы: и кот, и барбос, и таракан, и попка, и мартышка, и слон, и индюк, и даже крокодил, и все прочее.
И всех их видишь в таком наивном и ярком освещении, как видел летним свежим утром в раннем детстве бронзового чудесного жука или каплю росы в зубчатом водоеме гусиной травы. Помните?»
Однако, рассказывая о «Детском острове», мы забежали вперед. Вернемся в первые эмигрантские месяцы Саши Черного.
Начав в Берлине сотрудничать с Элькиным, поэт оказался близок к верхушке кадетской партии, которая и в изгнании пользовалась значительной финансовой поддержкой местной и американской еврейской буржуазии, в том числе масонства. 1 июня 1920 года кадеты объединились в так называемую Берлинскую группу, которую возглавил Владимир Дмитриевич Набоков (отец писателя Владимира Набокова). Его ближайшим сподвижником оставался тот самый «магический» Иосиф Владимирович Гессен. Обоих наш герой знал по Петербургу как редакторов кадетской газеты «Речь». Напомним: со страниц «Речи» Чуковский сражался с Сашей Черным и «Сатириконом», а сам Черный летом 1911 года опубликовал там «Письмо в редакцию», разъясняющее причины его ухода из журнала. Гессена поэт ославил в своем известном сатириконском стихотворении «Невольное признание» (1909): «Гессен сидел с Милюковым в печали. / Оба курили и оба молчали».
Теперь, в Берлине, Набоков, Гессен и Август Исаакович Каминка, некогда редактировавший в Петербурге журналы «Право» и «Вестник партии народной свободы», создали партийную кадетскую газету «Руль», объединившую в эмиграции русских политических и литературных деятелей. Ее редакция располагалась при местном медиаконцерне «Ульштейн», который, как помним, финансировал и издательство «Слово». Те же Гессен и Набоков оказались причастны к созданию Союза русских журналистов и литераторов в Германии, который появился в сентябре 1920 года. И здесь финансовые потоки контролировались и распределялись кадетами, поэтому каждый литератор, вступавший в объединение, в большей или меньшей степени попадал под идеологическое давление. Союз возглавлял Гессен, Набоков входил в правление.