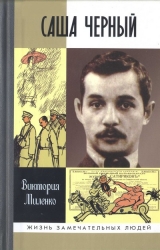
Текст книги "Саша Черный: Печальный рыцарь смеха"
Автор книги: Виктория Миленко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц)
Саша Черный мог «выдохнуть»: в целом рецензия была положительная. Радуясь, что его наконец поняли, поэт ответил на нее чудесным и, к сожалению, основательно забытым сегодня стихотворением «Больному», напечатанным в «Сатириконе» в мае. Это была настоящая проповедь, и ее автор, вне всякого сомнения, давал понять, что нельзя называть его стихи «песнями самоубийцы», ведь он знает, какой страшный грех самоубийство. Вот когда должно было порадоваться сердце житомирского статского советника Константина Константиновича Роше! Наконец его воспитанник начал обнаруживать серьезные признаки религиозного сознания.
Первая же строка этого стихотворения: «Есть горячее солнце, наивные дети…», дохнув жаром пустыни, погружает нас в библейский мир, а лирический герой, носитель наивного, «нищего духом» сознания, находит какие-то детские оправдания существованию мира земного: если в нем нет ничего хорошего, то как объяснить, что «были на свете / И Бетховен, и Пушкин, и Гейне, и Григ»? Они же были хорошие?
Наш мир – работа Творца, и присутствие Его силы постоянно, ее только нужно уметь разглядеть:
Есть незримое творчество в каждом мгновеньи —
В умном слове, в улыбке, в сиянии глаз.
Будь творцом! Созидай золотые мгновенья —
В каждом дне есть раздумье и пряный экстаз…
Совершенно по-детски, удивленно раскрыв глаза и словно удерживая за руку отчаявшихся, герой просит не «бросаться в пролеты», а остаться жить. Иначе «скиснет мир от бескрылых гиен и тупиц», которым неведомы сомнения и «проклятые вопросы»:
Оставайся! Так мало здесь чутких и честных…
Оставайся! Лишь в них оправданье земли.
Адресов я не знаю – ищи неизвестных,
Как и ты, неподвижно лежащих в пыли.
Подымая лежащих в пыли, поэт ведет их в тот мир, который они потеряли: в царство Доброй Воли, мир горний.
Есть еще острова одиночества мысли —
Будь умен и не бойся на них отдыхать.
Там обрывы над темной водою нависли —
Можешь думать… и камешки в воду бросать…
Разве не найти спасения в христианских заповедях? Может быть, стоит их вспомнить и, например, взять и возлюбить ближнего? Не метя высоко, просто стать «женой или мужем, сестрой или братом, / Акушеркой, художником, нянькой, врачом»? Отдавать себя людям и ничего не ждать взамен: «Все сердца открываются этим ключом».
Герой стихотворения готов подать пример: он и сам раньше был болен, а теперь стремится сделать все, чтобы тот, кто уже направился к пролету, остановился и улыбнулся, даже хочет рассмешить: «Этот черный румянец – налет от дренажа, / Это Муза меня подняла на копье». Теперь он открыт новым далям и, заканчивая проповедь, вновь возвращается к библейской цитате, смыкающейся с первой строкой стихотворения:
А вопросы… Вопросы не знают ответа —
Налетят, разожгут и умчатся, как корь.
Соломон нам оставил два мудрых совета:
Убегай от тоски и с глупцами не спорь.
По силе воздействия некоторые строки этого стихотворения мы бы поставили в один ряд с другими подобными строками, которые создавались другими авторами в разное время, но с той же целью – остановить идущих к пролету. Невольно вспоминается финал стихотворения Маяковского «Сергею Есенину» (1926):
Или другие слова, сказанные Цоем: «Смерть стоит того, чтобы жить» («Легенда», 1988). Именно они остановили потом многих из тех, кто после гибели самого Цоя решил последовать за ним.
В стихотворении Саши Черного «Больному» мы впервые встречаемся с новым типом лирического героя – «нищим духом», но уже в библейском смысле этого понятия. Скорее всего, это юродивый, чей голос позднее в творчестве поэта совершенно органично транспонируется в детский и даже собачий. Это будет сознательный выбор художника, отвергнувшего серьезный «взрослый» мир.
Пока же у Саши Черного было благостное и окрыленное состояние, вполне вероятно, оттого, что его первую книгу (о «Разных мотивах» 1906 года он никогда не вспоминал) благосклонно приняла читающая Россия. Вернемся к рецензиям на «Сатиры».
Сборник поддержали модернисты. Николай Гумилёв писал в «Аполлоне»: «Саша Черный избрал благую часть – презрение. Но у него достаточно вкуса, чтобы заменять иногда брюзгливую улыбку улыбкой благосклонной и даже добродушной. Он очень наблюдателен и в людях ищет не их пороки… а их характерные черты, причем не всегда его вина, если они оказываются только смешными. <…> Кроме того, у него есть своя философия – последовательный пессимизм, не щадящий самого автора… <…> и даже его угловатость радует, как обещание будущей работы поэта над собой. Но и теперь его „Сатиры“ являются ценным вкладом в нашу бедную сатирическую литературу» (Гумилёв Н. Письма о русской поэзии // Аполлон. 1910. № 8). Однако это был отзыв от «своих»: сатириконцы и аполлонцы дружили. К тому же Гумилёв был на шесть лет моложе Саши Черного и не считался еще серьезным авторитетом. Саше важнее было мнение «стариков», критиков прежней закваски, так как он всей душой тянулся к классическому канону и модернистские экивоки находил преходящими. С особым трепетом, вероятно, раскрыл он майскую книжку «Современного мира» и прочитал рецензию ведущего критика журнала Владимира Павловича Кранихфельда. В статье «Литературные отклики» тот назвал Сашу Черного «типичнейшим представителем молодой литературы», который сумел сочетать в своей сатире отрицание действительности и одновременно радость жизни и веру в светлое завтра. Критик сосредоточил свое внимание на сатирическом даре Черного, называя его «сатириком нашей размагниченной интеллигенции и ее быта» (Кранихфельд Вл. Литературные отклики. Литературная экскурсия // Современный мир. 1910. № 5). Возможно, с затаенной надеждой Саша мечтал: а вдруг рецензию прочтет Бунин, когда станет искать в номере продолжение своей «Деревни»? А вдруг и Горький, с начала года ставший сотрудником «Современного мира», прочтет эти строки на далеком Капри?
Пока же, правда, не на Капри, а в итальянском местечке Кави ди Лаванья отзыв на «Сатиры» написал маститый литератор Александр Валентинович Амфитеатров и прислал его в «Одесские новости». Теперь наш герой «за Одессу» мог быть спокоен. Саша Гликберг, сын провизора с Ришельевской улицы, прославился! Первые же строки амфитеатровской рецензии «Записная книжка: О Саше Черном» должны были заставить Сашу забыть об упреках Чуковского: «С огромным и глубоким, редким наслаждением прочитал я сборник „Сатир“ Саши Черного. В этой умной и сильной книжке прекрасно все, кроме, пожалуй, заглавия. Оно суживает характер и значение поэзии Саши Черного» (Амфитеатров А. В. Записная книжка: О Саше Черном // Одесские новости. 1910. 29 июня/12 июля). В отличие от Кранихфельда Амфитеатров увидел в Саше Черном в первую очередь лирика, а не сатирика-публициста. Политические сатиры показались ему как раз самым слабым местом книги, и Александр Валентинович не мог не посетовать на то, что журнальная работа, заставляющая писать к сроку и на заданную тему, убивает любое творчество и учит «ремесленным компромиссам». Амфитеатров счел маску Черного модификацией пушкинского Евгения из «Медного всадника» – человечка, раздавленного Петербургом. «И этого страшного поэта иные провозглашают смешным забавником?» – удивлялся Амфитеатров, относя стихи Черного к категории Galgenhumor, «юмора висельника» (курсив А. В. Амфитеатрова. – В. М.). Александр Валентинович приветствовал рождение нового имени: «Это молодое дарование – целиком все еще впереди».
Наконец, нашелся критик, разглядевший игровую природу творчества поэта. Не зря же Лев Наумович Войтоловский, похваливший Сашу на страницах крупной провинциальной газеты «Киевская мысль», был по своему основному образованию врачом-психиатром. «Саша Черный как бы рожден актером, – писал он. – Природа наделила его всеми дарами, необходимыми в этой области. И прежде всего – поразительной силой перевоплощения. Он с замечательной легкостью проделал всю минорную гамму интеллигентских переживаний» (Войтоловский Л. Н. Литературные силуэты. Саша Черный // Киевская мысль. 1910. 30 мая).
Саша Черный теперь был нарасхват. Напечатал два стихотворения в тринадцатом номере альманаха «Шиповник», обещал высылать материал для нового иллюстрированного журнала «Солнце России», для «Современного мира», а также в крупные провинциальные газеты «Одесские новости» и «Киевская мысль». Аверченко не запрещал подрабатывать, однако все лучшее, конечно, требовал отдавать в «Сатирикон».
Летом 1910 года Саша и Мария Ивановна, возможно, в ознаменование пятилетия своей первой совместной поездки в Италию, вновь проехались по крупнейшим итальянским городам и остались на отдых на курорте Санта-Маргарита. Это восточное побережье Лигурии, самый центр Итальянской Ривьеры, точка пересечения основных туристических маршрутов: Ниццы, Флоренции и Милана. Один из забавных эпизодов вояжа поэт воспел в стихах и отослал в «Сатирикон». Во Флоренции он подслушал диалог двух «бравых русских», которые в сувенирном ряду жарко спорили, гордясь своими познаниями в области античного искусства:
«Эти вазы, милый Филя,
Ионического стиля!»
– «Брось, Петруша! Стиль дорийский
Слишком явно в них сквозит…»
Я взглянул: лицо у Фили
Было пробкового стиля,
А из галстука Петруши
Бил в глаза армейский стиль.
(«Стилисты», 1910)
Тема «русские за границей» казалась сатириконцам смешной и неисчерпаемой. Осенью они начали обсуждать подписную премию читателям на следующий год и решили, что это будет юмористический отчет о поездке сотрудников журнала в Западную Европу, что-то вроде «Простаков за границей» Марка Твена. Командировочные расходы брал на себя Корнфельд. Сразу было заявлено: поедут Аверченко, Радаков и Ре-ми. Наверняка в редакции шептались: мол, конечно, кто же еще? Сашу это вряд ли задевало, ведь Европа не была для него книгой тайн.
Так мы незаметно подошли к первому серьезному возрастному рубежу в жизни нашего героя. 1 октября 1910 года Александру Михайловичу Гликбергу, Саше Черному, исполнилось 30 лет. Он не мог не подводить для себя итоги, о которых мы можем судить очень осторожно, исключительно объективно, со стороны. Мы записали бы в его актив сложившуюся карьеру, но считал ли он сам себя успешным и не желал ли большего? Дома он не построил, дерево только мечтал посадить, когда найдет «вершину голую». И самое очевидное: у него была одна затаенная печаль, которая с годами перерастет в подлинную драму. У них с женой не было детей. Конечно, на всё Божья воля, но в стихах Черного нет-нет да и проскальзывали мысли о том, что мир устроен несправедливо, раз Бог не посылает детей тем, для кого это было бы высшим счастьем, и с избытком дарит тех, кому дети только обуза. Мария Ивановна вспоминала об интересном случае (который произойдет в следующем, 1911 году). Некая житомирская подруга ее мужа попала в неприятную историю, родила от кого-то ребенка, а растить его не имела возможности. Тогда она отдала младенца Александру Михайловичу и Марии Ивановне, и те его с радостью приняли. Но не сложилось: через некоторое время малыша у них отобрали родственники непутевой мамаши.
О tempora! О времена! Любопытно, что еще до этого случая, осенью 1910 года Саша Черный написал грустное стихотворение, разошедшееся по всей огромной стране и сохранявшее популярность долгие годы, даже тогда, когда страна уже называлась СССР. Его также пели, ибо это была «Колыбельная (Для мужского голоса)». Музыку в 1917 году написал Вертинский и включил песню в свой репертуар, что еще более способствовало популярности. Не правда ли, странно, что колыбельная «для мужского голоса»? Но в сумасшедшем Петербурге 1910 года никого не удивляло, что младенец брошен на отца, а мать «уехала в Париж».
Мужчина не знает слов колыбельных песен, поэтому придумывает их на ходу, вплетая в знакомые с детства обороты вроде «А-а-а…» и «Спи, мой мальчик» свои нервные мысли по поводу бегства жены. И в конце концов не то всхлипывает, не то сам засыпает:
Жили-были два крота…
Вынь-ка ножку изо рта!
Спи, мой зайчик, спи, мой чиж, —
Мать уехала в Париж.
Чей ты? Мой или его?
Спи, мой мальчик, ничего!
Не смотри в мои глаза…
Жили козлик и коза…
Кот козу увез в Париж…
Спи, мой котик, спи, мой чиж!
Через… год… вернется… мать…
Сына нового рожать…
Конечно, Вертинский обратил внимание на эти стихи, ведь их можно сыграть. Саша же гордился тем, что его «чижа» пел сам Шаляпин. Об этом достоверно известно из дневника Константина Петровича Пятницкого. Будучи у Горького на Капри, он записал 30 августа 1911 года: «Посидели на скамье у виллы Горького. <…> Звоню и вхожу в дом. <…> Шал[япин] бросается навстречу. Поет колыб[ельную] песню на слова Саши Черного» [61]61
Горький и русская журналистика начала XX века. Неизданная переписка//Литературное наследство. Т. 95. М.: Наука, 1988 // http://az.lib.ru/g/gorxkijm/text_0460.shtml
[Закрыть]. В 1930-е годы собственную музыку для «Колыбельной» написал советский певец и композитор Вадим Алексеевич Козин. В 1960-е годы «чижа» перевела на французский Эльза Триоле[62]62
Перевод был опубликован в антологии «La poésie russe» (1965), вышедшей под редакцией Эльзы Триоле.
[Закрыть], а ее близкий друг шансонье Ги Беар положил стихи на музыку и часто исполнял. В СССР эту композицию впервые услышали в 1972 году, когда «Мелодия» выпустила пластинку Беара.
Итак, к концу 1910 года Саша Черный стал всероссийской знаменитостью, и ему довелось испытать все то, что обычно испытывают знаменитости. В первую очередь узнать о появлении самозванца. Поэт получил одновременно несколько писем из редакций далеких провинциальных газет «Восточная заря», «Сибирская мысль» (обе иркутские) и «Рыбинский вестник», дружно интересовавшихся: правда ли он тот самый Александр Васильевич Соколов из Петербурга, который предложил им сотрудничество и присылает стихи, подписанные псевдонимом Саша Черный? Александр Михайлович вскипел и дал опровержение в «Сатириконе», благодаря которому мы и узнали об этой истории (Необходимые разъяснения // Сатирикон. 1910. № 51). Другой анекдот подбросила родная Одесса, где появился поэт-куплетист Саша Красный.
В канун нового, 1911 года Черный читал о себе нелицеприятные вещи, на сей раз написанные Антоном Крайним – Зинаидой Гиппиус:
«Вдруг заговорили о „возрождении смеха“. Чему обрадовались? И кому: Саше Черному, Аркадию Аверченко и Тэффи. О Саше Черном в „Речи“ было длинно написано и указано даже, что будто это „смех сквозь слезы“. <…>
„Возрожденный смех должен занять подобающее место“, сказал себе Саша Черный и пошел со своею специальностью на страницы „серьезных“ газет и альманахов; нынче уже оттуда он объявляет, что „бюро“ ему стало близко, как собственное „бедро“, и думает, что это необыкновенно смешно и возродительно.
Никак нельзя быть против смеха. Но когда происходит торжественное возрождение – то, прежде всего, ничего не происходит. „Они смешат – а нам не смешно…“ скажем, перефразируя Л. Толстого. Если на человека отовсюду лезут, желая смешить, – нельзя смеяться» (Крайний Антон [Гиппиус З. Н.]. Разочарования и предчувствия // Русская мысль. 1910. № 12).
Строки, вызвавшие неодобрение Гиппиус, были взяты ею из стихотворения «Прекрасный Иосиф», опубликованного в 13-й книге петербургского издания «Литературно-художественные альманахи издательства „Шиповник“»:
Диван, и рояль, и бюро
Мне стали так близки в мгновенье,
Как сердце мое и бедро,
Как руки мои и колени.
Разумеется, «бюро – бедро» – это не рифма, как и «мгновенье – колени». Упрек справедлив, но популярности Саши Черного критика повредить уже не могла.
Казалось бы, ему оставалось почивать на лаврах, но он был не рад своей сатириконской славе. «Известность – шумная, безмерная и бестолковая российская известность пришла к нему очень рано, – вспоминал современник поэта Николай Рощин. – В России не было эстрады, не знавшей Саши Черного. Но известность эта не погубила его, как погубила многих. От нее он взял только опыт – понимание силы слова и ответственности за него» (Рощин Н. Печальный рыцарь// Возрождение. 1932. 7 августа).
Александр Михайлович Гликберг хотел заниматься серьезной литературой. В «Сатириконе» планировался большой новогодний вечер юмора, но он не хотел в нем участвовать и начал искать пути к отступлению из журнала.
Год 1911-й: уход
Праздничные дни наступившего нового года поэт провел сепаратно от коллег. Расклеенные по городу афиши кричали о том, что 4 января в зале Петровского училища состоится вечер юмористов, в котором примут участие все сатириконцы. Цель вечера – познакомить публику с основными тенденциями современной юмористики. В перечне участников имя Саши Черного соседствовало с именами Аверченко, Городецкого, Осипа Дымова, Куприна, графа Алексея Толстого, Тэффи. Однако зрители, пришедшие на концерт, Сашу лицезреть не смогли. Осип Дымов, ведущий вечера, объяснил, что поэт захворал и стихи его прочтет артист Филимон Марадудин (Вечер юмористов // Русское слово. 1911.6 января).
На самом деле Саша просто сбежал и в это время ходил на лыжах в Кавантсаари, маленьком финском местечке под Выборгом. Возвращаться в Петербург ему не хотелось:
Ах, быть может, Петербурга
На земле не существует?
Может быть, есть только лыжи,
Лес, запудренные дали,
Десять градусов, беспечность
И сосульки на усах?
(«На лыжах», 1911)
Он знал, что, вернувшись, снова окунется в «танцклассную» атмосферу редакции, потому что сатириконцы решили повторить прошлогодний благотворительный бал и назначили его на 15 февраля. Ожидались помпезность (на этот раз арендовали зал Дворянского собрания на площади Искусств) и много веселья, не очень сочетавшегося с тем печальным поводом, к которому приурочили мероприятие. В конце декабря прошлого года произошли сильнейшие землетрясения в Ташкенте и Верном, и средства собирались в пользу пострадавших.
Саша не ошибся: на Фонтанке, 80, было шумно и людно. За билетами на бал приходили и сюда. Ощущение бедлама возникало и оттого, что с недавнего времени здесь же засела редакция «Синего журнала», нового детища Корнфельда. Это было типичное «желтое» издание, печатавшее светские сплетни, скандальные фотографии, фантастику и другое малохудожественное чтиво. Сотрудники в «Синем журнале» были соответствующие, и не случайно Максим Горький называл его «свиним». Все то, чего Саша не выносил, – фамильярность, бестактность, навязчивость, цинизм, – прочно угнездилось на Фонтанке.
Грядущий бал поглощал все силы. В работу были вовлечены огромное количество народа и едва ли не весь техперсонал Нового драматического театра, в мастерских которого Радаков и Ре-ми готовили декорации, а швеи шили костюмы. Руководителем маскарада пригласили знаменитого артиста Александринки Владимира Николаевича Давыдова.
Саша с неодобрением наблюдал за тем, как над программой бала корпел новый фаворит Аркадия Аверченко – некто Георгий Ландау, разысканный через «Почтовый ящик». Этот человек вообще-то был инженером и служил в Ведомстве путей сообщения. Саша Черный в раздражении писал своему московскому приятелю Миллю: «Я почти задыхаюсь, но держусь крепко до весны. С весны я больше не „сатириконец“» (цит. по: Спиридонова Л. А. Литературный путь Саши Черного [Предисловие] // Черный Саша. Стихотворения. С. 47). Почему нужно было держаться до весны? Наверное, у поэта был контракт, и он просто дожидался окончания его действия. В воспоминаниях Радаков утверждал, что Саша уволился без объяснения причин (см.: Иванов А. «Ах, зачем нет Чехова на свете!» Проза Саши Черного [Предисловие] // Черный Саша. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 3. М.: Эллис Лак, 1996). Как нам кажется, Сашу Черного, считавшего, что журнал сдает позиции, заставляли «задыхаться» даже рекламные плакаты «Сатирикона», выпущенные в 1911 году. На них был изображен знаменитый дрессировщик Владимир Леонидович Дуров, который лежит на оттоманке и увлеченно читает «Сатирикон», а вместе с ним журналом очень интересуется поросенок. Граница между тем, что забавно, и тем, что пошло, явно стиралась.
Саша сотрудничал и с другими изданиями, внимательно присматривался к ним, собираясь начать новую жизнь. Он остановил свой выбор на только что основанном журнале «Современник», которым фактически руководил Александр Амфитеатров, недавно приветствовавший в лице Саши Черного новый большой талант. Саша знал, что на самом деле за «Современником» стоят Горький и его единомышленники. Вот где снова можно было вернуться к революционной сатире!
Пока же он по инерции или, как любил говорить, «под сурдинку» оставался сатириконцем и даже периодически посещал с коллегами ресторан «Вена». Одно из последних в его творческой судьбе сатириконских сборищ состоялось здесь в конце февраля – начале марта 1911 года, и повод был весьма необычный. Друг редакции, поэт и журналист Василий Каменский, купивший моноплан «Блерио XI», впервые поднялся в воздух над гатчинским летным полем! Каменский вспоминал, что отмечать его полет в «Вене» пришли Аверченко, «развеселый Алексей Радаков с бакенбардами Пушкина, долговязый черный Ре-ми, европеец Яковлев, всегда всклокоченный, „точно с постели сброшенный“ поэт В. Воинов, тихий, но острый, как шило, В. Князев и совсем тихий, флегматичный Саша Черный» (Каменский В. В. Степан Разин; Пушкин и Дантес. Художественная проза и мемуары. М.: Правда, 1991. С. 551). Те же краски: «совсем тихий, флегматичный». Однако в тихом омуте… В эти дни Саша вынашивал планы мести. Перед уходом из «Сатирикона» ему нужно было рассчитаться со старыми долгами.
В середине марта 1911 года с новой силой вспыхнул затухший было конфликт с Чуковским: Черный поместил в журнале сатиру «Корней Белинский (Опыт критического шаржа)», остроумную, злую. Стараясь набросать портрет критика новой формации, Саша отметил и любовь Чуковского к экзотическим названиям, которые он давал своим статьям и рецензиям («Корявый буйвол», «Окуни без меха»), и высокомерную небрежность его трактовок классических произведений (например, отчего бы не написать, что Тарас Бульба убил сына своего Андрия за измену Сечи, а не «на спор»?) и т. д. Глядишь, и набирается строк этак сотня:
Надравши стружек[63]63
«Литературные стружки» – рубрика, которую К. И. Чуковский вел в газете «Речь»; там публиковались и высмеивались книжные, газетные и другие «ляпы».
[Закрыть] кстати и некстати,
Потопчется еще с полсотни строк:
То выедет на Английской цитате,
То с реверансом автору даст в бок.
…………………………………
Post scriptum. Иногда Корней Белинский
Сечет господ, цена которым грош!
Тогда гремит в нем гений исполинский
И тогой с плеч спадает макинтош!..
Удар достиг цели. Евгений Шварц, работавший в начале 1920-х годов секретарем Чуковского, вспоминал, как шеф читал однажды ему эти стихи:
«Начал читать Корней Иванович, весело улыбаясь, а кончил мрачно, упавшим голосом, прищурив один глаз. И, подумав, сказал:
– Все это верно»[64]64
Шварц Е. Белый волк // http://chukovskiy.ouc.ru/belii – volk.html
[Закрыть].
Так было в 1920-х, а тогда, в 1911 году, Чуковский невозмутимо парировал выпад Черного статьей «Устрицы и океан» (Речь. 1911. 20 марта / 2 апреля), в которой направил свои критические стрелы уже не на часть (Сашу Черного), а на целое, то есть на сам «Сатирикон». По мнению Корнея Ивановича, этот журнал, поначалу «нерутинный, несмердяковский», объявивший войну серым будням и серым людям, а также «Ее Величеству Матери Пошлости», теперь скатился до того, что потрафляет вкусам именно средних обывателей, «устриц», помещая для них виньеточки с полуголой или вовсе голой женской натурой, опостылевшие анекдоты о жене и неожиданно вернувшемся муже и «кокоток, кокоток, кокоток». Теперь каждая «устрица», идя по Невскому, не может обойтись без того, чтобы не крикнуть: «Газетчик! Дай-ка „Сатирикон“!» Грустно и это, и то, что потрафлять низменным вкусам приходится «настоящим талантам»: Саше Черному, Ре-ми, художнику Яковлеву. Надо же, тупые «устрицы» завели себе теперь «такой превосходный журнал»! Как выросли они, как самодовольно кричат: «А ну-ка, Саша, изобрази!» И «Саша становится в позу» и изображает.
«Устрицы очень довольны.
– Здо́рово, Саша, ей-Богу. А ну-ка, загни еще».
Куда девался бунт против мещанства? Кто теперь помнит «Песню о Буревестнике»?! Вместо нее на Фонтанке «порхает какая-то птичка, этакий миленький чижик-пыжик!». Соколы стали Чижами.
Если Саша Черный и сомневался в том, уходить ли ему из журнала, то после появления этой статьи должен был поторопиться. 2 апреля он напечатал в «Сатириконе» свое последнее стихотворение «Колумбово яйцо» (1911. № 14) и откланялся.
Что и говорить, это было эффектно. Его уход стал полной неожиданностью. На пике популярности! Казалось бы, что еще надобно этому человеку? Поступок Черного имел и негативную этическую окраску. Уйдя из журнала в середине года, он создал коллективу реальные проблемы: кто знает, сколько претензий от подписчиков, поклонников именно Саши Черного, получил тогда Аверченко. Зачем же так – исподтишка?
Годы спустя Алексей Радаков утверждал, что Саша Черный «думал, что он величайший прозаик. Стихи это так, ерунда, между прочим» (цит. по: Иванов А. «Ах, зачем нет Чехова на свете!» Проза Саши Черного [Предисловие] // Черный Саша. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 4). Сатирик Ефим Зозуля, пришедший в «Сатирикон» в 1915 году, передавал общую точку зрения, бытовавшую там: «Он (Саша Черный. – В. М.) решил, что ему нужно печататься в более „солидном“ журнале»[65]65
Зозуля Е. Д. Сатириконцы // http://www.rulife.nj/mode/article/764/
[Закрыть]. Похоже, всё верно. Дальнейшие эксперименты нашего героя действительно будут направлены на прозу, и в «солидные» журналы он будет стучаться, но ни то ни другое не принесет ему успеха. Жизнь покажет, что, уйдя из «Сатирикона», он совершил распространенную ошибку: посчитал, что его имя само по себе достаточно громкое и держаться за прославившую его марку не стоит. Так ему тогда казалось.
В апреле 1911 года сатириконцы подводили итоги своей трехлетней работы уже без Саши Черного.
Саша же ни о чем не жалел и писал Миллю в Москву: «От „Сатирикона“ я эмансипировался. <…> Ура и – „Вперед без страха и сомненья!“[66]66
Первая строка стихотворения А. Н. Плещеева «Вперед! без страха и сомнения…», более известного как «Гимн петрашевцев» (1846?).
[Закрыть]» (цит. по: Спиридонова Л. А. Литературный путь Саши Черного [Предисловие] // Черный Саша. Стихотворения. С. 47). Нам известно, куда это – «вперед!». Письмо Миллю датировано 17 апреля, и в это время Черный почему-то оказался в Киеве, но долго там не задержался. Его метания по стране весной и летом 1911 года вообще с трудом поддаются объяснению. Мы даже предполагаем, что он хотел переехать из Петербурга и подыскивал себе «вершину голую».
О киевских днях напоминают несколько стихотворений, позволяющих говорить о том, что это была частная и одновременно деловая поездка. Например, «Пуща-Водица» рассказывает о трамвайном вояже в этот курортный район, а «Описание одного путешествия (Шутка)» – о веселой лодочной «прогулке без цели» по Днепру с неназываемым «сотрудником „Киевской мысли“», бородатым, «как Сарданапал». Анатолий Иванов предполагал, что спутником Черного мог быть критик Лев Наумович Войтоловский, опубликовавший в прошлом 1910 году положительный отзыв о его «Сатирах». В связи с этим назовем один из киевских адресов, где побывал поэт: редакцию «Киевской мысли» на Фундуклеевской улице, 19, напротив Оперного театра. Здание театра в апреле 1911 года еще никто не разглядывал с оттенком скандального любопытства. Разглядывать его станут после 1 сентября, когда здесь произойдет последнее покушение на председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина, закончившееся его смертью.
После Киева Саша Черный и Мария Ивановна оказались в Крыму, и мы можем утверждать, что их знакомство с полуостровом началось с Севастополя. Именно этот город, а не Симферополь, как сегодня, был в то время воротами на южный берег полуострова, куда следовали Саша с женой. Севастополь не мог не заинтересовать их. В течение всего года он не сходил с новостных полос газет. Московский кинопромышленник Александр Ханжонков получил Высочайшее дозволение на съемки полнометражной эпопеи «Оборона Севастополя», и как раз летом город жил рассказами о том, как по Приморскому бульвару и бастионам разгуливали актеры и массовка в военной форме времен Крымской войны 1853–1856 годов. Даже если знакомство поэта с Севастополем было мимолетным, он надолго запомнил панораму бухт и флот, вспомогательные суда которого стояли прямо у железнодорожного вокзала. Много лет спустя Черный попадет в Тулон, военно-морскую базу Франции, и напишет: «Город такой симпатичный, на Севастополь даже чуть-чуть похож» («Буйабес», 1926).
Из Севастополя Александр Михайлович и Мария Ивановна выехали в сторону Ялты. Сколько они пробыли в Крыму и когда именно приехали, понять трудно. В крымских стихах поэт говорит то о весне, то упоминает приметы, свойственные августу: «Съел виноград. Вздремнул немножко. / Ем дыню роговою ложкой…» («В старом Крыму», 1911). Более точно он обозначил место, где они отдыхали: «Над головой белеют сакли, / Ай-Петри – глаз не отвести!»; «Пузатый шмель – и тот в Мисхоре / Испанским тенором поет…» («В старом Крыму»), Мисхор – татарская деревня в 12 километрах от Ялты, осененная зубчатой вершиной горы Ай-Петри, тогда еще не была курортной зоной в современном ее виде. Неудивительно, что Саша с женой поселились именно в Мисхоре: они не любили курортных городов и всегда искали какую-нибудь глушь. Достаточно вспомнить Шмецке под Гунгербургом, где они отдыхали летом 1908 и 1909 годов.
Крым в то время был другим, настоящим Востоком: названия в основном тюркские, проводниками подрабатывали татары, одетые в национальные костюмы, они предлагали лошадей для прогулок в горы. Аборигены селились в маленьких белых саклях на горных склонах. Вокруг известковых оград – виноградники и кипарисы. Можно предположить, что хозяйку, сдававшую Саше жилье, звали Зирэ, ибо ей посвящено одноименное стихотворение. Правда, поэт не совсем точен фонетически: у крымских татар есть женские имена Зе́ре, Зе́ра (к ним сложно подобрать рифму), но нет Зирэ.
Погрузившись в атмосферу Востока и, возможно, вспоминая любимого им персидского поэта XIV века Гафиза, Саша Черный экспериментировал с поэтической формой и написал газель:
Чья походка, как шелест дремотной травы на заре?
Зирэ.
Кто скрывает смущенье и смех в пестротканой чадре?
Зирэ.
……………………………………………
Чье я имя вчера вырезал на гранатной коре?
Зирэ.
И к кому, уезжая, смутясь, обернусь на заре?
К Зирэ!
(«Зирэ», 1911)
Жить на Южном берегу Крыма и не посетить Ялту было бы странно. Тем более что там находится дача Антона Павловича Чехова – место, священное для любого литератора. Конечно, Александр Михайлович и Мария Ивановна там побывали и вполне могли познакомиться с матерью писателя Евгенией Яковлевной и сестрой Марией Павловной. Обе жили на даче летом и отчаянно боролись за спасение дома. Они не имели средств на его содержание и призывали общественность изыскать хоть какое-то финансирование, чтобы не пришлось сдавать помещения в аренду, нарушив тем самым первозданность чеховской обстановки. Как было Саше не вспомнить историю с веймарским домиком Шиллера, который чудом спасли богатые покровители поэта? С трепетом он бродил по саду, останавливался у деревьев, еще помнивших прикосновение рук Антона Павловича, и старался представить себе жизнь здесь лет десять назад:








