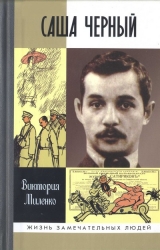
Текст книги "Саша Черный: Печальный рыцарь смеха"
Автор книги: Виктория Миленко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)
Сидя на Сашиной кухне, они вели бесконечные споры о судьбах русской литературы, которую тогда еще не делили на советскую и эмигрантскую. Осознания этого еще не пришло. Никто не думал о том, что изгнание – навсегда. Алексеев с жаром доказывал необходимость созидательной работы, для чего организовал «Книгоиздательство писателей в Берлине» и начал издавать советских литераторов: Бориса Пильняка, Константина Федина, Владимира Лидина, Сергея Есенина, Всеволода Иванова. Александр Михайлович от этой затеи морщился. Алексеев внимательно его рассматривал и писательским глазом подметил всё: у Черного «красивое, покойное лицо, серебро, осыпавшее виски, ласковые глаза, тонкие девичьи руки – во время разговора он любит смахивать со стола пушинки и никогда не смотрит на собеседника: словно говорит для самого себя» (Алексеев Г. В. Заграница. Воспоминания).
О чем же говорил Саша Черный? Говорил, что Россия, какой она была, погибла и вместе с ней погиб быт его прежних сатир. Говорил, что всякий честный человек должен покончить с эмиграцией: либо застрелиться и перестать существовать, либо забыть о национальности, «принять жизнь Запада, раствориться в ней, отыскать свое место и перестать быть эмигрантом». При этом его нервно передергивало, тик проходил по руке, «старательно выковыривающей восковое пятно на столе». Алексеев горячо доказывал собеседнику, что тот не имеет права уходить в тень и лишать наставнической помощи молодых, начинающих авторов и здесь – и там, в России. И тех и других нельзя оставлять брести на ощупь. Нужно «собирать камни». Черный на это, по словам Алексеева, «затруднялся»: в коллективный труд он не верил, боялся этой утопии, считал, что путь писателя – одинокая тропа.
Двое взрослых людей, прошедших в буквальном смысле огонь, воду и медные трубы, спорили и никак не могли договориться. Алексеев горячился, а Александр Михайлович заметно нервничал и всё пытался снять с пиджака несуществующие пушинки. Тоскливо сипел в кухне «проклятый газ – мертвенно-синий и жуткий».
Делать свой выбор приходилось ежедневно и ежечасно. В ноябре 1921 года в Берлин прибыли два человека, с которыми Саша Черный еще совсем недавно был тесно связан: Горький и Гржебин. Вот как себя с ними вести? Как теперь, после всего, что случилось, пожать руку Алексею Максимовичу, ту руку, которую пожимали Ленин, Троцкий, Дзержинский? Отношение к Горькому – конечно, не без сомнений и «затруднений» – Саша изменил. В 1924 году, когда Горький издавал журнал «Беседа», поэт посвятил этому факту злую эпиграмму:
Пролетарский буревестник,
Укатив от людоеда,
Издает в Берлине вестник
С кроткой вывеской «Беседа».
Анекдотцы, бормотанье, —
(Буревестник, знать, зачах!) —
И лояльное молчанье
О советских палачах…
(«Эпиграммы», 1924)
С Гржебиным, казалось бы, проще: тот как был, так и остался коммерсантом, и в Берлин приехал с целью организации издательства. Однако факты налицо: ни одной книги Саши Черного у Гржебина больше не вышло. Переиздание двух своих старых сборников, как уже говорилось, он доверил «Граням»; первую книгу получил под новый, 1922 год, вторую ожидал.
Раскроем берлинские «Сатиры». Первое послание «Критику»: «Когда поэт, описывая даму…». Да было ли это всё? Чуковский, «Сатирикон», обиды, ресторан «Вена»? Было, конечно, но как с тех пор изменился автор книги! Его имя на обложке теперь другое: «А. Черный». Разумеется, человек, портрет которого помещен в книге, не может быть «Сашей». Он совершенно седой. Но странное дело: побелели волосы, а усы и брови черные.
Всех современников поэта поражала его внешность: седые волосы никак не вязались не только с черными усами и бровями, но и с абсолютно гладким, без морщин, лицом, озорными, блестящими, юными глазами и молодым голосом. Замечал это и сам Черный и даже написал об этом: «Голова твоя седая, / А глазам – шестнадцать лет!» («Здравствуй, Муза! Хочешь финик?..», 1923). Глаза, возможно, и казались шестнадцатилетними, но самому Александру Михайловичу Гликбергу было за сорок, и он испытывал все те муки, которые приносит с собой «кризис среднего возраста». Подводил итоги – и был ими недоволен; чувствовал, что стареет – и старался бодриться; хотел перемен – и хотел покоя. Его настроение легко прочитывается в предновогоднем послании Куприну от 20 декабря 1921 года:
«Здравствуйте, дорогой Александр Иванович!
<…> Завтра у меня будет издатель „Граней“[100]100
В 1922 году в «Гранях» выйдет книга А. И. Куприна «Воробьиный царь: Сказки».
[Закрыть]. Поговорю с ним о деловой стороне этого издания, и он Вам напишет тотчас издательскую бумажку со всякими цифрами (сколько печатать и пр.). Общие условия в „Гранях“– 15 % с продажной цены, – к сожалению, валютная разница превращает местные гонорары в переводе на франки в вербную свинью, из которой выпущен воздух.Рассказ Ваш (или сказку?) „Воробьиный царь“ еще не получил. Книжку свою („Сатиры I“) переиздал с дополнением, на днях Вам вышлю. Нужна ли она сейчас кому-нибудь?..
Так трудно жить! И все-таки надо, – нельзя же торжествующим сукиным сынам и последние человеческие вакансии уступать. Да и писать еще хочется, несмотря ни на что.
„Жар-птицу“ с январского номера, вероятно, редактировать больше не буду. Устал, а коммивояжерствовать по добыванию изящной словесности для каждого номера все труднее и невыносимее – да и где она, эта словесность?
Марья Ив.<ановна> Вам и жене Вашей сердечно кланяется. Ей легче: она дает уроки русской истории и литературы, учит ПРОШЛОМУ, это, м.<ожет> быть, самая благодарная работа сейчас. О „Звезде Соломона“ завтра переговорю с издательством „Граней“. Это через него справлялись об этой вещи какие-то фильмовые детоубийцы.
Если у Вас есть Ваша фотография, пришлите: будет у меня тогда к Новому году чудесный подарок.
Сердечно преданный Вам
Ваш Черный» (цит. по: Куприна К. А. Куприн – мой отец. С. 209–210).
Упомянутые поэтом дети, которых Мария Ивановна «учила прошлому», вообще очень выручали. Родители настаивали на том, чтобы Мария Ивановна сопровождала их и в образовательных поездках, соглашаясь оплачивать ей с мужем и дорогу, и проживание. Именно таким образом в рождественские праздники 1922 года они оказались в Саксонской Швейцарии, где ходили на лыжах, катались на санках.
Александр Михайлович и Мария Ивановна попали в настоящую сказку: сначала ехали поездом до Дрездена, потом по заснеженным далям берегов Эльбы до курорта Бад-Шандау, а от него паромчиком до Шмильки, чудной деревушки «средь складок двух гор» («В Саксонской Швейцарии», 1922). Конечно, нельзя не заметить созвучия Шмилька – Шмецке, и они остановились именно там, хотя основная масса народа оставалась в более благоустроенном Бад-Шандау.
Жили в отеле «Zur Mühle» («У мельника»), и первые же связанные с ним впечатления подарили поэту веселые минуты:
Мы приехали в тихую Шмильку,
Деревушку средь складок двух гор.
Женский труп, вдвинув плечиком шпильку,
Нам принес бутербродов бугор.
(«В Саксонской Швейцарии»)
В наши дни «женские трупы» там более подвижные: гостиничный комплекс «Ferienhaus Mühlchen» («Дом мельника»), полностью восстановленный в 2007 году, пользуется популярностью, поэтому приходится шевелиться. Не то было в 1922 году, после войны, сильно ударившей по туристско-курортной сфере. Шмилька дремала и надеялась поправить свои дела бешеными ценами. Черный вспоминал:
Женский труп, украшенье «Zur Mühle»,
Подал нам сногсшибательный счет:
Затаивши дыханье, взглянули
И раскрыли беспомощно рот.
Платить, правда, было за что. Шмилька расположена в фантастическом по красоте месте, в каньоне Эльбы. Там «каменный бунт» скал, которые к окнам отеля «сбегались зигзагом». Там можно себя испытать: «Ах, как сладко дышать на вершине! / За холмами сквозят города, / Даль уходит в провал бледно-синий…»
Тишина, покой и белоснежная вечность. Крошечный человечек стоит на круче, безвольно съежившись от осознания собственной ничтожности. Что он оставит после себя? Нужны ли кому-нибудь его книги? Уйти в тень, дать дорогу молодым? Ведь он теперь уже литературный «старик», а на пятки наступают новые, отчаянные. Они легче приспосабливаются, быстрее выучивают языки. Конечно, нужно помогать, нужно…
Говоря Алексееву о том, что не верит в наставничество, Александр Михайлович лукавил, ведь на самом деле активно поддерживал один молодой талант – Владимира Набокова-младшего, на которого отец возлагал большие надежды. Этот юноша, пишущий под псевдонимом Вл. Сирин, учился в Кембриджском университете и периодически появлялся в Берлине. Черный познакомился с ним: красивый, спортивный и самоуверенный. Набоков-старший печатал его в «Руле», Саша брал кое-что и для «Граней», и для «Жар-птицы». И родилась идея сделать сборник.
По возвращении из Шмильки, в конце января 1922 года, поэт принял приглашение Набоковых отобедать у них на Зекзишештрассе, 67. Это была знаменитая богатая квартира, своего рода салон в духе старого Петербурга. Времена, правда, были теперь не петербургские, и дабы частично компенсировать траты на роскошные апартаменты, Набоковы сдавали две комнаты какому-то англичанину. Тем не менее эта семья жила благополучно. Елене Ивановне Набоковой, внучке миллионера-золотопромышленника Рукавишникова, удалось сохранить большую часть своих драгоценностей, и их постепенно продавали (именно так удалось оплатить обучение двух сыновей в Кембридже).
На звонок раздался гулкий лай, и Черный, передав пальто горничной, присел приласкать милого члена семьи, таксу Бокса-второго, пережившего с хозяевами все революционные и пореволюционные перипетии.
В просторной гостиной, служащей также столовой и кабинетом главы семьи, сервирован обед. Хозяин дома, Владимир Дмитриевич Набоков, ослепителен. В осанке и жестах, в речи и тоне юмора обнаруживает себя человек незаурядный, светский, уверенный в себе. Он в прекрасной физической форме, а сигару в руке держит так, что становится совершенно ясно: перед вами баловень судьбы. Жена Набокова внешне полная противоположность мужу. Незаметная, робкая, нервно-чувствительная, очень закрытая. Ей не нравится Берлин, ей хочется в Лондон. Здесь же старенькая мать Набокова, Мария Фердинандовна, урожденная баронесса фон Корф.
Разговор за трапезой, как всегда у Набоковых, был светский, оживленный и остроумный, не лишенный и общественных тем. Елена Ивановна в то время все силы отдавала организации фонда помощи голодающим в России; Владимир Дмитриевич готовился к приезду однопартийца, Павла Николаевича Милюкова, с которым у него в последнее время возникли серьезные разногласия. Милюков, обосновавшийся в Париже, призывал кадетов изменить партийную тактику, вступить в более тесное сотрудничество с эсерами, отказаться от традиционно внеклассовой позиции и поддержать крестьянство. Набоков противился, утверждая, что такие меры обречены, поскольку и эсеры не пойдут на контакт, и необходимо добиваться не поддержки какого-либо одного класса, но создания объединенного фронта всех демократических сил России, противостоящих любой автократии. В кадетской партии наметился раскол. Тем не менее Набоков настойчиво приглашал Милюкова приехать в Берлин с рассказом о посещении Америки.
Однако Александр Михайлович пришел сюда не за политическими дрязгами. После обеда Владимир Дмитриевич принес ему домашние альбомы. В них были собраны многие стихи Набокова-младшего, еще не публиковавшиеся, и Черному предстояло отобрать из них самое ценное, продумать структуру сборника и его общую идею. Он уносил домой эти альбомы, совершенно не представляя, какой это драгоценный для потомков груз. Автор этих стихов много лет спустя вспоминал:
«Есть два рода помощи: есть похвала, подписанная громким именем, и есть помощь в прямом смысле: советы старшего, его пометки на рукописи новичка, – волнистая черта недоумения, осторожно исправленная безграмотность, – его прекрасное сдержанное поощрение и уже ничем не сдерживаемое содействие. Вот этот второй – важнейший – род помощи я получил от А<лександра> М<ихайловича>. Он был тогда вдвое старше меня, был знаменит – слух о нем прошел „от Белых вод до Черных“… <…> я приносил ему стихи, о которых вспоминаю сейчас без всякого стыда, но и без всякого удовольствия. С его помощью я печатался в „Жар-птице“, в „Гранях“, еще где-то.
Он не только устроил мне издание книжки моих юношеских стихов, но стихи эти разместил, придумал сборнику название и правил корректуру. Вместе с тем я не скрываю от себя, что он, конечно, не так высоко их ценил, как мне тогда представлялось (вкус у А. М. был отличный), – но он делал доброе дело, и делал его основательно» (Сирин Вл. Памяти А. М. Черного).
Эти добрые слова Набоков произнес уже тогда, когда им были написаны и «Машенька» (1926), и знаменитая «Защита Лужина» (1930). К концу 1920-х годов он станет известным прозаиком. Пока же Александр Михайлович корпел над его стихами и думал, как озаглавить сборник. Он спросил у Набокова-старшего: как его сын хотел бы назвать книгу? Тот отвечал, что есть два варианта: «Светлица» и «Тропинки Божии». Переглянувшись, они сразу поняли друг друга. Первый вариант даже не обсуждался, а второй переиначили в «Горний путь», ничего не сказав начинающему поэту. Но один момент с Володей пришлось обсудить. Черный намекнул его отцу, что, может быть, лучше тому подписываться собственной фамилией, а не каким-то «Вл. Сириным»? Отец написал сыну в Лондон. Тот ответил не то запальчиво, не то иронично: «Мало ли какие есть Набоковы, – Сирин-то един! Therefore[101]101
Следовательно (англ.).
[Закрыть], нужно пресечь порыв Черного – пусть он поставит ту подпись, которую знает весь мир»[102]102
Цит. по: Бойд Брайян. Владимир Набоков: Русские годы // http://lib.znate.ru/docs/index—175243.html?page=25
[Закрыть]. Несколько коробит нас это «пусть он» из уст молодого человека, говорящего о человеке вдвое старше себя. Чувствуется за этим что-то не очень хорошее.
Книга Вл. Сирина «Горний путь» вышла в 1923 году, но радовались ей Черный и Набоков-младший уже вдвоем, без Владимира Дмитриевича.
Утром 29 марта 1922 года Александр Михайлович прочитал в газетах новость, от которой поплыло в глазах. Вечером 28 марта в здании Берлинской филармонии на лекции приехавшего из Парижа Милюкова был убит Владимир Дмитриевич Набоков. Позднее выяснились подробности. Едва Милюков произнес вступительные слова, как на сцену выбежали два человека и с криками «За царя и Россию!» открыли пальбу. Кто-то повалил оратора на пол, закрыв своим телом, а к стрелявшим бросились несколько человек, среди которых был Набоков. Он выбил оружие из рук одного из преступников, но в эту минуту второй выстрелил ему в спину в упор. Владимир Дмитриевич умер мгновенно: пуля прошла через левое легкое и задела сердце.
Веселый день 1 апреля 1922 года стал траурным для русского Берлина. Прощались с Набоковым, открытый гроб был выставлен в церкви при маленьком русском кладбище в Тегеле, на окраине города. Здесь Черный увидел совершенно раздавленную семью погибшего. Жизнь ее с этого страшного дня сильно переменится. Володя Набоков, сдав выпускные экзамены в университете, через три месяца переедет в Берлин и начнет биться за кусок хлеба, как большинство эмигрантов. Вдова Елена Ивановна вскоре уедет в Прагу, где по Русской акции помощи ей выделят небольшую пенсию.
О Праге в эмигрантских кругах говорили в то время с оттенком восторженного удивления. По сравнению с Берлином, в столице молодой Чехословацкой республики жилось неплохо. Правительство президента Масарика помогало русским беженцам и материально, и морально; чешская крона тогда была одной из самых стабильных валют. О преимуществах жизни в Чехословакии Саше Черному рассказывал недавно переехавший туда писатель Марк Слоним, некогда редактировавший в «Гранях» журнал «Новости литературы», а теперь возглавивший пражскую эсеровскую газету «Воля России». Черный сотрудничал с этой газетой еще с прошлого года и напечатал там свои псковские и литовские стихи. Судя по всему, о Праге сам он не помышлял, однако устроил знакомство со Слонимом Марине Ивановне Цветаевой, приехавшей из Советской России в Берлин 15 мая 1922 года (по пути в Прагу) и задержавшейся там на несколько месяцев. У нее была своя непростая ситуация: муж ее Сергей Яковлевич Эфрон, белый офицер, с которым она не виделась более четырех лет, попал после эвакуации в Чехословакию, поступил там в Карлов университет. Слоним вспоминал, что Черный познакомил его с Цветаевой «в одном из берлинских кафе на Курфюрстендамм, где собирались русские писатели и издатели»[103]103
Слоним М. О Марине Цветаевой. Из воспоминаний // http://www.e-reading – lib.com/chapter.php/95886/25/Vospominaniya_o_Marine_Cvetaevoii.html#n37
[Закрыть]. Знакомство оказалось из числа нужных: переехав в Прагу, Марина Ивановна печаталась в «Воле России» и очень подружилась со Слонимом.
Люди приезжали, суетились, хлопотали, уезжали, исчезали. Их было много, но не было среди них Друга, которого Александр Михайлович ждал с нетерпением. Он тосковал по художнику Вадиму Фалилееву, застрявшему в России; брал с этажерки утку-свистульку с отбитым хвостом, вспоминал рождественский «шабаш» 1913 года у Тучкова моста, когда получил ее в подарок, и едва не плакал:
Друга нет – он на другой планете,
В сумасшедшей, горестной Москве…
……………………………
Друга нет – и нет путей назад.
(«В старом Ганновере», 1922)
Или:
Сегодня письмо отправляю далекому другу —
Заложнику скифов – беспомощный, братский привет.
(«В Гарце», 1922)
В это время друг, качаясь от недоедания, ходил читать лекции во Вхутемасе и мог похвастать тем, что большевики дали ему звание профессора литографии и должность декана графического факультета, что гарантировало усиленный паек. Но это была лишь одна сторона медали. Фалилеев опасался, что новая власть может не простить ему купеческого происхождения и рано или поздно у него начнутся проблемы. Однако уезжать не торопился, и его квартира на Большой Якиманке была полна народу; здесь спорили о новом революционном искусстве, а в мастерской за шкафом ночевал юный Леонид Леонов, будущий известный советский писатель.
Не дождавшись Фалилеева, Черный решил переиздать «Живую азбуку», которую они когда-то делали вместе, с другим иллюстратором – одесситом Михаилом Дризо, работавшим под псевдонимом Mad. Поэт поторопился заключить договор с берлинским издательством «Огоньки», потому что хорошо помнил визит Валькирии из Наркомпроса. Та, между прочим, заявила, что раз он не хочет официально сотрудничать с Москвой, то они и сами напечатают его книгу. Потом он прочитал в литературном приложении к просоветской газете «Накануне» сообщение о том, что «Живая азбука» действительно намечена советским Госиздатом к выпуску, и, негодуя, напечатал в «Руле» заявление:
«М<илостивый> Г<осударь> г-н редактор.
В дополнение к помещенному на днях в „Руле“ письму издательства „Огоньки“ о намеченном „Госиздатом“ издании моей „Живой азбуки“ считаю нужным подтвердить, что исключительное право на издание этих книг передано мною издательству „Огоньки“ в Берлине.
Намерение „Госиздата“ издать не принадлежащую ему книгу осуществлено только на основании захватного права» (Черный А. Письмо в редакцию // Руль. 1922. 3 сентября).
Протестующий голос Саши Черного был скромным ручейком в мощном потоке возмущения писателей-эмигрантов в эти годы пиратскими переизданиями в Советской России. В головах еще не укладывалось, что они больше не имеют никакого отношения к России и с их правами никто там не собирается считаться.
А в Советской России Сашу Черного помнили… Голодным летом 1921 года на пляже одесского Большого фонтана сидели писатель Исаак Бабель и начинающий литератор Константин Паустовский, лениво перебрасывались репликами и бросали камешки в воду. Исааку Эммануиловичу вдруг пришли на память строки старого Сашиного стихотворения «Больному»:
«– В журнале „Сатирикон“, – сказал Бабель без всякой связи с предыдущими своими словами, – печатался талантливейший сатирический поэт Саша Черный. <…> Настоящая его фамилия была Гликберг. Я вспомнил о нем потому, что мы только что бросали голыши в море, а он в одном из стихотворений сказал так: „Есть еще острова одиночества мысли. Смелым будь и не бойся на них отдыхать. Там угрюмые скалы над морем нависли, – можно думать и камешки в воду бросать“. <…> Он был тихий еврей. Я тоже был таким одно время, пока не начал писать. И не понял, что литературу ни тихостью, ни робостью не сделаешь» (Паустовский К. Г. Рассказы о Бабеле // Воспоминания о Бабеле. М.: Книжная палата, 1989).
Трудно сказать, почему Бабель решил, что революционный поэт, сатирик Саша Черный был в литературе «тихим». Если он и стал таким, то только в эмиграции, и наитишайшим было его творчество для детей, хотя и в него проникали ирония и скепсис. Достаточно повнимательнее вчитаться в его знаменитые «Библейские сказки», которые он планировал выпустить отдельным сборником в «Гранях» в 1922 году.
Напомним, что идея адаптировать библейские сюжеты для детской аудитории была старая, как минимум 1916 года. Черный создал в общей сложности пять авторских версий, появлявшихся в печати с 1920 по 1925 год в разных изданиях и городах. Две первые – «Отчего Моисей не улыбался, когда был маленьким» и «Сказка о лысом пророке Елисее, о его медведице и о детях» – были написаны еще в России, «Первый грех» и «Праведник Иона» – в Берлине, «Даниил во львином рву» – уже в Париже. Принцип отбора сюжетов определить сложно; единственное, что их роднит, – принадлежность к Ветхому Завету. Ясна и основная авторская задача: попытаться несколько снизить (но не разрушить!) пафос высокого библейского повествования и в некоторых моментах, как и в поэме «Ной», додумать те сюжетные сцепления, которые в мифе отсутствуют. Словом, Саша Черный пошел по пути, сходному с тем, что избрал Лео Таксиль в «Забавной Библии» (мы уже писали об этом выше), и которого придерживались, как нам кажется, бывшие коллеги поэта, создавая «Всеобщую историю, обработанную „Сатириконом“» (1910). Ирония Черного не коснулась только сказки о маленьком Моисее, который никогда не улыбался, потому что был разлучен с матерью и знал, что она рабыня. В остальном же поэт не отказал себе в удовольствии додумать, дорисовать канонические сюжеты, посмеяться. Например, пребывание пророка Даниила во рву со львами, что традиционно трактуется богословами как трагическое испытание силы Духа и Веры пророка, он превратил в добрую сказку: оказывается, Даниил помнил райский язык, общий для людей и животных, вот львы его и не трогали, а львята бегали с ним по совершенно не страшному рву наперегонки.
Подобный взгляд на текст Библии ни в коем случае нельзя считать критическим. Кстати, в творчестве поэта есть и более ранние примеры вплетения библейских персонажей в комические стилевые рамки. Достаточно вспомнить его сатириконскую пародию на Песнь песней:
Царь Соломон сидел под кипарисом
И ел индюшку с рисом.
У ног его, как воплощенный миф,
Лежала Суламифь
И, высунувши розовенький кончик
Единственного в мире язычка,
Как кошечка при виде молочка,
Шептала: «Соломон мой, Соломончик!»
(«Песнь песней», 1910)
Конечно, эта пародия – в первую очередь «камень в огород» Куприна, написавшего эротический рассказ «Суламифь» (1908), а потом уже проекция на миф. В целом же и пародия, и «Библейские сказки», по нашему мнению, содержат отзвуки «хасидского смеха». Не будем забывать, что детство и юность Саши Гликберга прошли в Белой Церкви и Житомире, который входил когда-то в состав Речи Посполитой[104]104
Житомир, один из старейших городов Древней Руси, расположенный на северо-западе Украины, с разделом Речи Посполитой (федерация Королевства Польского и Великого княжества Литовского в 1569–1795 годах) между Россией, Австрией и Пруссией вошел в состав Российской империи и с 1804 года стал административным центром Волынской губернии. – Прим. ред.
[Закрыть]. Именно тогда в этих краях среди еврейского населения Подолии, Галиции, Волыни стал зарождаться хасидизм (как течение в иудаизме, поначалу оппозиционное официальному иудаизму), идеи которого получили широкое распространение у местного еврейства. Один из главных принципов постижения Бога в хасидизме сводится к тому, что «грустить – это Бога гневить», поэтому высшим проявлением религиозного чувства считаются радость, юмор, веселье. Это отражено и в известной хасидской песне «Хава нагила!» («Давайте радоваться!»). «Библейские сказки» Черного стилистически выдержаны в жанре сказа, и рассказчик очень напоминает ребе, терпеливо разъясняющего детям туманные места, прибегая к юмору, что хасидизмом как раз не возбраняется. Однако на этом сходство заканчивается, ведь Сашины трактовки библейских сюжетов никак нельзя принимать всерьез.
Однако вернемся в Берлин. В апреле 1922 года РСФСР и Веймарская республика заключили Рапалльский договор, ознаменовавший прорыв экономической и политической блокады Советской России. Берлин наводнили советские комиссары, агенты Внешторга, литераторы… Объединяющим центром советских граждан и русских эмигрантов стал созданный по аналогии с петроградским берлинский Дом искусств, пятничные вечера которого устраивались сначала в кафе «Ландграф» на Курфюрстенштрассе, позднее – в кафе «Леон» на Бюловштрассе. Берлинский эмигрантский ежемесячник «Новая русская книга» расцвел, публикуя в рубрике «Писатели о себе» интервью и автобиографии новых советских знаменитостей.
В мае 1922 года в Берлин пожаловала пара, молва о которой уже ходила здесь, – Сергей Есенин и Айседора Дункан. Теперь эмигранты получили возможность прочесть в «Новой русской книге» автобиографию Есенина. Прочел ее и Саша Черный. Откровенно ерничая и издеваясь над читателем, знаменитый советский поэт обрисовал основные вехи своей жизни, закончив так:
«В России, когда там не было бумаги, я печатал свои стихи вместе с Кусиковым и Мариенгофом на стенах Страстного монастыря или читал просто где-нибудь на бульваре. Самые лучшие поклонники нашей поэзии – проститутки и бандиты. С ними мы все в большой дружбе. Коммунисты нас не любят по недоразумению.
За сим всем читателям моим нижайший привет и маленькое внимание к вывеске: „Просят не стрелять!“» (Писатели о себе. Сергей Есенин // Новая русская книга. 1922. № 5).
Был ли Саша Черный на скандальном выступлении Есенина и Кусикова в Доме искусств 12 мая 1922 года, неизвестно, но там точно был его приятель Глеб Алексеев и передал всё в красках. По его словам, поэты из Советской России позволили себе изрядное употребление непечатных слов; Есенин даже свистел. Можно ли было удивить этим Сашу Черного? Конечно, нет. В определенном смысле это было даже старо: такие же демарши устраивали в 1910-х годах футуристы. Еще тогда Саша Черный писал, что «рыжий цех всегда шел ходко». Теперь написал эпиграмму «Автобиография т. Есенина» с эпиграфом из речений Соломона «И возвратятся псы на блевотину свою»:
Я советский наглый «рыжий»
С красной пробкой в голове.
Пил в Берлине, пил в Париже,
А теперь блюю в Москве.
(«Эпиграммы», 1924)
Есенин, пробывший в Берлине с 11 мая по 4 июля 1922 года, оставил по себе долгую память. Он переживал не лучшую полосу своей жизни. Бурные выяснения отношений с Айседорой Дункан, богемные загулы с Кусиковым, «кабацким человеком», по словам Натальи Васильевны Крандиевской, который, «как тень, всюду следовал за Есениным в Берлине». Наталья Васильевна, жена Алексея Толстого, 17 мая принимала у себя в отеле, где они снимали две комнаты, Есенина с Дункан и Горького.
«В этот год Горький жил в Берлине, – вспоминала Крандиевская.
– Зовите меня на Есенина, – сказал он… – интересует меня этот человек.
<…> Горький попросил Есенина прочесть последнее, написанное им.
Есенин читал хорошо… <…> Горькому стихи понравились… Они разговорились. Я глядела на них стоящих в нише окна. Как они были непохожи! Один продвигался вперед, закаленный, уверенный в цели, другой шел как слепой, на ощупь, спотыкаясь, – растревоженный и неблагополучный» (Крандиевская-Толстая Н. В. Сергей Есенин и Айседора Дункан // С. А. Есенин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. М., 1986).
Вспоминала Крандиевская и один из скандалов: Дункан разгромила номер в отеле, куда «сбежал» Есенин с увязавшимся за ним Кусиковым. Вспоминала не без сочувствия: «Ей было лет сорок пять. Она была еще хороша, но в отношениях ее к Есенину уже чувствовалась трагическая алчность последнего чувства». После скандала «было много шума и разговоров».
Возможно, именно этот случай вызвал у Саши Черного, небогемного человека, едкое стихотворение «Не по адресу» (1922), если учесть, что «немецкие бюргеры» переносили подобные эксцессы на всю русскую эмиграцию (отсюда и название):
Когда советский лжепиит,
Подкидыш низменной рекламы,
В кафе берлинском нахамит
И разорвет жакет у дамы, —
Для европейских трезвых глаз
Грязней свиньи такие франты, —
И слышишь триста первый раз:
«Mein Gott! Ах, эти эмигранты!»
(«Не по адресу», 1922)
В октябре 1922 года Берлин принял новую «партию» советских граждан. Ученые, религиозные деятели, философы, писатели, попавшие под подозрение как «контрреволюционные элементы», были высланы из страны. По этому поводу за рубежом многие негодовали на страницах газет (а иные, усмехаясь, в беседах называли это актом милосердия). Москва же продолжала невозмутимо пропагандировать преимущества нового общественного строя и с этой целью в том же октябре направила в Берлин бывшего предводителя футуристических «рыжих» Владимира Маяковского.
Поэт прибыл на открытие Выставки изобразительного искусства РСФСР, состоявшееся 15 октября в галерее van Diemen, и пять дней спустя впервые выступал в Доме искусств, разя «имажинят» и оглушая слушателей поэмой «150 000 000». В той же «Новой русской книге» Саша Черный прочитал теперь ироническую автобиографию Маяковского и, возможно, впервые узнал, что был кумиром советской знаменитости в юности: «Поэт читаемый – Саша Черный. Радовал его антиэстетизм» (Писатели о себе. Владимир Маяковский // Новая русская книга. 1922. № 9).
Странно, что Маяковский осенью 1922 года признался в любви Саше Черному, ведь в начале того же года в Москве он презрительно склонял его имя на все лады. Для вечера сатиры в Политехническом музее он изготовил такую афишу:
«Образец веселого доклада.
1. Древний юмор. Саша Черный, Александр Черный, Александр Иванович Белый. Пр<очие> Аверченки.
2. Сегодняшний грозовой юмор: вечер смеха и забавы.
3. Моя сатира: анекдоты, пословицы, надписи и прочие смешные вещи».
Вряд ли Маяковский не знал отчества некогда любимого им поэта. Скорее, исказил намеренно, а Белым обозвал Черного, намекая на то, что он стал «белогвардейцем». «Прочие Аверченки» – тоже показательно, учитывая то, что именно Аверченко морально и материально поддержал Маяковского зимой 1915 года, пригласив сотрудничать в «Новый Сатирикон».
Разумеется, соотечественники-эмигранты этой и других оскорбительных афиш видеть не могли, но Маяковский включил в берлинскую автобиографию продуманный глумливый пассаж: «„В рассуждении чего б покушать“ стал писать в „Новом Сатириконе“». Думаем, на этой фразе задержался взгляд и Саши Черного, и жившего в Берлине сатириконца Сергея Горного, и самого Аверченко, как раз в эти дни, 22 октября 1922 года, приехавшего в Шарлоттенбург из Праги.
Тема дня поменялась. О Маяковском забыли и переключились на Аверченко, которого Гессен принял в свои объятия и начал водить по роскошным ресторанам. Саша Черный не мог не прочитать в «Руле», что планируются два вечера юмора Аркадия Аверченко, однако о том, встречались ли они, сведений нет, поэтому мы не станем на этой теме задерживаться. Скажем лишь, что Аверченко, приехав из Праги, где жил на широкую ногу, был поражен берлинской нищетой. «Сравниваю Прагу с Берлином, – писал он, – в Праге все стремится снизу вверх, от грусти и тоски к бодрости, к расцвету, к красоте живой жизни; в Берлине все ползет вниз, все рушится: валюта, настроение, надежды» («Прага и Берлин», 1923).








