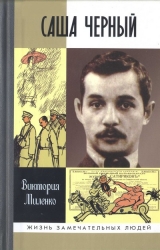
Текст книги "Саша Черный: Печальный рыцарь смеха"
Автор книги: Виктория Миленко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
Без политики не делалось и не финансировалось ничего, поэтому нам показалось странным, что кадеты дали деньги на издание «Детского острова» Саши Черного и, судя по качеству издания, серьезные деньги. Чем это объяснить? Не любовью же к детям.
Поскольку политика в содержании «Детского острова» вряд ли уместна, то мы присмотрелись к оформлению этой книги на предмет обнаружения масонского «следа», о котором говорим уже в третий раз. Долго искать не пришлось – зашифрованное послание содержится прямо на обложке и на дублирующем ее титульном листе. Каждая буква в названии книги обыграна художником Григорьевым так: две буквы «с» превращены в полумесяцы, буквы «т» – в водяные весы, буквы «о» – в круги, спроецированные на условный пол (горизонтальная черта внизу). Все это известные масонские символы[92]92
Треугольная форма полумесяца лежит в основе всех основных масонских символов, в частности пирамиды и циркуля. Водяные весы – символ и одновременно принадлежность 2-го надзирателя ложи, который обязан следить за тем, чтобы во время бдений соблюдалось справедливое равенство без различия социального положения. Круг, начертанный на полу, является обязательным в ритуале посвящения в каждую масонскую степень и одним из главных символов каждой масонской ложи. Круг в понимании масонов – конец всех фигур, в нем заключена тайна творения: окружность – это время и мера дел Божиих, в ней выражено одно из главных свойств Великого строителя мира – его бесконечность во всем.
[Закрыть]. Некоторую оторопь вызвали у нас и две другие буквы: «ять» стала могильным камнем с крестом, а «ер» – виселицей, на которой повешен (буквально за шею!) страшный человечек без рук. Что это?! Черный юмор – две отмененных реформой буквы, которых маленькие дети уже не знали и «гробились», пытаясь их разгадать? Или две буквы, которые автор и художник похоронили, ведь книга напечатана по нормам новой орфографии?
Таким образом, мы столкнулись с той же загадкой, о которой впервые говорили в связи с книжкой «Тук-тук!» 1913 года. И там, и в «Детском острове» в оформлении обложки присутствуют масонские символы, однако у книг были разные иллюстраторы, и о связи с масонами Вадима Фалилеева, как и Бориса Григорьева, нет никаких данных. Следовательно, можно предположить, что сам Саша Черный все-таки имел отношение к масонству, либо его символика была навязана ему издателями, но ведь и в этом случае он должен был обложку утвердить!
Свободный художник в то время и в тех обстоятельствах был немыслим. Прибиваясь к тому или иному берегу, литератор неизбежно попадал в какой-нибудь политический лагерь. Определить сразу, кто чем дышит, было трудно. Издание могло декларативно заявлять, что является беспартийным, а на самом деле четко гнуть ту или иную линию, объявлять себя антисоветским, но заниматься большевистской пропагандой. Газета «Голос России», с которой сотрудничал Саша Черный, склонялась в сторону культурного примиренчества с Советской Россией, поэтому русская эмигрантская диаспора Берлина напряженно выясняла источники финансирования газеты. Понимая деликатность своего положения и не желая быть «замазанным», поэт публиковал в ней стихи совершенно аполитичные и относил себя к тем эмигрантам, которые «страдают гордо и упрямо» и из любви к России «не делают профессии лихой» («Те, кто страдает гордо и упрямо…», 1923).
Русский Берлин говорил, говорил, говорил… О спасении России, о том, кто виноват и что делать. Пути дальнейшей борьбы, сражаясь за общественное мнение, предлагали кадеты и национал-монархисты, социалисты и анархо-синдикалисты, а Советская Россия тем временем, отряхнувшись, принялась за воплощение в жизнь мечты, ради которой столько лет купалась в крови. Слушая споры и спичи вокруг себя, Саша Черный только морщился и писал, обращаясь к потерянной родине:
Прокуроров было слишком много!
Кто грехов Твоих не осуждал?..
А теперь, когда темна дорога,
И гудит-ревет девятый вал,
О Тебе, волнуясь, вспоминаем, —
Это все, что здесь мы сберегли…
И встает былое светлым раем,
Словно детство в солнечной пыли…
(«Прокуроров было слишком много…», 1923)
Поэт не разделял взглядов тех же берлинских кадетов, пытавшихся склонить на свою сторону монархистов и продолжавших твердить о необходимости очередной интервенции (в то время как их парижские «братья», возглавляемые Милюковым, уже отказались от таких мер). Саша Черный считал, что борьбу вообще нужно прекратить, о России забыть и стараться ассимилироваться здесь. Эти мысли он высказывал там, где часто бывал по псковской памяти: в квартире Владимира Бенедиктовича Станкевича.
Бывший Верховный комиссар с семьей приехал в Берлин в мае прошлого 1919 года и обосновался в районе Шёнеберг, на Пассауэрштрассе, 38. Он продолжал заниматься политикой и рупором своих новых идей сделал журнал «Жизнь», куда активно приглашал своего бывшего коллегу по комиссариату Сашу Черного. За изданием стояла основанная Владимиром Бенедиктовичем группа «Мир и труд», выступавшая за культурное «примиренчество» с новой Россией, за консолидацию нации, разобщенной Гражданской войной. В доме у Станкевича Александр Михайлович встречал тех, кто сыграл большую роль в февральских событиях 1917 года: эсера Виктора Михайловича Чернова (первого и последнего председателя Учредительного собрания), меньшевика Ираклия Георгиевича Церетели (министра почт и телеграфов во втором составе Временного правительства), а также Владимира Савельевича Войтинского, памятного ему и нам по псковским событиям 1917 года. Приходили и литераторы. Как-то во время жаркого спора в гостиной Станкевича, где собирались на чаепития, появился незнакомый Черному молодой человек, белокурый, хорошо одетый, скромный. Станкевич представил его: Роман Борисович Гуль, автор рукописи «Ледяной поход», которая будет печататься в «Жизни», и сам действительный участник Ледяного похода генерала Лавра Корнилова. Пришедший смутился присутствием важных персон, а познакомившись с Александром Михайловичем, автоматически начал расточать комплименты его стихам и уверять, что многие знает наизусть. Против его ожидания, поэт «сморщился, как лимон надкусил», и зло пробормотал: «Все это ушло, и ни к чему эти стихи были…» (Гуль Р. Б. Саша Черный // Гуль Р. Б. Я унес Россию: Апология эмиграции. В 3 т. T. 1: Россия в Германии).
Так встретились Саша Черный и Роман Гуль, который станет известным в эмиграции писателем. Он и рассказал нам о том, что Саша слушал пацифистские речи Станкевича вяло, предложения работы отклонял «очень мягко по форме, но твердо по сути» и ни о каком примирении слышать не мог: «В Саше Черном жила огненная ненависть к большевизму. Такая была разве что у Бунина времен „Окаянных дней“. Да даже и у Бунина она не была так огненна». Гулю, который потом не раз виделся с поэтом в разных местах, тот показался человеком, «совершенно раздавленным революцией» и очень странным. Вот, например, одна из их встреч:
«На улице Шарлоттенбурга бывший сатирик Саша Черный, человек с глазами раненой газели, сказал мне тихо:
– Разве можно не любить Леонида Андреева?
Бедный Саша! В дальнее путешествие каждый вез с собою, что мог. Кто – „всю власть Учредительному собранию“. Кто – „безумно холодные плечи“. Кто – „Леонида Андреева“»[93]93
Гуль Р. Жизнь на Фукса // http://www.gramotey.com/7open_ftle=1269044261
[Закрыть].
Тот же Гуль утверждал, что Черный держался на плаву исключительно благодаря жене: «Саша Черный везде бывал вместе с женой, Марией Ивановной, рожденной Васильевой. Мария Ивановна была из писательских жен – ангелов-хранителей. <…> По каждой мелочи было видно, как она охраняет и боготворит своего Сашу» (Гуль Р. Б. Саша Черный // Гуль Р. Б. Я унес Россию: Апология эмиграции). Так мы впервые сталкиваемся с желанием современников поэта сказать хоть пару слов о Марии Ивановне, ее роли в его жизни и работе.
Мария Ивановна, признававшаяся, что после Вильно ее «настоящая жизнь» закончилась, конечно, рук не опустила. В эмиграции она занималась репетиторством и, в отличие от гонораров мужа, этот заработок был регулярным. Помимо частных уроков получила она и постоянную работу: Владимир Дмитриевич Набоков устроил ее в местную русскую гимназию, где училась его дочь Лена (директором гимназии была невестка все того же вездесущего Гессена).
Появились у жены поэта и новые, не совсем привычные для нее обязанности. Саша Черный задумал устраивать по понедельникам в маленькой пивной что-то вроде программы петербургского подвала «Бродячая собака». Сам, разохотившись, согласился принять на себя роль конферансье, а Марии Ивановне велел быть «хозяйкой» и обеспечивать гостям светское и академическое общение. В Берлине, чтобы не пропасть, нужно было быть публичными людьми, не сидеть дома, заводить знакомства, приспосабливаться, иначе затрут, отодвинут, забудут.
Однако же Александр Михайлович, справлявшийся с конферансом в малых помещениях, истерически боялся выходить на сцену в больших. Не смог он этого сделать и 20 ноября 1920 года, а день был знаменитый.
Союз русских журналистов и литераторов в Германии решил устроить первую большую показательную акцию: торжественное чествование памяти Льва Николаевича Толстого по случаю десятилетия со дня его кончины. К участию в вечере привлекли и литераторов, и артистов, которые должны были выступать во второй, концертной части программы. Желая способствовать налаживанию деловых и культурных контактов с немцами, оргкомитет разослал приглашения президенту Веймарской республики Фридриху Эберту, членам правительства, депутатам рейхстага, представителям творческой интеллигенции Германии, иностранному дипломатическому корпусу.
Наверняка Саша Черный шел на этот вечер не без волнения – ожидался большой официоз, и неизвестно еще, как примут его стихотворение о Толстом «Скорбная годовщина», написанное специально для мероприятия. И не пойти нельзя: теперь он был человеком зависимым и сказаться больным, как он обычно делал перед сатириконскими балами, было невыгодно ему самому. Вместе с тем на душе было радостно. Поэт болезненно переживал то небрежение к русским эмигрантам, которое он порой наблюдал у европейцев, поэтому такой весомый шаг в сторону культурного сближения с великой немецкой нацией казался ему очень достойным.
Они с Марией Ивановной пересекли Август Виктория-плац и пошли прямо на мигание огромной неоновой рекламы над не менее огромным кинотеатром «Уфа палас», открытым в прошлом году и самым большим в Германии. Уже в вестибюле на них обрушилась роскошь, от какой они давно отвыкли: стены обиты красным бархатом, ковры тоже красные, позолоченные двери и потолок. Вокруг снуют служащие в красной униформе, сверкают золотыми галунами портье и билетеры. Переполненный зал гудит. Занавес тоже золоченый. Пусть все это с налетом кича, зато Европа, нормальная жизнь и какая-никакая, но культура.
Пришли многие из высоких немецких гостей: президент рейхстага Лебе, депутаты, представители правительства. Начались речи. Слово взял редактор «Голоса России» Шклявер (у которого работал Саша Черный). Он подчеркнул, что это собрание – первый после страшной войны случай, когда русские и немцы собрались вместе для чествования Льва Толстого, для кого не было ни немцев, ни русских, а были только люди. Затем торжественно зачитывалась приветственная речь от Герхарта Гауптмана, нобелевского лауреата 1912 года. С приветствиями и поздравлениями выступил статс-секретарь русского отдела министерства иностранных дел барон фон Мальцан…
Наконец, открылась концертная часть, и немцы, сидевшие в зале, разразились восторженными овациями: на сцене вместе с русскими артистами появился Александр Моисси, звезда немецкого кино. Он имел к Толстому непосредственное отношение, ибо играл Федю Протасова в театральной постановке «Живого трупа», осуществленной легендарным Максом Рейнхардом в 1913 году.
Саша Черный, внутренне сжавшись, ждал, когда прозвучит его стихотворение. И вот на сцену вышел Осип Рунич, звезда российского кинематографа, партнер недавно почившей Веры Холодной, только что прибывший в Берлин. Теперь уже русская часть зала возликовала, Рунич же чеканил слова:
Толстой! Это слово сегодня так гордо звучит.
Как имя Платона, как светлое имя Сократа —
Для всех на земле – итальянец он, немец иль бритт,
Прекрасное имя Толстого желанно и свято.
И если сегодня у мирных чужих очагов
Всё русское стало, как символ звериного быта, —
У родины духа – бескрайняя ширь берегов,
И муза Толстого вовеки не будет забыта…
Зал взорвался аплодисментами, скандировал: «Автора! Автора!» Автор же не знал, куда ему деться. Его требовали на сцену, а он едва смог подняться и, как писал очевидец, «стоял с потупленными глазами в зале, на сцену не вышел» (Коноплин И. Саша Черный (Памяти умершего) // Новое русское слово. 1932. 28 августа).
Такой триумф любого другого заставил бы и возгордиться, и вознестись. Только не Сашу Черного, о котором Куприн как-то заметил: «Я бы сказал: „Да будет ему триумф“, если бы только этот сдержанный, молчаливый человек с печальными темными глазами и светлой детской улыбкой придавал триумфу какое-нибудь значение» (Куприн А. И. О Саше Черном // Журнал журналов. 1915. № 7). Александр Михайлович радовался, что сбор от вечера, поступивший в кассу взаимопомощи союза, оказался значительным. Деньги ведь пойдут на выплату ссуд нуждающимся коллегам, а он внес в это хорошее дело свою лепту.
Триумфатором Саша Черный был не только как поэт, но и как мужчина. Мария Ивановна не без иронии рассказывала о поклонницах, осаждавших его в это время. Одна из них, некая русская журналистка, утомляла страшно, «преследуя его всеми возможными средствами: звоня по телефону, дожидаясь его в редакциях издательств». Другая Валькирия явилась в образе сотрудницы театральной секции советского Наркомпроса и принялась наседать на Александра Михайловича, требуя написать детскую пьесу и отдать для переиздания в Москве «Живую азбуку». При этом она картинно разметалась на диване, закинув ногу на ногу и страстно затягиваясь папироской. Поэт осатанел и велел убираться, если мадам не хочет, чтобы он спустил ее с лестницы. Такая же участь скоро постигла и первую домогавшуюся, но об этом в свое время.
Берлин постепенно наполнялся русскими, и среди них было немало петербуржцев. Саша Черный обрадовался появлению Александра Эдуардовича Когана, некогда выпускавшего журнал «Солнце России», с которым он работал несколько лет. Коган не скрывал, что прибыл в командировку по заданию Горького, что работает теперь в петроградском горьковском издательстве «Всемирная литература», созданном на базе его же собственного, когановского, издательства «Копейка». Цель командировки – налаживание контактов в области печатания русских книг в Германии. Не теряя времени, Коган организовал большое художественное издательство «Русское искусство» с офисами в Берлине и Париже, руководство которым осуществлялось из «Всемирной литературы». Одним из проектов издательства стал художественный альманах «Жар-птица», призванный знакомить европейскую публику с русским искусством. Саша Черный согласился возглавить его литературную часть.
Весной 1921 года у Александра Михайловича появилась хорошо оплачиваемая работа. Теперь он ездил в редакцию «Жар-птицы», где его иногда охватывал синдром дежавю: технический редактор нового альманаха Б. Г. Скамони в Петербурге возглавлял типографию и издательство «Голике и Вильборг», печатавшие до 1910 года «Сатирикон». На этом дежавю заканчивалось: редакции «Сатирикона» и «Жар-птицы» сравнивать не приходилось. Последняя занимала роскошное помещение, в котором действовал постоянный художественный салон. Здесь никому не пришло бы в голову пить пиво, сидя на подоконнике, как это было в сатириконском «штабе» на Фонтанке.
Наш герой никогда ранее не занимал такой ответственной должности. Ему пришлось делать то, чего он в принципе не любил и не умел: разыскивать по всей Европе бывших коллег, просить у них материал, обещать золотые горы, терпеть их чудачества. Одним словом, отвечать за качество и быть крайним. Вот когда, должно быть, он начал понимать Аверченко, которого упрекал в том, что тот втискивал свой материал куда только мог. Почему-то у Черного теперь не дрогнула рука дать в первый номер «Жар-птицы» три собственных довольно объемных стихотворения и рецензию на ахматовский сборник «Подорожник».
Столкнулся он и с капризами. Вот как, к примеру, расценивать поведение Куприна? Александр Михайлович написал ему в Париж, попросил прислать что-нибудь, а тот предложение проигнорировал, ответив собственной просьбой дать материал для журнала «Отечество», который начал редактировать. К счастью, из того же Парижа откликнулись Тэффи и Бальмонт, из Софии он получил кое-что от Евгения Чирикова, из Праги – от Сергея Маковского. Материал для первого номера «Жар-птицы» был готов, но его выход откладывался так долго, что поэт успел включить в него свое стихотворение, написанное уже на отдыхе, на курорте.
Летом 1921 года они с Марией Ивановной смогли вернуться к привычному образу жизни и поехать на немецкий курорт Альбек-Зебад на Балтийском море. Однако остановились, как всегда, не на самом курорте, а в окрестностях – в Кёльпинзе, раскинувшемся между морем и чудным одноименным озером. В те годы туда ездили не только отдохнуть, но и отведать копченое или маринованное мясо угрей, которые выбрали эти места для нереста.
И здесь тот же эффект дежавю! Городок удивительно напоминал Гунгербург, где они в последний раз отдыхали перед войной. Такой же песчаный пляж, такие же кабинки, обтянутые внутри полосатым ситцем, а главное, такое же обывательское «мясо», сразу утомившее поэта. Стоя по колено в воде и обозревая копошащихся рядом, он скрежетал зубами и вспоминал свой любимый сюжет о ковчеге:
Как когда-то в дни Еноха,
Неоглядна даль и ширь.
Наша гнусная эпоха
Не вульгарный ли волдырь?
Четвертуем, лжем и воем,
Кровь, и грязь, и смрадный грех…
Ах, Господь ошибся с Ноем, —
Утопить бы к черту всех…
(«Курортное», 1921)
В первую очередь ему хотелось «утопить» одну свою соседку по пансиону – ту самую журналистку, что преследовала его в Берлине. Она дошла до того, что увязалась за ними в Кёльпинзе, сняла номер по соседству и потеряла всякий стыд. Как-то она поймала Александра Михайловича на веранде, когда он там оказался один, приперла к стенке и заявила, что он просто обязан бросить свою «мещанку-жену» (слова Марии Ивановны), ведь та не дает расцвести его таланту, а уж она-то сделает для этого всё. Черный сорвался и нагрубил.
От раздражения он спасался работой. Позабыв обиду, сел снова писать Куприну в Париж:
«Дорогой Александр Иванович!
От А<лександ>ра Митр<офановича> Федорова[94]94
А. С. Федоров в это время находился в Болгарии.
[Закрыть] узнал Ваш новый адрес. Он пишет, что у Вас есть его рассказ „Сила земли“, который просит переслать мне для журн.<ала> „Жар-птица“.„Птица“ эта наконец выйдет между 1 и 5 августа. Я Вам писал, давно уже, – просил дать несколько страниц в этот журнал. Ответа от Вас не получил. Прошу опять о том же. Помимо того, осенью в Берлине затевается литературный альманах „Грани“, может быть, и для этой затеи у Вас найдется что-нибудь? Деньги Вам сейчас же по получении рукописей будут высланы (размер гонорара по Вашему указанию).
Жить все невыносимей, только в работу прячешься, да и та скрипит: до словесности ли сейчас…
Так бы хотел Вас повидать, иногда кажется, что и прошлого не было… Да никуда не выбраться: на крупу хватает, а о разъездах мечтать не приходится. С „Жар-птицей“ к Вам пристаю не потому, что я „завед<ующий> литературной частью“, а потому, что хочется Ваше живое слово услышать. О далеком ли, о том, что после нас будет, о том, чего никогда не было, – все равно…
Если знаете, сообщите адрес Ив<ана> Ал<ексеевича> Бунина – говорили, что он переехал. Месяц провел у моря, послезавтра возвращаюсь в Берлин. Не надо ли Вам в Берлине чего-либо по Вашим литературным делам? Напишите: я здесь всех крокодилов знаю.
Сердечно кланяюсь Вашей жене и Вам. Жена кланяется вам обоим.
Преданный Вам Черный.
2 августа 1921 г.
Адрес тот же.
Берлин».
Это письмо вместе с другими бумагами отца сохранила Ксения Куприна, дочь писателя, и впервые опубликовала в своих мемуарах «Куприн – мой отец» (С. 206–207). Мы еще станем обращаться к этой книге, потому что переписка Черного и Куприна будет регулярной. Что же касается конкретно этого письма, то на него пришел странный ответ. Официально обращаясь к Александру Михайловичу «глубокоуважаемый», Куприн сожалел о том, что он его позабыл и, вероятно, это потому, что до него дошли какие-нибудь слухи. Черный поспешно отвечал:
«Дорогой и милый Александр Иванович!
Очень меня Ваше письмо огорчило, а я, видит Бог, ни в чем против Вас не согрешил. Писал Вам по получении Ваших книг[95]95
Скорее всего, А. И. Куприн прислал свои книги в редакцию «Голоса России» для отзыва (в это время у него вышли «Звезда Соломона», «Рассказы для детей», Библиотека «Зеленой палочки» и другие издания).
[Закрыть], писал Вам вторично (заказным) с сердечной просьбой помочь нашей берлинской „Жар-птице“ Вашей работой, – в третий раз писал Вам из Kolpinsee, где я пробыл месяц – опять просил о том же. Первые письма посылал на Ваш старый адрес: не дошли они, что ли? Вырезку с Вашим отзывом обо мне еще не получил, но прочел отзыв этот в „Общ.<ем> деле“[96]96
Рецензия на книгу Саши Черного «Детский остров», которую мы цитировали выше.
[Закрыть], и конечно, он ценен для меня, как каждое Ваше доброе слово. Единственно, в чем виноват, – что не отозвался на Ваше приглашение в „Отечество“[97]97
Журнал «Отечество» начал выходить в феврале 1921 года. А. И. Куприн редактировал номера 1–4.
[Закрыть]. Но признаюсь: я Вам до того писал с просьбой о сотрудничестве в „Жар-птице“ – Вы не ответили, вот я немного и скис… Помимо того, у меня вместо „отечества“ такая черная дыра на душе, что плохой бы я был сотрудник в журнале под такой эмблемой.Слухи о Вас? Я их не знаю, – всякие слухи эмигрантско-вшивого толка отталкиваю с бешенством, и если бы даже услышал, что Вы родную тетку сварили в котле со смолой, – ничуть бы это не изменило моей большой любви к Вам.
И опять пристаю к Вам с тем же: каждое присланное Вами слово будет и для меня лично, и для журнала большой радостью. Вы настоящий – и когда Вы молчите и когда о Вас ничего не слышно, а русский язык поступает в исключительное владение разных прохожих людей в литературе – обидно и досадно… Я… и ценю и люблю Вас раз навсегда и окончательно и дошел до этого сам.
Будьте здоровы, сердечно жму Вашу милую руку, только, ради Бога, не называйте меня больше никогда „глубокоуважаемым“.
Неизменно Ваш А. Черный.
9/VIII – 1921 г.
Стихи и рассказ Федорова получил – спасибо. Если знаете, сообщите адрес И. А. Бунина, – говорят, он переехал?
А. Ч.» (цит. по: Куприна К. А. Куприн – мой отец. С. 208–209).
Такая настойчивость в поисках Бунина умиляет. Куприн адрес Ивана Алексеевича прекрасно знал, а почему не сообщил, можем только догадываться: вероятно, ревность, отравлявшая дружбу этих двух больших художников.
Между тем именно Бунину Куприн был обязан своим появлением в Париже. Революции (и Февральская, и Октябрьская) застали его в Гатчине, в знакомом нам зеленом домике. В конце октября 1919 года, когда Саша Черный с Марией Ивановной уже жили в Вильно, Куприн с женой Елизаветой Морицовной и дочерью Ксенией выехали в обозе отступающей Северо-Западной армии генерала Юденича. Около месяца прождали финской визы в Ревеле, затем провели полгода в Гельсингфорсе, где стали перед выбором, куда дальше: Берлин, Париж, Прага? Все три города Куприну были одинаково чужды, но в Париже уже жил Бунин, который и пригласил старого друга к себе. В июне 1920 года Куприны вышли на пароходе из Гельсингфорса в Лондон, а 4 июля прибыли в Париж, где Александр Иванович сразу начал работать в газете Владимира Бурцева «Общее дело».
О том, чем писатель жил в августе 1921 года (когда, наконец, ответил Черному), известно из интереснейшего и до сих пор не опубликованного источника. В Литературном архиве Мемориала национальной письменности Чешской республики (Прага) хранится дневник писателя Бориса Александровича Лазаревского, близкого друга Куприна, бывшего тогда рядом. Лето они проводили в пригороде Парижа, на даче в Севр видь д’Авре, которую Куприн снял в надежде, что она хоть как-то компенсирует тоску по зеленому гатчинскому домику. Писатель пустил квартиранток: француженку, некогда преподававшую в Гатчине детям великого князя Михаила Александровича, а также его дочери Ксении, и старушку, дочь кучера Александра III. Александр Иванович делился с Лазаревским: «Понимаешь, я один с четырьмя бабами и все мною недовольны…» Елизавета Морицовна главным образом расстраивалась из-за состояния здоровья мужа и тоже жаловалась Лазаревскому, по его словам: «Говорила мне один на один, что сердце у него никуда не годится, доктор прямо сказал: недолго проживет»[98]98
Památnik národniho pisemnictvi. Fond. 96/43.
[Закрыть]. Вот почему письма Куприна Саше Черному, судя по всему, были невеселыми.
Теперь несколько слов об альманахе «Грани», куда Черный приглашал Куприна. Это название в советское время воспринималось у нас с оттенком скандала: так назывался журнал, выпускавшийся с 1946 года издательством «Посев». Мы же ведем речь о первых «Гранях», появившихся в начале 1920-х годов. Альманах выходил в одноименном издательстве, где Черный был главным редактором (в некоторых источниках его называют владельцем, но это неверно). Именно в «Грани» поэт отдал для переиздания свои «Сатиры» и «Сатиры и лирику»; согласился он редактировать и альманах, поэтому разыскивал для него авторов. Александр Михайлович мог оказать содействие в издании в «Гранях» той или иной книги, был там своим человеком и «держал руку на пульсе».
О том, как жил Берлин ближе к осени 1921 года, узнаём из письма Алексея Николаевича Толстого, отправленного Бунину в Париж: «Жизнь здесь приблизительно как в Харькове при гетмане: марка падает, цены растут, товары прячутся. Но есть, конечно, и существенное отличие: там вся жизнь построена была на песке, на политике, на авантюре, – революция была только заказана сверху. Здесь чувствуется покой в массе народа, воля к работе, немцы работают как никто. Большевизма здесь не будет, это уже ясно. <…> Здесь вовсю идет издательская деятельность. На марки все это грош, но, живя в Германии, зарабатывать можно неплохо. По всему видно, что у здешних издателей определенные планы торговать книгами с Россией» (цит. по: Бунин И. А. Из воспоминаний. «Третий Толстой» // Бунин И. А. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Художественная литература, 1967. Т. 9. С. 443).
Мы не случайно ввели в повествование Алексея Толстого: он приехал в Берлин из Парижа 16 ноября 1921 года и вскоре начал появляться в квартире Саши Черного, редактора популярной «Жар-птицы», на Вальштрассе. Здесь вообще бывали многие. Парижский коллега Толстого, сатирик Дон Аминадо, Аминад Петрович Шполянский, и вовсе жил у супругов Гликберг, когда приехал в Берлин на разведку, «неустроенный, без денег», по словам Марии Ивановны. До этого они с Черным общались по переписке: Дон Аминадо и Алексей Толстой издавали в Париже детский журнальчик «Зеленая палочка», а Саша Черный высылал им материал. Теперь, при личной встрече, им было о чем поговорить и кого вспомнить.
Путь нашего героя в эмиграцию оказался совсем не таким, как у многих его литературных собратьев. Он не был ни в гетманском Киеве, ни в деникинском Ростове-на-Дону, ни в белых Крыму и Одессе, не бороздил в пароходном трюме Босфор. Поэтому слушал жадно.
Дон Аминадо, один из остроумнейших людей своего времени, и собеседник, и рассказчик был превосходный. Он тоже воевал, был ранен и комиссован. Успел поработать в «Новом Сатириконе», чем очень гордился. Рассказывал о судьбах сатириконцев, с которыми сталкивался во время последующего «бега». Многих из них во главе с Аверченко видел осенью 1918 года в сумасшедшем Киеве, где они все вместе издавали смешную до колик пародийную газету «Чертова перечница», глумясь над украинскими «щирыми самостийниками». Потом, при эвакуации из Одессы, оказался на одном пароходе с Ре-ми, Василевским (не-Буквой) и Алексеем Толстым. Затем промелькнул перед глазами огромный и грязный Константинополь – и наконец Париж.
После Дона Аминадо у Черного останавливался Александр Александрович Яблоновский, тот самый журналист, которому он был обязан спасением от нищеты в 1898 году, а затем и своими первыми литературными шагами в столице. Поэт помнил добро, и теперь настала его очередь помогать: он не только приютил Александра Александровича, но и устроил в «Гранях» издание двухтомника его рассказов.
Яблоновский, разменявший уже шестой десяток, хлебнул лиха не меньше других: Одесса, Дон, эвакуация из Новороссийска, Египет. Дочь с зятем унесло в Сербию, а им с женой вот надо как-то устраиваться. Попытали счастья в Париже, теперь решили посмотреть, что в Берлине.
Бывали на Вальштрассе и другие гости, которых Александр Михайлович и Мария Ивановна принимали скорее из уважения к прошлому, нежели из симпатии. В начале лета 1921 года, когда они собирались в Кёльпинзе, к ним напросилась погостить Анна Ильинична Андреева, вдова Леонида Андреева, приехавшая из Финляндии в Берлин с сыном Саввой, настолько избалованным, что ни одна немецкая квартирная хозяйка его долго не выдерживала. Черный знал о трудной ситуации, в которой оказалась Анна Ильинична: муж скоропостижно скончался два года назад, оставив ее одну с четырьмя детьми. Саша Черный, боготворивший Леонида Андреева, не смог ей отказать, хотя и мальчик был несносен, и его мама имела тяжелый характер. Но они с Марией Ивановной все равно уезжали на курорт, когда же вернулись, квартира была практически разгромлена…
Квартиру Саша Черный восстановил после налета Саввы Андреева, и даже это не отвратило его от детской темы. 23 ноября 1921 года он писал Куприну:
«Дорогой Александр Иванович!
Я валяюсь все время в постели, болен – поэтому и молчал. Вот сегодня голова свежее, и я решаюсь ответить Вам на Ваше невеселое письмо.
О чем писал бы сейчас Чехов, если бы жил с нами в эмиграции? И кто угодно из настоящих (независимо от табели о рангах) что может еще сказать?
И вот иногда и пишешь, то точно доскребываешь из нутра остатки правды и последней боли: вокруг валюта, подрастающие незнакомцы с политехническими телодвижениями… Скучно. Вот, Бог даст, последняя надежда, удастся уехать к знакомым на хутор (в Германии) и работать на земле.
Через „Грани“ справлялись как-то какие-то люди, уступите ли Вы „Звезду Соломона“[99]99
«Звезда Соломона» (1917) – фантастическая повесть А. И. Куприна.
[Закрыть] для фильма? Я обещал написать Вам – такие предприятия, кажется, не плохи, если не попасть в лапы крокодилам. Может быть, дать Ваш непосредственный адрес? <…>Хотелось бы все-таки для детей еще что-нибудь состряпать: они тут совсем отвыкают от русского языка, детских книг мало, а для них писать еще и можно и нужно: не дадите ли несколько страниц для детского альманаха?
Пишу Вам криво и грязно, лежа писать не приноровлюсь никак. Целую Вас дружески и сердечно. Не радует ни „пышность“ „Жар-птицы“, ни сравнительное благополучие собственной шкуры, а переезжать на Мадагаскар поздно – и денег нет и не привыкнешь. Приходила ли Вам мысль о переезде сюда, в Германию, – здесь все же бездна всякого литературного дела, – а людей чуть-чуть… <…>
Ваш А. Черный» (цит. по: Куприна К. А. Куприн – мой отец. С. 207–208).
Среди людей, которых было «чуть-чуть», помимо упомянутых Алексея Толстого, Дона Аминадо и Яблоновского, оказался и прибывший в Берлин писатель Глеб Алексеев, знакомый с Сашей Черным еще с питерских времен. Новый человек – и новая история бегства из России. Фронтовик Алексеев встретил революцию и Гражданскую войну на Украине, в декабре 1919-го он, больной сыпняком, был эвакуирован англичанами из Новороссийска, побывал в Греции, Венгрии, даже Африке и Малой Азии. Теперь вот Берлин.








