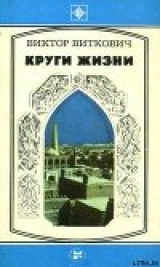
Текст книги "Круги жизни"
Автор книги: Виктор Виткович
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц)
Испытание стихией
В трагический для Ташкента апрельский день Александр Твардовский позвонил мне: «Конечно, вам необходимо лететь в Ташкент? Угадал? Приходите в «Новый мир», оформим командировку». Так я очутился в Ташкенте, моем милом, прекрасном, разоренном бедой.
Как не вспомнить, с чего началось! Ранним утром, еще до зари, 6 апреля 1966 года, вдруг загрохотала земля, зашевелились стены, посыпалась штукатурка, кое-где рухнули потолки, многоэтажные дома заскрежетали, будто кто-то невидимый сжимал их в гигантских тисках, и собаки всего города завыли, залаяли, ташкентцы, вскочив с постелей, ринулись на улицы, толком не понимая еще, что происходит.
– …Горка падает, летят со звоном мои чашки-бокалы. Бежим по лестнице, а он кричит: «Не плачь! Разбитая посуда к счастью!» Выбежали кто в чем. Видик у всех! Не то пляж, не то психбольница. Стоим под аркой нашего дома, обсуждаем землетрясение. Только потом сообразили, что стоим в самом опасном месте: привыкли укрываться под стеной дома.
Так рассказывали мне в те дни о первом, самом мощном толчке 26 апреля, когда все городские часы остановились в 5 часов 20 минут.
– …Я проснулся от грохота. Дом ходуном – вот-вот развалится. Собаки рвутся в дверь, лают, рычат. За окном – странный, ни на что не похожий свет, которым окрашены дома, деревья, небо. Первая мысль: атомная война! Может, ахнуло-грохнуло где-нибудь в Чирчике, а сюда волна докатилась? Сунул в карман военный билет, схватил «Спидолу» и вслед за домочадцами – вниз, на улицу…
Это мне рассказывал по свежему следу живущий в Ташкенте интереснейший писатель Олег Сидельников.
Все счастье Ташкента, что толчки были вертикальными: дома здесь попрыгали, попрыгали да и встали на место. Едва ужасный гул затих, люди начали осматриваться. В первое мгновение казалось: как стоял Ташкент, так и стоит, обрушившихся кровель почти не видно. Количество их и впрямь оказалось ничтожно для города с миллионным населением. Но когда, постепенно смелея, прислушиваясь к недрам земли, поглядывая на потолки, люди вошли в квартиры, они увидели: положение куда серьезней: глубокие трещины избороздили стены, некоторые совсем отошли, держались на честном слове.
Остановился я в те дни, как всегда, у Козловских. Внутри дома все было обычно, только полочки пустые: вещи сняты, чтобы не упали, да кое-где по штукатурке змеились трещины. Дом финский, фанерный – при толчках трещал, прыгал… что ему сделается! Хуже тому, у кого дом из кирпича: сколько их, таких домов, вокруг стали негодными для жилья!
Первомай город встретил в палатках. Не так-то просто жить в палатке с детьми – грудными и школьниками, с чемоданами, кроватями и сундуками, кошками, радиоприемниками и холодильниками, кастрюлями, со всем скарбом. Да еще при плюс сорока градусах Цельсия в тени. Прошелся по городу, добрел до Хорошинской. Палатки, палатки…
В обрушившемся доме среди обломков штукатурки и битых кирпичей завтракала семья, развязав узелок: имущество увезли, вернулись за последними мелочишками, какие удастся откопать. Шел мимо сосед:
– Что-нибудь нашли?
– Да, кубышку с золотом.
И добрые улыбки на лицах. Ну разве не грустные шутки?
Ты понимаешь, что побывал и на милых улицах детства… Подошел к школе с замиранием сердца: стояла на месте! Только потолок нашей бывшей учительской был провален, на полу крошево кирпичей. А во дворе маленькие ребятишки воткнули в строительный песок палочки и держались за них, девчонка лет шести в синеньком платьице торжествующим голоском выкрикнула: «Ты, земля, трясися, а мы за колышки держися!» Все, отпустив свои палочки, бросились кто куда, хватаясь за чужие палочки. Одна девочка осталась без колышка и стала «водить»: «Ты, земля, трясися…»
Навестил и Корженевскую, встретила меня Евгения Сергеевна радушно, угостила. Во время первого толчка дом, в котором она жила, тоже прыгал и скрежетал. Хотел задать ей вопрос – почему не переселилась, как ее сосед, в палатку, во двор? – да вовремя удержался. Глупый вопрос! Ей, Евгении Корженевской, дрожать от страха перед стихиями?!
Буквально на второй день после землетрясения тут сумели организовать уличный быт! Рестораны расставили столики прямо на мостовых, открылись уличные парикмахерские, уличные камеры хранения вещей. В палатки переселились медицинские пункты, сберкассы, отделения связи, универмаги и магазины. Палатки, палатки… И вот на их месте – современный громадный город, с которым меня роднит словно бы подсушенное солнцем небо, и то, как асфальт белеет сквозь зелень листвы, и на проспектах многоязычная речь…
Ташкент выдержал испытание стихией. А наша с тобой дружба? Она выдержала испытание временем – хоть и с бурями, с подводными камнями, с порогами. Ну а если ворвется стихия? Выдержит ли дружба это испытание? Ведь со стихиями шутки плохи. При них нельзя быть равнодушным к друзьям. Вот истинное испытание сердца! Но я здесь, а ты… Впрочем, еще Гоголь говорил: «На свете большей частью бывает так, что одна вещь находится в одном углу, а другая, которой следовало бы быть возле нее, в другом…» Я здесь, а ты далеко: так далеко, что у меня очень длинные дни.
10 апреля. Ташкент
Прекрасно ранним утром в садике Козловских. Поют дрозды на свой особый флейтовый манер. Воздух… чудо! Запахи тополевых весенних клейких листочков. Садык, садовник и цветовод, старый друг семьи Козловских, разделал сад в чисто узбекском вкусе. В глубине купы персиковых и вишневых деревцев, кусты гранатов и цветущей японской айвы. В стороне полуарка виноградника. Посреди садика водоем.
Вставши, неумытый, чтоб не тревожить хозяйку, вышел в сад, извлек из футляра свою «колибри» – поговорить с тобой. Рядом Гоппи – ручной журавль, смешно приседая и кланяясь, танцует для меня свой танец. Танцует он его только перед мужчинами, а женщин, даже Галю (может, он журавлиха?), танцем не удостаивает. Летел в журавлином косяке, кто-то подстрелил, упал в садик Козловских, Алексей его выходил, научился и сам курлыкать по-журавлиному. Спал Гоппи обычно в комнате, стоя на одной ноге возле дивана Алексея, спрятав голову под крыло. Когда Алексей окликал его журавлиным гортанным возгласом, из-под крыла раздавался ответ.
Случалось в первые годы (сколько раз видел!) – на журавля нападала тоска по стае. Поднимет клюв к поднебесью, откинув две пряди седых волос, издаст трубный крик… Ни звука в ответ. Ни звука! Наклонит в раздумье голову, в фигуре его совершенно человеческая тоска. Но глаз красный – не человеческий, птичий, и, кажется, лишен всяких чувств.
Сколько лет прошло с тех пор, а журавль все еще жив. Теперь уже можно смело сказать: когда с подбитым крылом рухнул сюда, ему подвезло – попал в человечные руки. Его собратьям, египетским журавлям-красавкам, подвезло меньше: за эти годы журавлиные стаи так поредели от выстрелов, что красавки угодили в Красную книгу.
Нынче страстью Гоппи сделался телевизор: едва Галя включает его, прибегает из садика в дом, стоит на одной ноге, глядит не отрываясь. Всех потряс Гоппи в годовщину смерти Алексея: собрались в доме друзья, кто-то принес и включил магнитофонную запись говорящего Алексея. Что сделалось с журавлем! Кинулся по всем углам искать хозяина, тыкаясь всюду головой, призывно крича и жалуясь… Пришлось выключить магнитофон, но журавль долго не успокаивался. Кто мог ждать такое от птицы?
Все краски жизни
Хочется рассказать тебе побольше об Алексее… Невысокий, плотный, стремительно поворачивавшийся к собеседнику, поблескивавший глазами, всегда взметенный, шуткой отвечавший на шутку. Удивительная память! Цитировал наизусть целыми страницами Гоголя и Толстого, Пушкина и Пастернака. Знал великих композиторов прошлого, будто близких друзей.
Бывало, спросишь: «Как написал Шопен такой-то этюд? Когда и при каких обстоятельствах Лист создал такую-то вещь?» Расскажет так, что возникнет живая картина: где и когда написано, среди какой природы, среди каких людей, в каком драматическом повороте жизни, какие вокруг были разговоры, восклицания, отзвуки… Не ответ, а целая историческая новелла!
Удивительно ли, что люди влюблялись в Алексея. Анна Ахматова посвятила ему несколько стихотворений и часто заглядывала в гости, когда жила в Ташкенте, а уехав, писала письма из Ленинграда. Приехал на гастроли, вернувшись из заграницы на родину, Вертинский, побывал у него и писал до самой смерти письма.
Шутки и затеи без конца! Отправился как-то Алексей в Бухару, впервые в жизни. Сговорясь с Галей, уезжая, оставил ей семь писем. На конвертах числа: распечатать тогда-то… Каждый вечер собирались у Гали друзья Алексея, среди них композитор С. Н. Василенко. Галя распечатывала «свеженькое, прямо с почты» письмо и читала вслух. Описывалась Бухара, что ожидал увидеть, в чем обманулся, какие неожиданные подарки подбрасывала ему в поездке судьба, рассказывал веселые дорожные случаи… Письма выслушивались с живейшим вниманием, обсуждались. Вернулся Алексей через неделю, все собрались, и когда смолк одобрительный хор голосов по поводу писем, Алексей признался в розыгрыше и рассказал о подлинной поездке.
За шутливостью Алексея, за пустячной болтовней ни о чем угадывалось нежное сердце, которое стыдилось быть напоказ. Ведь именно, чтобы не быть напоказ, – буйство шуток и нескончаемая изобретательность в совершенно детских проделках. И это издавна… Еще Константин Сергеевич Станиславский называл Алексея «стрункой» театра.
Нет, ты послушай! В тридцать первом году Алексей кончил Московскую консерваторию по классу Н. Я. Мясковского. Станиславский попросил рекомендовать ему способного молодого дирижера «без рутины». Рекомендовали Алексея: музыку писал с шести лет, «Героическая увертюра», исполненная при выпуске из консерватории, пленила всех свежестью. Когда Алексей вышел первый раз за пульт, Константин Сергеевич сказал:
– У вас некоторая скованность в руках. Но я вам сейчас ее развяжу. Выходя на сцену, поправляйте себе запонку.
С тех пор этот жест на всю жизнь.
Блестящий взлет музыканта. Дирижер у Станиславского. И успех первых собственных сочинений. На беду! Приехал с гастролями из США Вильямсон – главный дирижер «Вестминстерского хора», попросил показать партитуры хоров советских композиторов. Из сотен хоров выбрал «Сюиту для хора а капелла» Козловского, увез исполнять в Америке. Потом по просьбе Вильямсона Алексей отослал ему второй хор.
Вскоре Козловский переселился в Ташкент. Галя уехала с ним. В том же тридцать шестом году ему переслали письмо Вильямсона: писал, что показал хоры Алексея Леопольду Стоковскому (ни много ни мало). «Они очень понравились ему. И он сказал, что в следующем сезоне исполнит любое ваше произведение».
Была у Алексея черта, которая помогла ему себя сохранить. Председатель одного из иссык-кульских колхозов как-то при мне сказал: «Надо любить все краски, а не говорить: «Выношу один только черный цвет!» Уж если кто любил все краски – так это Алексей! И краски, колорит. С увлечением окунулся он в пиршество Дебюсси, он в особенности ценил в музыке именно краски, колорит. С увлечением окунался он в пиршество красок узбекского народного мелоса.
Когда Николай Каразин впервые услышал узбекскую песню, он решил, что оплакивают покойника. Теперь, если не считать безнадежно тугоухих людей, трудно найти в Средней Азии русского или узбека, которые не отыскали бы в музыке друг друга красот, способных глубоко растрогать человека, вдохновить и зажечь стремлением к великому. Две совсем разные и (это было убеждением многих) неслиянные музыкальные культуры встретились, оплодотворив друг друга. Больше других для этого сделал Козловский: вот почему очень скоро после приезда в Ташкент он стал народным артистом Узбекской ССР, а потом и профессором Ташкентской консерватории.
После войны Алексею не раз предлагали кафедры композиции и инструментовки и в Московской и в Ленинградской консерваториях. Он остался верен Средней Азии – ее природе, ее музыке. Очень люблю его «Танавар» – симфоническую поэму, родившуюся из старинной женской песни о невозможности исполнения мечты, но как написанную Алексеем! По завораживающему ритму единственной и в то же время никогда не повторяющейся, волшебной темы, во всей мировой музыке, мне кажется, есть только один аналог – «Болеро» Равеля.
Люблю симфоническую поэму «Лола», рожденную весенним праздником, приуроченным к цветению диких тюльпанов. По богатству, трепетности и чистоте красок ее могу сравнить разве лишь с «Морем» Дебюсси. Люблю возникшую на скрещении древних среднеазиатских макомов и современного симфонизма поэму «По прочтении Айни». Люблю оперу «Улугбек»… Да мало ли что еще!
Когда Джавахарлал Неру приехал в Ташкент, на концерте была исполнена в его честь «Индийская поэма» Козловского. Надо тебе сказать, что в Индии, как и почти всюду на зарубежном Востоке, между народной музыкой и европейской до сих пор пропасть: за три века владычества англичане не сумели перебросить через нее мост. Неру был так взволнован, услышав в европейском оркестре родную музыку, не потерявшую национального колорита, приобретшую совершенно новые краски, оставаясь в то же время глубоко индийской, что тут же на концерте попросил подарить ему «манускрипт с нотами». Целую ночь Алексей с тремя музыкантами переписывал партитуру. В четыре тридцать утра под окнами зарокотала машина: приехали из мастерской «примерять» папку к нотам. И Неру увез подарок домой,
О дирижерском искусстве Алексея при жизни его ходили легенды. Симфонии Скрябина никто не умел исполнять, как он. Хорошо помню эти концерты! Каждый раз волнение, будто первый дебют. «Где черный носок? Где белый платок?» – все летало по комнате, вещи оживали, прятались в самых немыслимых местах, их надо было разыскивать, и когда машина, наконец, увозила Алексея, чудилось – по комнатам прошлась буря: все перевернуто, ничего не найти.
Однажды Алексей сыграл при мне Баха и Генделя, рассадив оркестр, как во времена Баха: дирижер лицом к публике. Это был единственный в своем роде концерт. Отзвуки слышал спустя несколько месяцев в Москве. Когда дирижер стоит в глубине сцены лицом к публике, каждый жест его, обращенный к оркестру, раскрывает музыку с невероятной выпуклостью. Как ты понимаешь, при этом нужно, чтоб был дирижерище!
Главными распространителями легенд о гениальном дирижере Козловском, живущем где-то за горами, за долами, были пианисты и скрипачи, приезжавшие с концертами. И о композиторском даровании его тоже ходили легенды – потому что, кроме музыкантов, мало кто знал его музыку. Личная, почти детская незащищенность художника, инстинктивно сторонящегося обид и уколов, которые закрывают доступ в сердце самым тонким, самым глубоким и трепетным ощущениям жизни, какие одни только и дают жизнь истинному искусству, – вот причина того, что он и пальцем не ударил, чтобы как-нибудь «пристроить» свое произведение.
И вот он умер, клавиры его сочинений и пластинки с записями музыки расходятся все большими тиражами, и к его домику ширится паломничество со всего света.
«Обыденное становится интересным в столкновении с трагическим и смешным»: могу приводить тебе без конца многие тонкие наблюдения Алексея об искусстве. Но больше всего обязан ему тем, что он ввел меня в понимание симфонизма и его возможностей.
Ты, конечно, замечала не раз, что в наши дни поиски путей в самых разных жанрах искусства все больше тяготеют к симфонизму. Но задумывалась ли над этим? В симфоническом построении решающее значение приобретает умение стремительно перейти от одной темы к другой, умение остро стыкать темы, открывая в их столкновениях глубину жизни, умение, разрывая путы сложившихся жанров, смело скрещивать их и, казалось бы, несоединимое соединять…
Не договорил, как-нибудь в другой раз. Раздался голос Гали из дома: «Витя! Где ты?» Пойду попивать «фирменный» чаек дома Козловских и за дружескою беседой коротать утро.
10 апреля. Вечер. Ташкент
За чайком, за разговорами Галя спросила меня, какими судьбами впервые попал я в Ташкент. Стал рассказывать, и, как всегда при воспоминаниях, к горлу подступало волнение, но такого, как сегодня, признаться, не ожидал. Вернулся нынче к истокам моего бродяжничества – к годам, когда вместо дома, вместо койки, был у меня ночлег на камнях и соломе в темных – совершенно темных, без света – подвалах Павловского здания, известного еще в дореволюционной Одессе «здания дешевых квартир». Мне не терпится поделиться этим с тобой. Придется начинать с того, «Как очутился в Одессе»: иначе не расскажешь!
Одесса! Одесса!.
Никогда не знаешь заранее, где получишь урок, который для тебя на всю жизнь. В школе, в вузе проходишь десятки дисциплин, а потом оказывается, они просеялись сквозь тебя, как сквозь сито, осталось только «высшее образование». А какой-нибудь случайный толчок… Таким толчком, потрясшим меня и в конечном счете определившим жизнь, был день, когда осенью 1914 года с борта прибывшего из Варны парохода «Королева Ольга» впервые ступил в Одессе на русскую землю.
В Швейцарии, где родился, у меня было два языка: язык быта – французский, на нем болтали все на улицах, в садах и лавчонках, и язык нашей семьи – таинственный, русский. На нем можно было разговаривать с лохматыми сенбернарами, развозившими молоко в тележках. А еще лучше было в Шаи – торговом центре Лозанны, задрав голову вверх, приветствовать двух кукол-старичков (на нем шляпа с перышком!): показывались из крошечного домика-барометра, предвещая хорошую погоду, и скрывались в домике перед дождем. Ну разве обратили бы они внимание на мальчишку, который умеет говорить только на обыденном французском?
А тут сошли в Одессе, все говорят по-русски – на колдовском языке, принадлежащем лично мне, придуманном родителями для меня! Скоро и для меня русский стал языком быта, но колдовской налет на нем остался, а потом, когда вырос, превратился и в настоящее колдовство. Не перестаю удивляться, все на свете можно выразить с помощью этого колдовства!
Впервые на русской земле! Был слишком мал, чтобы понимать, какая это драматичная была минута в жизни нашей семьи: узнал об этом позже. Видишь ли, маму в 1906 году арестовали в Воронеже за революционную деятельность. Удалось сделать так, что до суда ее под залог отпустили на поруки, она перешла на нелегальное положение и с чужим паспортом эмигрировала в Швейцарию. Вслед за нею туда приехал отец – народоволец, профессиональный революционер (краткая его биография – в библиографическом словаре революционных деятелей в разделе «восьмидесятники»). Вот меня и угораздило родиться в Женеве!
Началась первая мировая война. Русские революционеры-эмигранты, предчувствуя революционные события, потянулись на родину. Мама успела получить в Цюрихе медицинское образование. Семь лет разлуки с Россией немало: авось за это время ее дело передали в архив и позабыли о нем! А ежели нет, что ж: скорей отсидеть срок, чтоб вернуться к жизни, к революционной борьбе.
Когда в Одессе сходили с парохода, маму полицейские не заметили, пронесло, но потом докопались, нашли, судить перевезли в Киев. Отец подкинул меня к одесским теткам. Младшая, тетя Богуся, неизменно ходила в длинном черном платье с черным же кружевным воротничком, ее столик украшали миниатюрный портрет Тадеуша Костюшко и католическое распятье. Она ревностно взялась за мое воспитание, водила в костел, огорчалась, что вместо того, чтобы страстно интересоваться молитвенником, пялил глаза на ее сумочку из разноцветного бисера – очень нравилась мне! – или же глядел да глядел сквозь сомкнутые пальцы на солнце; пробовала приобщить меня к польскому языку и, вероятно, преуспела бы в этом, если бы не пришел день суда над мамой. Ее приговорили к четырем годам тюрьмы, и мы с отцом перебрались «к ней» в Киев.
Обосновались вдвоем на Крещатике, на верхотурке, в комнате, куда шли мимо чердачных клетей. Из комнаты был выход на открытую плоскую площадку на крыше, где мог бегать, прыгать и оставаться наедине с небом (кстати, этот дом наискосок от Бессарабского рынка пережил гитлеровский разгром Киева и стоит по сей день). По четвергам у нас с отцом были свидания с мамой в Лукьяновской тюрьме: разговаривали через решетку, рядом стоял, слушал жандарм. Мама радовалась, что сидит в одиночной камере: каждый день ее засчитывали за два, это значило, что она сможет обнять меня и расцеловать не через четыре года, а через два – какое счастье!
О жизни моей между двумя Одессами как-нибудь тебе в другой раз. Здесь только скажу, что в качестве школьно-санитарного врача маму в 1920 году бросили на борьбу с сыпным тифом, она многих вылечила, сама заразилась и умерла в Сураже – городке между Брянском и Гомелем. Я вернулся с отцом в Одессу в разгар гражданской войны.
Не помню, рассказывал ли тебе, как мы поселились в Павловском здании (на третьем этаже жила офицерская семья, снимавшая квартиру у домохозяина, сдавшая, в свою очередь, одну комнату нам), как очень скоро вслед за этим мой отец погиб, как вместе с товарищами-ребятишками хоронили его на христианском кладбище, собрав в складчину достаточно монеток, чтобы записать отца в кладбищенскую книгу, как после похорон вернулся домой, но жена офицера меня не впустила в квартиру: «Пусть кто старший за вещами придет!» Тетя Тося к тому времени умерла, тетя Богуся переехала жить в Варшаву, в Одессе оставался только двоюродный брат отца, с которым отец не был близок, – дядя Шура: Александр Грабовский.
Старый холостяк, жил он вдвоем с ручным, сказочной красоты попугаем, причудливые кресла и пуфы, затейливые этажерки с книгами, граммофон с розовой рифленой трубкой, расшитые зелеными лилиями портьеры, на всем – слой пыли… Был дядя Шура литератором, какие писал книги и печатали ли, не знаю, маловат был, не интересовался.
Пришел со мной дядя Шура в Павловское, сложил в чемодан наши вещички, у себя дома в них разобрался, завернул метрики и свидетельство о крещении в детские мои штаны и рубахи, связал все в узелок, вручил мне. Две «драгоценности» (как тогда мне казалось) – отцовские серебряные часы и стереоскоп с бархатными надглазниками и набором картинок, спрятал в ящик письменного стола:
– Когда вырастешь, получишь. А теперь иди!
И я вышел на улицу. Куда идти? Вернулся во двор Павловского здания: старинные четырехэтажные, распространившиеся на целый квартал, корпуса, связанные решетками наружных палисадников. Знал кое-кого из беспризорников, ночевавших в его нежилых подвалах, из которых можно было проникнуть в Одесские катакомбы – уже тогда полузасыпанные: далеко пробраться по ним даже мы не могли. Водворился в подвалах. Ну и…
Мы, орава голодных мальчишек, опрокинем, бывало, лоток, схватим по пирожку и врассыпную! Вслед за нами вопли торговок, проклятия! Это для пропитания. А для развлечения карусель: бежим внутри под пологом, пахнущим гнилыми тряпками, толкаем обеими руками тяжелые, неотесанные спицы-бревна, по нашим рубахам текут солнечные пятна, просеивающиеся сквозь дырочки в полотне. Сигнал остановки – прыгаем животами на бревна, катаемся, карусель быстро сбавляет ход. Пять полных конов, за это один раз бесплатно ездишь верхом на расписном скакуне.
Вечерами слонялись по Дерибасовской, по Ланжеронской… Сквозь горящие витрины заглядывали в кафе Фанкони. Знаменитое! Артистическое! Теперь знаю: созвездие имен связано с ним! Бунин и Саша Черный, Вера Холодная и Яша Хейфиц… Но к чему перечень? Взялся рассказывать о себе: так вот даже я, одесский беспризорник, «столовался» в кафе Фанкони.
Не шучу, было так: когда части Красной Армии заняли Одессу, в кафе Фанкони стали днем два раза в неделю бесплатно кормить детей, при входе выдавали алюминиевые ложки, ставили перед нами горы нарезанных ломтей хлеба и ведра с борщом. Ели наперегонки: кто успеет проглотить больше, тот больше и съест. Вот откуда привычка, над которой ты подтруниваешь, есть стремглав.
Бывал и потом в Одессе не раз. Ю. В. Тарич, известный режиссер эпохи немого кино, снимал там мой первый фильм «Небеса». Кажется, это был и первый его звуковой фильм.
Что поражает приезжающего в Одессу – даже самое фантастическое там сразу становится бытом. Первым это понял Бабель, точнее поднял, на земле валялось – и превратил в эстетический принцип. Художественные открытия нередко валяются на земле. Большинство людей проходит мимо, не замечая либо не давая себе труда наклониться, чтобы поднять. Вот, к примеру, мне рассказал один художник-одессит историю, случившуюся на его глазах. Было это на знаменитой одесской лестнице, спускающейся широкими уступами к морю в центре Приморского бульвара.








