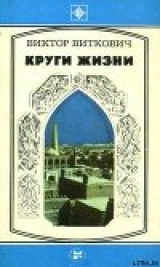
Текст книги "Круги жизни"
Автор книги: Виктор Виткович
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)
Правда светлее солнца
… Великая Отечественная. Группа узбекских писателей и актеров поехала с подарками узбекского народа на фронт. На передовой дали праздничный концерт: выступали на импровизированной сцене – у пятитонного грузовика откинуты борта, грузовик задрапирован, сверху накрыт ковром. Поэты читали стихи, актеры плясали и пели. А в первом ряду сидел командир и чему-то все время усмехался.
После концерта поэт Гафур Гулям» подошел и спросил:
– Что вас смешило?
Командир возьми да откинь драпировку с грузовика. Оказалось, стенки подперты ящиками с минами., Плясали на минах! Актерам стало не по себе, а командир протянул им мелок:
– Распишитесь на минах. От вашего имени пошлем в подарок фашистам!
Дрожали, но расписывались.
В тот же Первомай Гафур Гулям беседовал с пленным гитлеровским офицером. Вот запись, сделанная мною тогда же, по свежему следу:
Гафур Гулям. Что заставило вас поднять против нас оружие?
Офицер. Меня мобилизовали и отправили на фронт.
Г. Гулям. А как далеко вы думали пройти в глубь нашей страны?
Офицер. До тех пор, пока командование не приказало бы нам остановиться.
Г. Гулям. Вот я узбек. Вы знаете такую республику, такую страну – Узбекистан?
Офицер. Нет, не слыхал.
Г. Гулям. Ну а Туркестан? Про Туркестан… про такую страну вы слыхали?
Офицер. Это где турки живут?
Г. Гулям. Нет, зачем же турки… Гораздо восточнее…
Офицер. Нет, не слыхал.
Г. Гулям. Ну хорошо, а про Баку вы слыхали, знаете?
Офицер. Знаю.
Г. Гулям. И про Индию знаете?
Офицер. Знаю.
Г. Гулям. Как вы думаете – между Баку и Индией есть какое-нибудь пространство?
Офицер. Вероятно, есть.
Г. Гулям. Ну вот, как раз на этом пространстве и находится Узбекистан – республика, в которой я родился и вырос. Что же, вы думали захватить и нашу республику, добраться до нас?
Офицер. Если бы приказало командование.
Г. Гулям. А что бы вы тогда сделали с нами, с нашими семьями?
Офицер. То, что приказало бы командование.
Г. Гулям (раздражаясь). Вот вы завоевали Бельгию, Голландию, другие страны: скажите, вам оттуда присылают по восемьдесят вагонов подарков, как вот мы привезли на фронт своим солдатам?
Офицер. Если бы приказало командование, привезли бы.
Г. Гулям (вконец раздраженный). И с такими ослами они надеются выиграть войну! (Плюнул и ушел.)
И отступлю еще на двадцать с лишним лет назад. Мне попалось как-то в архивах старое заявление, его энергия и поэзия пленили меня:
1 мая 1919 От кр-ца 251 этапа
РСФСР Тита Семочкина
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, кр-ц просился у своего комиссара добровольцем на туркестанский фронт. Но комиссар меня не отпустил.
И я к вам обращаюсь, рабоче-крестьянская инспекция, что можно или нет идти добровольцем. Я на фронте знаю, за что погибну – за свободную грамоту всех народов. А здесь в этапе погибаю от одних вшей и скуки. А на фронте, на туркестанском, степей раздолье, весело будет идти против жужжанья пуль. Вся моя отрада – винтовка и граната. И буду и буду биться до тех пор, пока расплавится моя винтовка или свалится головка.
Кр-ц Семочкин Тит.
И надпись на письме, сложенном треугольником: «Прошу товарища почтальона, как родного брата, передать в рабоче-крестьяскую инспекцию».
Романтическое было время. На первомайских демонстрациях в Ташкенте в начале двадцатых годов на транспарантах, что несли над головами, можно было прочесть: «У мастера в руках и снег горит!», или «Правда светлее солнца»: кто что придумает, то и писали. Советские воины, безвестные Титы Семочкины, с первого дня революции знали, за что сражались: на туркестанском фронте «за свободную грамоту всех народов».
В праздник хочется, чтобы не омрачало ничто. И все же тень омраченности коснулась меня в тот миг, когда над городом понеслись праздничные самолеты. Вспомнил одну из самых грустных историй, свидетелем которой был здесь.
Тень птицы
В юности, бывало, ходил на охоту. Не раз доводилось видеть: выстрелишь в летящего селезня, и он, если ранен смертельно, вдруг начинает стремительный взлет вверх и уже оттуда, с высоты, камнем падает вниз. Что-то похожее произошло в Ташкенте с человеком, летчиком гражданского флота. Фамилию не стану называть, назову первой пришедшей на ум – Ваничкиным.
Дело было среди дня, я вышел из киностудии на Шейхантауре. На улице Навои было изрядно милиционеров: напротив, на стадионе «Пахтакор» шел интересный футбольный матч. Только сделал три шага, как над головой, задевая колесами макушки тополей, срывая с них ветки и листья, бреющим полетом пронесся самолет, показавшийся мне гигантским.
Не успел сообразить что к чему, как опять его увидел. Вдалеке из-за крыш самолет (теперь было ясно видно – двухмоторный) круто взлетел вверх, поднимаясь все выше, и потом сверху, с огромной высоты пикирующим полетом… вниз!
Улица, ахнув, замерла. Все, задрав головы, остановились.
Самолет исчез за деревьями. Закрыл глаза, ожидая эха далекого взрыва, а когда глянул, опять его увидел: он взлетал ввысь. Успокоился, решив – учение особого рода – и сел в подъехавшее такси…
Спустя некоторое время мне рассказали об этом полете, все оказалось и обыденней и трагичней, чем предполагал.
Жил в Ташкенте летчик Ваничкин – ас Отечественной войны, грудь в орденах! Пришла победа, стал служить в гражданском флоте: один из лучших пилотов, исполнительный, дисциплинированный, летал на международных линиях, последние годы на трассе Ташкент – Кабул.
Время идет, человек стареет. Настал день, когда Ваничкина вызвали в управление и сказали: увольняем на пенсию. Был в отчаянии: чувствовал себя в расцвете физических сил, летать бы и летать! Трудно человеку, привыкшему летать, внезапно остаться без крыльев.
Напрасно ходил по начальству, ссылаясь на заслуги. Мягко улыбались и разводили руками: «Возраст!.. На том аудиенции и оканчивались. Что было хуже всего, в управлении не нашлось никого, кто поговорил бы сердечно, обласкал, подумал бы о состоянии человека, смягчил бы удар, уж если он был необходим. Ожесточение и обида завладели Ваничкиным. В припадке отчаяния выпил, пришел на аэродром, где все знали его. Тут-то им и овладела хоть и пьяная, но пронзительная по ясности мысль: дай-ка покажу, на что гожусь! Как раз час обеденного перерыва! Все ушли в столовку! Ваничкин пробрался в кабину своего самолета, самолет был заправлен. Обедавшие в столовке увидели: Ил-14, рокоча, выруливает на взлетную дорожку. Прежде чем успели опомниться, Ваничкин разбежался, оторвался от земли и взмыл в небеса.
«Списали? Кончился? Не гожусь? Так нате вам! Пусть весь Ташкент посмотрит! Увидит!» И началось неслыханное. Огромный Ил-14, сделав круг, плавно опустился и бреющим полетом понесся вдоль главных улиц над самыми крышами (тут-то я его и увидел), потом взлетел в поднебесье, оттуда спикировал… Понимаешь? Ил-14, обычный транспортный самолет, на котором никто никогда не мог и подумать войти в пике! – спикировал на стадион «Пахтакор».
Когда самолет стал «падать», на стадионе возникла короткая паника, игра прервалась, зрители повскакали с мест, готовые ринуться врассыпную. Самолет, не коснувшись поля, выправился и взлетел, ветром сбросив с голов несколько соломенных шляп, покатившихся через ряды: вновь набрал высоту и стал пикировать – на этот раз на ташкентскую Красную площадь перед домом правительства.
Потом на суде Ваничкин говорил: хотел сесть на Красную площадь, было бы верхом летного мастерства, по подумал – с площади самолет нельзя будет поднять, придется разбирать, везти по частям, этой неприятности доставлять не хотел. Опять взмыл…
Тем временем на аэродроме и в городе рос переполох. Сразу поняли: Ваничкин. Стали по радио увещевать, не отвечает. Тогда сгоняли на мотоцикле за женой. Жена начала по радио умолять:
– Васенька! Милый! Садись!
То ли внял просьбам жены – сердце не камень, то ли уже выдохся: сел…
Уже 2 мая
P. S. Почти тысячу лет назад Ибн-Хазм советовал: «Успокаивайте душу кое-чем из пустяков, чтобы было это ей помощником в истине». Не хочется кончать праздничное письмо на грустной ноте – вот тебе в заключение сценка вполне акварельная.
Бабочка в трамвае
Это уже сегодня, на второй день праздника. Ехал от Гали на 10-м трамвае. Только что кончилась какая-то ссора, хвост перепалки застал, но из-за чего сыр-бор – не разобрался. В окно трамвая влетела белая бабочка, что-то вроде нашей капустницы, и, цепляясь за шляпы, газовые шарфики и косы узбекских девушек, запорхала вдоль вагона. И все подобрели, заулыбались. Бабочка вернула всем праздник. Как немного надо, чтобы вернуть человеку хорошее настроение! Если бы люди об этом думали чаще!
2 мая. Вечер
Почти нигде не был сегодня. Прошелся лишь по Учительской, на этой улице жил в Ташкенте в первый год войны. Нелепая вышла прогулка: ни один знакомый порог не решился переступить – кто-нибудь да умер, столько лет утекло! – разговорами о смертях не хотелось омрачать сегодняшнего дня. Не хотелось устилать этот день и вежливыми принужденностями. Ни с кем не хочется мне сейчас разговаривать, кроме тебя. И все же прогулка всего меня всколыхнула, воспоминания стали разворачивать свой свиток…
Вот дом, где жил я! Хотя жил, собственно, – не в доме, а в четырехметровой парадной. Гляжу, парадная моя заделана, вместо двери окно: наверно, ходят кругом через калитку… За забором цветет сирень. Возле дома какой-то брюнет копается в «Волге». Может, сын моей бывшей квартирохозяйки?
Жил… Ходил отсюда пешком через весь город на киностудию, где Я. А. Протазанов снимал нашего «Насреддина в Бухаре». А по вечерам, когда опускалась прохлада, спешил к конфетной фабрике «Уртак». Там, возле проходной, был установлен репродуктор. Вокруг собирались жители окрестных кварталов послушать сводку Совинформбюро о положении на фронтах.
У этого репродуктора почти каждый день сходились мы с Зайчиковым, бывшим мейерхольдовским актером, и обсуждали новости.
Два случая с Зайчиковым
В те дни известные всему Союзу артисты, ученые, писатели встречались на Алайском базаре. Месячной нормы продуктов, что выдавали по карточкам, едва хватало на неделю. Затирухой – болтушкой из муки, списанной со старых интендантских складов, пахнувшей затхлостью, не прокормишься, да и та выдавалась по талонам. Вот и выходили на базар продавать свою одежонку. Продавали и драгоценности у кого были, но те шли за бесценок. На вырученное покупали масло и сахар.
Зайчикова все тогда знали в лицо: он сыграл роль комиссара в фильме «Мы из Кронштадта». Фильм имел колоссальный успех, смотрели его по нескольку раз. И вот вышел как-то Зайчиков на Алайский базар продать свои часы, конфузливо извлек из кармана, хотел выложить на ладонь, кто-то рядом сказал:
– Гляди, гляди! Комиссар из Кронштадта…
Неловко прославленному комиссару гражданской войны продавать часы на базаре! Сунул Зайчиков их обратно в карман, походил, походил… Опять вынул, кто-то снова признал в нем комиссара, так и не продал, вернулся ни с чем.
Второй случай окончился по-другому. Было несколькими днями позже. Получил Зайчиков по продовольственной карточке пол-литра водки, понес на базар обменять на хлеб для семьи, вытащил бутылку, и, словно из-под земли, перед ним выросли два фронтовых морячка:
– Товарищ комиссар?! Что это вы…
– Да вот… День рождения у меня, пол-литра купил… – смутился Зайчиков.
– Только пол-литра?! – искренне удивились морячки.
И решили расстараться для знаменитого комиссара. Напрасно отнекивался:
– Я же не комиссар! Я артист!
Это лишь подогрело энтузиазм морячков.
– Мне хватит и пол-литра! Да у меня и денег больше нет! – в отчаянии воскликнул Зайчиков.
– Какие деньги?! – поразились морячки.
Не успел опомниться, как добыли для него двенадцать поллитров. А так как поллитры эти было ему не донести, и он пытался всеми способами увильнуть, морячки вежливенько проводили его до дома, донесли. Вместо хлеба принес двенадцать поллитров: хотел бы посмотреть на лицо его Олечки, когда вошел с этими бутылками в дом!
С Зайчиковым встречались мы и на студии: исполнял в «Насреддине» роль горшечника Нияза. У нашего сценария была судьба вполне в духе Ходжи Насреддина.
«Насреддин в Бухаре»
Неисповедимы судьбы искусства. Центр кинопроизводства перебазировался из Москвы в Ташкент, в глубокий тыл. Уполномоченным министерства кинематографии в Ташкент был назначен М. И. Ромм. Он пришел к министру и сказал: ему необходимо сразу же после приезда выложить на стол перед Юсуповым, секретарем ЦК, два сценария: «Насреддин в Бухаре» и «Навои». Министру пришлось согласиться: так нежданно-негаданно наш сценарий был запущен в производство в первые месяцы войны. Постановку поручили Якову Александровичу Протазанову, который и раньше хотел его ставить.
Я в это время жил в Москве – ждал, когда призовут в армию. Рюкзак сложил еще 22 июня – не призывают и не призывают. Сунулся в ополчение – отослали домой, сказали, брать не имеем права: кадр военкомата, командир запаса, средний комсостав (говоря нынешним языком, старший лейтенант). Звание получил за несколько лет до того в Ленинграде: окончил с группой молодых писателей Всевобуч.
В конце августа отправил семью с эшелоном в Ташкент. Начались бомбежки Москвы с самолетов: дежурю на крышах, устремляюсь сломя голову к зажигательным бомбам, в просторечье «зажигалкам», надо успеть погасить их прежде, чем они, крутясь и шипя, подожгут здание! Вдруг телеграмма из Ташкента – Лене Соловьеву и мне: запущен в производство фильм «Насреддин в Бухаре», просят приехать.
Леня уже призван: служит военным корреспондентом газеты «Красный флот». (Сколько смеху было по этому поводу: надо же было, чтобы мобилизовали во флот именно его, не умевшего плавать, панически боявшегося воды! Переправа через Оку на лодке, в былые дни наших охот, была для него сущим испытанием!)
Я пришел в военкомат с телеграммой, мне сказали: «Езжайте! Там сразу встаньте на учет!» Так очутился в Ташкенте. Началась работа с Протазановым. В комнатке, куда поселили мою семью, негде было поставить столик и стул для работы, вот меня и устроили на Учительской в парадной: дверь, ведущую в дом, забили, его хозяева стали ходить через калитку, а я прямо из парадной два шага – и на улице! Удобно, никого не тревожил, съемки ведь шли и ночью и днем.
Никогда не забуду, как работал Лев Наумович Свердлин! Каждый день – иногда после четырнадцатичасовой съемки – он шагал со мною от Шейхантаура через весь город пешком, хотя мог часть пути ехать на трамвае, шагал, чтобы поработать в пути над завтрашней сценой. Я был нужен ему как живой контрольный прибор. То присаживаясь на скамью, то останавливаясь посреди улицы, на глазах удивленных прохожих он показывал разные варианты сцены, спрашивал, как лучше – так или так? А может быть, эдак? Дойдя до моей парадной на Учительской, простаивал еще добрый час и – только когда был совершенно удовлетворен рисунком сцены – уходил, сияя: он жил на Учительской дальше.
Полным контрастом с этим был стиль работы Якова Александровича Протазанова. Спокойный, скептически улыбающийся, он не позволял себе волноваться, приходил на съемку, помахивая стеком, встречал разговорами на посторонние темы, анекдотом, шуткой. Если сцена на съемке не ладилась или, что еще хуже, вдруг обнаруживался брак пленки и ее приходилось выбрасывать, Яков Александрович мягко улыбался и говорил:
– Чего вы волнуетесь? На монтажном столе все сойдется…
Он был выдающимся мастером монтажа, знал это, и, что бы ни произошло, был спокоен: картина выйдет.
Когда съемки «Насреддина в Бухаре» подходили к концу, в Ташкенте неожиданно появился на несколько дней – во флотском кителе и морской фуражке – Леня Соловьев. Его вместе с другими защитниками Севастополя вывезли на корабле за несколько дней до сдачи города. Путь на Москву с Северного Кавказа был отрезан гитлеровскими армиями, ну и пришлось давать кругаля через Каспий и Среднюю Азию.
Я устроил Леню ночевать в своей парадной. Сидя на ее ступеньках, свесив ноги на тротуар, он рассказывал об обороне Севастополя. Сейчас вспомнил случай, переданный им, незаметный на фоне грандиозной битвы за Севастополь, и все-таки в нем что-то есть, от чего щемит сердце.
Севастопольский комендант
Жил-был майор Старушкин, севастопольский комендант. Был олицетворением города, его живой совестью. Ходил майор Старушкин по Севастополю, сверкавшему белыми домишками на солнце, и город вокруг него всегда был такой же трезвый, подтянутый и аккуратный, как его комендант.
Ворвалась война. Двести пятьдесят дней моряки, артиллеристы и пехотинцы обороняли Севастополь под непрерывным артиллерийским и минометным огнем. Да и самолеты со свастикой утюжили землю бомбовыми ударами. Танковые орды Манштейна плотным кольцом окружили город и, накрывая огнем, превращали Севастополь в руины. Проходили недели, а гитлеровские танки не могли продвинуться ни на метр – такова была стойкость защитников: только нечеловеческим напряжением нервов можно было выдержать стену огня, который день и ночь обрушивался на них.
Чтобы как-то облегчить людям жизнь, предоставить нервам короткий отдых в часы, когда бойцам с переднего края давали увольнительную, им стали отпускать по чарке водки: выпьешь, вроде чуть отляжет от сердца. Но и в те дни стоило среди руин появиться Старушкину, захмелевшие разом трезвели и исчезали с его глаз. Шел майор Старушкин сквозь минометный огонь по осажденному Севастополю, и город вокруг него, как всегда, был подтянут и трезв.
Настал горький день, был отдан приказ оставить Севастополь: фашистские танковые колонны далеко обошли город и ринулись на Северный Кавказ. Прощаясь с Севастополем, моряки плакали, клялись возвратиться с победой. Спустя несколько дней после того, как город был оставлен, Леня вместе с Баковиковым – тоже корреспондентом «Красного флота» и защитником Севастополя – шли в Поти приморским бульваром. Неожиданно увидели Старушкина: шел, слегка покачиваясь, под хмельком. Остановились как вкопанные и прочли в глазах друг у друга: Севастополь сдан! Официального сообщения еще не было. Потом Баковиков схватил Леню за руку, оттащил в кусты и сказал:
– Зачем смущать Старушкина! У него горе! Раз в жизни может же выпить и севастопольский комендант! Будем считать, что мы этого не видали.
… Прогуливаясь по Учительской, весь во власти воспоминаний, остановился перед домом, в котором часто бывал в первый год войны. Его теперь не узнать – неповторимое своеобразие дома исчезло. Исчезла темная деревянная решетка во всю высоту дома, которая ограничивала крошечный палисадник.
В прохладе этого палисадника и в комнатке рядом прожил я восхитительнейшие часы поэзии, дружбы, кофе… Да, да, и кофе! Просто диву даешься, когда вспоминаешь, какой вкусной казалась традиционная чашка ячменного кофе у Александра Сергеевича Кочеткова в тот голодный год.
С любимыми не расставайтесь…
Худощавый, высокий, откинутые назад пепельно-серые волосы… Словно сошел с одного из полотен Дюрера. Характерное для портретов средневековья сочетание: необычайная интеллигентность и в то же время что-то от плотника. Особая розовость щек, в глазах звериная святость. Поразительное умение восхищаться – с непривычки некоторым чудилось в этом преувеличение. Но стоило чуть пообщаться, как чистота его взгляда завораживала и делалось ясно: именно такой, каким кажется. Естественность. Естественность во всем!
Хотя Кочетковым самим трудно жилось в Ташкенте, они оказывали приют еще и другим, нуждавшимся в нем. В первые месяцы войны у них жил сын Марины Цветаевой – жизнерадостный «гимназист», вскоре призванный и погибший на фронте.
Они приютили у себя и В. А. Меркурьеву – старую поэтессу из круга символистов, дружившую с Вячеславом Ивановым, с которым, кстати сказать, был дружен в юности и Кочетков. Меркурьева тяжело болела и умерла зимой 1942/43 года здесь же, в Ташкенте: за ее гробом, под хлопьями мокрого снега и пронизывающим ветром, шли двое – Кочетков и я.
Именно к Кочеткову я привел Леонида Соловьева в первый же вечер, когда тот объявился в Ташкенте. Этот день стал своего рода страницей истории советской поэзии – столько об этом написано. В тот вечер Александр Сергеевич прочел Лене свою, ныне знаменитую, «Балладу о прокуренном вагоне». Кто теперь не знает звучащую как заклинание строку из нее: «С любимыми не расставайтесь!» Хотя стихотворение было написано в тридцать втором году под впечатлением крушения поезда, в дни войны казалось, что оно обращено к людям, сражавшимся с гитлеровскими полчищами.
Леню оно потрясло, по его просьбе Александр Сергеевич прочел балладу второй и третий раз, наконец, продиктовал ее Лене. Наутро Леня уже знал ее наизусть. А вернулся в Москву в «Красный флот» и принялся читать встречным и поперечным – стихотворение начало расходиться в бесчисленных списках не только по морям, но и по фронтам. Хоть опубликовано оно не было, его списывали друг у друга – подчас с голоса, с устного чтения, и оно, бывало, возвращалось, с перепутанными строками, с отсебятиной. Так к Кочеткову пришла известность – единственная, какую ему довелось увидеть при жизни.
Жил он трудно до конца своих дней: скромность, незащищенность и достоинство не позволяли ему участвовать в свалках, какие ведут в издательствах стихотворцы. При жизни ни одна строка его оригинальных стихов не была опубликована, да и теперь напечатано далеко не все. Среди литераторов Кочетков был широко известен только как переводчик, да и то сказать, его переводы – блестящие страницы русской поэзии.
На язык просится стихотворение Хафиза, которое перевел он тут, в Ташкенте, суди сама – какая высота стиха:
Ты, чье сердце – гранит, чьих ушей серебро – колдовское литье,
Унесла ты мой ум, унесла мой покой и терпенье мое,
Шаловливая пери, тюрчанка в атласной кабо,
Ты, чей облик – луна, чье дыханье – порыв, чей язык – лезвиё,
От любовного горя, от страсти любовной к тебе
Вечно я клокочу, как клокочет в котле огневое питьё.
Должен я, что кабо, всю тебя обхватить и обнять,
Должен я хоть на миг стать рубашкой твоей, чтоб вкусить забытьё.
Пусть сгниют мои кости, укрыты холодной землей, —
Вечным жаром любви одолею я смерть, удержу бытиё.
Жизнь и веру мою, жизнь и веру мою унесли —
Грудь и плечи ее, грудь и плечи ее, грудь и плечи ее.
Только в сладких устах, только в сладких устах, о, Хафиз, —
Исцеленье твое, исцеленье твое, исцеленье твое!
Мог бы рассказывать и рассказывать об Александре Сергеевиче, с которым близко общался и дальше в Москве, покинув Ташкент. Да боюсь, не все будет интересно тебе.
Умер он первого мая 1953 года, умер внезапно. За четыре дня перед тем, я зашел мимоходом к нему на Брюсовский переулок, в комнатенку-пенал, в котором, кроме него, жили тяжело болевшая жена Инна Григорьевна и четыре бездомных кота, подобранных на улице.
– Почему-то – почему? Неужто предчувствовал? – он прочел мне вслух двенадцать строк о смерти, давнее стихотворение, которое я отлично знал:
Из вихря, холода и света
Ты создал жизнь мою, Господь!
Но чтобы песнь была пропета,
Ты дал мне страждущую плоть.
И я подъемлю с горьким гневом
Три ноши: жалость, нежность, страсть, —
Чтоб всепрощающим напевом
К твоим ногам порой упасть.
И сердца смертную усталость
Ты мучишь мукой долгих лет, —
Затем, чтоб нежность, страсть и жалость
Вновь стали – холод, вихрь и свет!
На следующий день заболел, оказалось – вирусный грипп. Последние два дня был без сознания, когда очнулся – возле него в больнице дежурила Нина Павловна Збруева, его старый друг. Она выжала ему на кончик языка дольку лимона, он прошептал: «Восхитительно!» Вот возглас, с которым умер поэт, – умер, оставив миру золотую россыпь стихов и поразительные по силе поэмы и драматические новеллы в стихах.
Прошли годы, улеглись страсти; многие наиболее шумливые стихотворцы тех лет уже позабыты, а к стихам Кочеткова с каждым годом ширится интерес.
3 мая. Ташкент
Вчера, возвращаясь с Учительской, прошел по Пушкинской улице мимо дома, в котором живет поэт Абдулла Арипов. Если при имени поэта у тебя тут же не возникают на языке строки его стихов, значит… Настоящий поэт – редкость куда большая, чем мы привыкли думать. Прошел мимо его дома, и уже на кончике языка!
Ты плакала, ты мой ловила взгляд,
Ты так искала этого свиданья,
А я глядел, как небеса горят,
И думал о величье мироздания.
Сегодня я один в своем дому,
Ты далека, я сам все смял и спутал.
Что мирозданье мне, что я ему?
Пришла бы ты ко мне хоть на минуту.
Да ведь это про нас с тобой, это я – тебе. Вот лакмусовая бумажка, безошибочно указывающая – поэт!
Бывают в жизни истории, похожие на притчи. Именно такой житейской историей-притчей в юности Арипова однажды одарила судьба. Было это на моей памяти.








