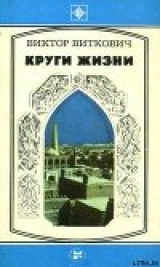
Текст книги "Круги жизни"
Автор книги: Виктор Виткович
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)
Есенин в Баку
«… То не ветер шумит, не туман. Слышишь, как говорит Шаумян: – Джапаридзе, иль я ослеп, посмотри: у рабочих хлеб…» На площади Свободы читал Есенин свою балладу о двадцати шести! «… Нефть – как черная кровь земли. Паровозы кругом… Корабли… И во все корабли, в поезда вбита красная наша звезда». Как свято верили мы, кулаком утирая кровавые слезы, что еще чуть-чуть поднажми – и мировая революция! Мы щеголяли в старых кожанках и кирзовых сапогах, летом в косоворотках, кое-кто в рубахах-ковбойках. А он (приехавший к нам в Баку) ходил в синей парижской шляпе: одна такая шляпа только и была в городе! Ему можно было все! Поэт!
Ему можно было все! Иду по Меркурьевской, гляжу, лежит синяя шляпа тульей вниз на тротуаре, над ней горделиво стоит Сергей Александрович: «Подайте поэту!» Я разинул от удивления рот. Выбегают из редакции «Бакинского рабочего» журналисты, подхватили поэта под руки, подняли с тротуара шляпу и исчезли в подъезде. Я за ними. Оказалось, Чагин не дал Есенину гонорара, ну тот и «сыграл». Понятно, деньги тут же выдали, и синяя шляпа опять на голове, и улыбка во все лицо.
С ним мне довелось встретиться и ближе. Было так… Осень 1924 года, я учусь на общественно-историческом отделении Азербайджанского университета, его готические корпуса с черепичными крышами стоят поныне: в этом здании слышал прощальную лекцию Вячеслава Иванова, перед тем как он уехал в Италию, в этом здании, макая кисть в красную краску, писал и плакат о предстоящем вечере Сергея Есенина… Мы – я и Шурка Полецветов – от имени студенческой литературной группы пригласили Есенина выступить у нас, затея эта не обошлась без трагикомического приключения.
В день его выступления, когда наши объявления заманчиво пестрели в коридорах университета, увидели в городе печатные афиши, извещавшие, что в этот самый день и даже в тот же час в Азербайджанском театре оперы состоится вечер Есенина и Хольцшмита. Сраженные таким надувательством, прибежали в гостиницу «Старая Европа», где жил Есенин. Он только что проснулся и умывался, склонившись над мраморным умывальником, когда мы постучались и вошли; с удивлением воззрился на нас.
– Вы же обещали!.. Мы уже и плакаты развесили!..
Уразумев из сбивчивых слов Шурки, в чем дело, Есенин рассвирепел. Оказалось, Хольцшмит приставал к нему, но Есенин наотрез отказался с ним выступать. И вот (Сергей Александрович только от нас это узнал) Хольцшмит поставил его перед свершившимся фактом: как видно, сговорился с администрацией театра и заказал афиши.
Из слов Есенина мы поняли, что Хольцшмит – минский поэт, по профессии не то цирковой борец, не то боксер, что «лечит женщин стихами», и его образ стал нам отвратителен. Тут отворилась дверь, на пороге – Хольцшмит собственной персоной. Есенин накинулся на него, Хольцшмит слушал, сбычась и иронически щурясь. Это окончательно вывело Есенина из себя, он схватил пустую бутылку и швырнул на пол у ног Хольцшмита, бутылка вдребезги! Хольцшмит по-медвежьи повернулся, вышел и прикрыл за собой дверь с такой силой, что вырвал ручку: вторая медная половинка ее вывалилась внутрь комнаты.
Наступила тишина. Мы сидели на диване ошеломленные. Есенин на нас поглядел, в его светлых глазах сверкнуло веселье, он сказал:
– Вам обещал, у вас и буду выступать!
И действительно, приехал к нам. А в театре был скандал, публике возвращали деньги за билеты. Хольцшмит из города предусмотрительно скрылся.
Читал стихи Есенин прекрасно, без модных в ту пору эффектов. Слышал его еще несколько раз на собраниях литературной группы в редакции газеты «Бакинский рабочий». Закроет глаза, прислонится спиной к дверному косяку и начинает – негромко, нараспев, по-своему, по-особому окрашивая каждый стих. В напряженном месте вдруг открывает глаза, как бы усиливая взглядом смысл самого важного, самого весомого слова, и опять сомкнет веки, уйдет в себя… Впечатление на всю жизнь!..
18 апреля. Андижан
Вертелось, вертелось в памяти да и вспомнилось, как, вышагивая по бакинским улицам, повторял и повторял: «Бобэоби пелись губы… Вээоми пелись взоры…» Хотя в зауми этой за полсотни лет смысла больше не стало, она и сейчас полна очарования. «Пиээо пелись брови… Лиээй пелся облик… Гзи-гзи-гзэо пелась цепь!» От увлечения Есениным до обуянности Хлебниковым я перешел как-то вдруг, перескочив одним махом через пестроту бесчисленных «измов». Слово «будетляне» сделалось моим символом веры, самодельные издания футуристов – книгами сердца, комплект журнала «Леф» – единственным собранием сочинений на моей книжной полке.
Жил сразу несколькими жизнями от избытка сил, от желания все увидеть, все в себя вобрать, все пережить. У меня было (разве в юности знаешь, какое это богатство!) несколько компаний друзей и приятелей, друг с другом вовсе незнакомых.
Вспомнил сегодня себя тогдашнего: не до конца еще выветрился беспризорник, легко находил общий язык с блатными… Хаза у молоканского садика. Разговоры: «Стеша! Водка есть?» – «Будьте любезны, сходите сами, а я сегодня нездорова, потому прошу вас меня не беспокоить». Приносят поллитровки, читаю наизусть «Облако в штанах» Маяковского, слушают с детским азартом, будто не хаза, а районная читальня. Домушник по прозвищу Чахотка не дает своим девкам меня прерывать. Потом пьем водку-сараджевку из граненых стаканов, на столе – ломти хлеба и груды переспелых помидоров.
Все сверх меры! Все через край! В юности жаждешь сильных впечатлений. Выпивка – так с бандитами! Ветер – так норд! Море – так шторм! Закат – так вполнеба! Земля? Дыбом!! «Иду по Арбату и выкрикиваю. Грандиозно! Невероятно! Громадно! Курьезно! Бесплатно! Мама! Не любят меня! Гонят! Поцелуев не дарят! Больно! Прикусила земля лапу. Спросила насмешливо: мама? Где мама? Заорал я в ответ с силой. Мама? Там она – мама! На губах у милой!» Лирика тех лет.
И коли уже речь зашла о стихах, самым интересным с весны двадцать шестого года стал для меня дом (верней, каморка) Саши Бугославского, местного адепта самовитого слова. Хлебников делил людей на приобретателей и изобретателей: будущее только у вторых! Эга мысль тогда завладела мной. Приобретателей (подразумевалось, нэпманов и мещан), естественно, презирал, изобретателей боготворил.
Память о Хлебникове в те годы в Баку еще жила. Впервые услышал там рассказ очевидца, ставший потом достоянием историков литературы о том, как Хлебников отстал от своей воинской части в Иране и, оказавшись среди темного, враждебного населения, спасся. Несмотря на разноязычье, крестьяне-иранцы учуяли, угадали в нем поэта-дервиша, прозвали Гуль-муллой, Священником цветов, и отпустили. Лишь одну краску добавлю (слышал тогда же, но нигде не читал про это): будто стоял Хлебников со связанными руками перед фанатиком-головорезом, стоял, ждал смерти и вдруг запел, обращаясь к журавлям. Один журавль отстал и закружился над ним. Все удивились и сказали – это святой. За Хлебниковым волочились легенды.
Нашей живой легендой был Бугославский. Тоже дервиш, спал в совершенно пустой комнатке на полу, всюду, как у Хлебникова, валялись рукописи, чернильница его кочевала по полу, приходилось быть настороже, чтоб не наступить. За несколько лет до того состоял в сибирской группе футуристов вместе с Асеевым и Чужаком, это создало вокруг него ореол: к нему шли все, кто тянулся к самовитому слову, люди разных возрастов, профессий, взглядов на жизнь. Каждый день он «выдавал» по стихотворению, а в свободное время вырезал ножичком экслибрисы: романтическое воспоминание о рыцарских гербах, укороченное эпохой до мальчишеского развлечения и вместе с детством возведенное в ранг поэзии. Вся поэзия была игрой в слова!
Зарабатывать деньги Саша считал для себя зазорным, царственно принимал все ото всех: разумелось, он поэт, и мы должны о нем заботиться, мы, подразумевалось, живем его заемным светом. Оглядываясь назад, вижу – поэтом он не был, сердце не участвовало в его стихах: холодные версификации! Да и в юности стихи его, признаться, не исторгали у меня возгласов восхищения. Однако какое это имело значение! До настоящих «Лефов» нам было как до Сатурна. Один лишь Бугославский среди нас хоть одним пальцем принадлежал к их великому братству и в то же время оставался для нас Сашей, хоть было ему около сорока; а на вид и того больше: глубокие складки бороздили щеки, придавая лицу сардоническое выражение.
«Многогранник»
Писать стихи и не издавать? «Сами напечатаем!» – решили как-то, сидя у Саши. И вот С. Эрлих (работал выпускающим в типографии газеты «Бакинский рабочий», баловался стишками) взялся раздобыть бумагу в обмен на то, что тиснем и его вирши. А издателя нашел я – Деткомиссию при Баксовете, с тем чтобы всю выручку – в фонд помощи беспризорным детям. Убедить Деткомиссию мне труда не составило: на собственном примере мог показать, что значит помочь беспризорнику.
Витя Горин, студент политехнического института, единственный молодой автор, кроме меня, хоть и постарше, придумал название «Многогранник». С помощью Вити по ночам, держа в руках валик, я прокатал лист за листом весь тираж, пятьсот экземпляров, в нашей университетской стеклографии, где, бывало, подрабатывал, печатая лекции профессоров. В январе двадцать седьмого «Многогранник» появился на книжных прилавках. Первые напечатанные стихи! Не мог наглядеться на книжечку, хотя и своими руками делал.
Веселье через край кончается в детстве слезами. В искусстве и радость сильней, и слезы солоней. В одно прекрасное утро открываю газету «Бакинский рабочий»: фельетон «Лисьи хвосты». А. Яковлев (из дореволюционных газетчиков, стиль отдавал желтизной, однако не лишен был остроумия) разделал в дым «Многогранник».
В юности сердце всецело открыто добру и не заслонено от ударов, как щитом, знанием жизни. От стыда готов был провалиться сквозь землю, всюду мерещились усмешки, даже тумбы для афиш и те поглядывали на меня с явной иронией. Сердце жаждало открытого боя, дуэли! Наивность юности! Идти с открытым забралом! Писем Гоголя в ту пору еще не читал, а если бы и прочел, все равно (для этого надо самому пережить!) не понял бы слов, обращенных к Погодину: «Битву, как ты сам знаешь, нельзя вести шпагой, защитницей чести, против тех, кто вооружен дубинками и дрекольями. Поле должно остаться в руках буянов».
Письмом в редакцию мы вызвали Яковлева на дуэль: потребовали публичного спора, назначили время и место – клуб имени Шмидта. Напрасно прождали, не пришел! «Ага! Испугался? В кусты от открытого спора?!» Недолгим было наше торжество, минул день, в газете – ба-бах! – второй фельетон: «Еще о лисьих хвостах». Смысл: «Мол, вы, молодые люди, возжаждали скандалу, чтобы эдаким путем достичь известности? Не будет вам скандалу! Зря, что ли, в первом фельетоне не назвал ваших имен. И сейчас, не надейтесь, не назову! Не будет вам известности даже и в бакинском масштабе!»
Этот второй фельетон вмиг развеял мои обиды, вызвал лишь смех. Все было так нелепо, так далеко от того, чем на самом деле жил. Жил счастьем все новых открытий. Как раз в те дни попала мне в руки «Сестра моя жизнь» Пастернака, был околдован ее силой и чистотой, ходил, прижав книгу к сердцу. Грязь фельетона уже не могла забрызгать меня. «Аллах с ним!» – сказал и перестал думать о нем.
Задашь вопрос: а «Многогранник» все-таки чего-нибудь стоил? Положа руку на сердце отвечу: «Нет! Никогда, ни до, ни после, не писал столь плохо!» Конечно, эдак отзываться о себе – удовольствие из средних. Уйгуры говорят: «Лягушке неприятно вспоминать, что была головастиком». А ведь мнил себя «изобретателем» в хлебниковском смысле, хотел быть им. «Про что» – на это было начхать, весь погружен был в «как» – в музыку стиха. Ну и… тебе трудно даже представить, какую писал абракадабру! Лишь бы найти свое, быть на других непохожим!
Черная страница
Мне хочется… Нет, не то слово… У меня острая потребность рассказать тебе о памятном старым бакинцам событии, которое потрясло мою жизнь. Никогда им с тобой не делился, вероятно, потому, что это не та страница жизни, какую рассказываешь ради интереса. Слишком личная, что ли, страница, трудная для меня, еще более тяжелая для Вали Савельевой.
Жила Валя в Черном городе – в одном из построенных еще Нобелем для рабочих двухэтажных домов, с наружными пологими лестницами: будто не к людям они, а на склады, чтоб по ним выкатывать бочки. Отец Вали, Николай Алексеевич, мастер-сталевар завода имени Монтина, книги в руки если и брал, так специальные. Мать, поглощенная семьей, до книг совсем не дотрагивалась. А Валя (разве не поразительно?) была едва ли не самой начитанной на нашем курсе в университете. Мне учеба давалась легко, помогал ей заниматься. Однако из литературы она извлекала куда больше, чем я, и открыла мне множество книг.
Вместе посещали литературные вечера. Когда вечер либо семинар затягивался допоздна, провожал ее домой в Черный город, читая ей по дороге под редкими качающимися фонарями стихи. От остановки трамвая шли Кислотным переулком, узким, кривым. Идем рука об руку. Ее надо проводить! Нельзя не проводить! Нельзя позволить идти одной в этот час этим безлюдным путем!
Идем. Остро пахнет нефтью и химией. В безмолвии вечера перекликаются трубы нефтепроводов, по ним перекачивают мазут. Всюду потеки нефти, пропитанная мазутом земля. И если дует норд, фонари качаются как безумные, бросая бледный мечущийся свет на заводские заборы, на проломы в них. Ударяясь о переплетения труб, звенят мелкие камешки, норд несет их вместе с пылью. И под посвисты ветра звучат строки Есенина, Багрицкого, Маяковского: это я, это я ей читаю стихи.
Мало-помалу стал своим в Валиной семье. Ее мать, Анна Иосифовна, стала относиться ко мне как к сыну. Сестры встречали радостными улыбками. Соседи их большого двора кланялись как знакомому. За глаза они величали меня Васиным женихом. И я и Валя относились к этому с юмором, нас связывало высокое слово «дружба». Спросишь: «А как было на самом деле?» (Вижу, вижу твой озорной глаз.) Отвечаю как на духу: была дружба. И пожалуй, да, пожалуй, любовь. Но в ней не было и тени эротики. Была любовь высокая, как дружба. Теперь, много лет спустя, могу рассказывать о себе, как о постороннем. Понимаешь ли…
Бывший беспризорник, я в те годы хорошо знал изнанку жизни, и для меня не существовало обычных в ранней юности тайн, связанных с близостью. Мне было абсолютно ясно, что «это» не имело никакого отношения к словам «дружба», «любовь». Скорее наоборот. Понимаешь теперь, как высока была наша дружба с Валей Савельевой. Или, если хочешь, любовь. Ни тени не омрачало ее. Ничего низменного. Между «этим» и «тем» была стена высотой до небес.
Такую дружбу, теперь-то знаю, людям редко удается сохранить незапятнанной. Дремлющие, светлые и вместе с тем темные силы, глубоко скрытые и Самим до поры неведомые, в конце концов могущественно пробуждаются. И все летит кувырком. Быть может, и я не был бы исключением, и у меня случилось бы так. Но в жизнь ворвалось несчастье.
Был литературный вечер, затянувшийся допоздна. После него провожал Валю в Черный город. Поехали на последнем трамвае. От остановки, как обычно, шли Кислотным до дома. А назавтра выяснилось, что в этот самый вечер исчезла ее старшая сестра Галя. Ее тоже провожали, но только до трамвая. Было это примерно за полчаса до того, как мы с Валей сели в трамвай.
Представляешь, какое волнение охватило всех. Заявили в милицию. Милиция милицией, а я решил сам не терять ни минуты, искать Галю. Помочь мне в поисках вызвался Юсуф Касимов, помощник управляющего Черногорской группы заводов. Его предложение никого не удивило: жил в том же дворе, мало того, на том же этаже – по этажу вокруг внутреннего двора шла общая деревянная терраса, куда выходили квартиры рабочих. Женат Касимов был на русской. Случалось, жена пришлет его к Савельевым за стаканом муки, за молотком, за отростком фикуса. А то и в гости на огонек заглянут вдвоем. Словом, отношения были добрососедскими.
Двое суток без всякого результата ездили и ходили мы с ним по Черному городу, даже по заводским дворам, благо по должности его всюду пускали. А на третий ребятишки из «нобелевского» поселка, играя в проломах Кислотного переулка, нашли окровавленный Галин платочек. А потом и Галю. Ее тело было запрятано в пещере, в стене завода бывшего Каспийского товарищества.
Следствие быстро восстановило, что произошло. За полчаса до нас с Валей вдоль каменных заборов Кислотного шла Галя. Ее подстерегли, затащили в пролом на заводской двор и стянули руки ее же зеленым ремешком.
Что говорить о матери, отце, сестрах – весь рабочий Баку был взбудоражен. Галя выросла на глазах Черного города, рабочие знали ее школьницей. Похороны превратились в манифестацию. Через заводские районы шла многотысячная похоронная процессия, шел весь рабочий Баку. Разумеется, я был с Валей и матерью: нуждались в поддержке. На кладбище среди толпы увидел на мгновение и Юсуфа Касимова. Но не придал значения… сосед!
Настали трудные дни. Анна Иосифовна была в тяжелом состоянии. Не спала ночами, и Валя с нею не смыкала глаз. Единственный, кому она могла доверить мать, был я. Отцу надо выспаться – идти в свой сталелитейный. Младшая сестренка Зойка – еще девчонка-школьница, ветер в голове. И я на время переселился к ним, чтобы дать возможность Вале хоть изредка как-то передохнуть. Каждый день приносил матери новые муки. С жадностью расспрашивала она следователей. Они зачастили в дом. Сбегались соседи. Их не впускали. Следователь уходил. И все обступали семью с расспросами. Это усиливало, нагнетало остроту горя.
Арестовали двух ночных сторожей завода. Они признались в преступлении. И назвали третьего, который подбил их, – главного насильника и убийцу. Им оказался Юсуф Касимов – сосед, который вместе со мной искал Галю. Как гром было это признание. Мать тотчас вспомнила: незадолго до того Галя жаловалась, что Касимов к ней приставал. Когда бакинцы узнали о главном виновнике, негодование стало всеобщим. Газеты печатали коллективное письма рабочих, все требовали «высшей меры социальной защиты». (Термина «высшая мера наказания» еще не было.)
Показательный суд начался в кинотеатре «Ампир», но желающих попасть оказалось столько, что перенесли его в здание Азербайджанского театра оперы.
Всех троих приговорили к расстрелу. Любой другой приговор казался мягким, слишком бурлил рабочий Баку. Ощути, с какой остротой все переживалось в семье. Время не лечило ран, наоборот, с каждым днем сильней растравляло. Анна Иосифовна была на грани самоубийства. Надо было все время сидеть возле, не спуская с нее глаз. Много дней минуло, прежде чем мы с Валей смогли оставить ее и пойти на лекции в университет.
Валя навсегда сделалась мне родной – родною сестрой. Судьба сдружила ее позже с маленьким северным народом – нивхами, она стала специалистом по их языку: начала с букваря для нивхских ребятишек, а кончила тем, что составила первый русско-нивхский словарь, изданный «Советской энциклопедией». Горжусь своей сестрой.
Чуть-чуть о Маяковском
В Баку, в музее Низами, полном древних рукописей и миниатюр, в предпоследнем зале – не помню, рассказывал ли тебе – висит большое фото: Маяковский среди азербайджанских писателей. В центре группы, рядом с Владимиром Владимировичем, сидит молодой Сулейман Рустам, на шее длинное шелковое кашне – предмет былой моей зависти, галстук бабочкой. А позади Сулеймана Рустама стою я, мальчишка в ковбойке и кепке, гляжу на мир божий, явно ожидая чудес.
Дело было так. Кому-то после выступления Владимира Владимировича с азербайджанскими писателями в Доме работников просвещения загорелось сфотографироваться с Маяковским. Владимир Владимирович повел с собой сниматься и меня. По пути в фотографию Маяковский дурачился, ткнул пальцем в тигра, оскалившего пасть на цирковом плакате: «Не завидую зубному врачу, если этот господинчик придет к нему рвать зубы!» Смеялись, не потому что показалось бог весть как смешно: просто было весело, хотелось смеяться. И вот уже даже эдакие пустяки – история.
Мне всегда казались смешными заупокойные воспоминания о знаменитостях: о всяких пустяках, вроде того, что Маяковский не брался за дверные ручки, а пропускал кого-нибудь открыть дверь (и домыслы: «Боялся заразы?»). Было такое? Было! Но что добавляет к облику поэта и гражданина?
Знал Маяковского недолго, всего несколько дней. И все же это одно из самых острых воспоминаний.
В конце 1927 года Маяковский приехал в Баку. Его приняли, в общем, не очень дружелюбно. Это было время, когда в печати нападки на Маяковского стали обычны. Я учился в университете и работал в газете «Молодой рабочий», заново собрал (распавшуюся было после отъезда талантливейшего Крюкова) литературную группу «Комсомол». Чуть ли не каждый вечер до исступления, до умопомрачения читаем друг другу стихи, свои и чужие, цепляемся к строчкам, разбираем каждое слово: наш бык – бег, наш бог – Маяковский.
Ко дню его приезда решили тиснуть его стихотворения и статью о творчестве. Статью написал я. Шер, наш ответственный секретарь, отнес литературную страницу на подпись редактору, тот ее отверг: «Вразрез с центральной печатью». Шер вернулся срочно заменять материалы литературной страницы. Я схватил оттиск и помчался к редактору, произнес спич в защиту «Лефа», говорил о громадности Маяковского, об истории «Лефа», о его будущем. Меня слушали, посмеивались: не спорить же с мальчишкой. А ежели в глубине души и соглашались (теперь знаю – случается и такое), статью не решились пустить.
Не прошло двух недель, как в новогоднем фельетоне «Молодого рабочего» прочел: «Выходит книга всемирно известного поэта Витковича «О корнях «Лефа» в античном мире». Шпилька в мой адрес! Так или иначе, литературная страница вышла со стихами Маяковского, но без моей статьи. Внизу полосы было объявление об очередном собрании литгруппы. На это-то собрание – в разгар чтений и споров – в продымленную нашу комнатушку неожиданно вошел Маяковский, пригнувшись, чтоб не стукнуться лбом о низенькую притолоку редакционных дверей. Все вскочили, он нас усадил.
– Продолжайте работу!
Но какая работа, когда рядом сидит Маяковский! Решившись первым принять его огонь на себя, я прочел стихотворение «Бронепоезд». Владимир Владимирович стал разбирать строки, рифмы, созвучия… разбирать, как умел только он. Это был урок, «как делать стихи». Ты знаешь, Маяковский называл себя мастеровым стиха. Свидетельствую: это была не поза, не дешевое модничанье, а страстная убежденность. Теперь не принял бы его точки зрения на назначение и сущность поэзии. Тогда был потрясен серьезностью и горячностью, с какими он утверждал необходимость «делать» стихи.
После меня читали другие. Каждую строку Владимир Владимирович разбирал так же подробно, показывая, как шатки, как случайны слова в наших стихах. Наконец и сам прочел стихотворение «Нашему юношеству». Помнишь? «На сотни эстрад бросает меня…» и т. д. Прочел и сказал:
– Придирайтесь!
Мы честно придирались, он оборонялся. На всю жизнь вынес я после этого дня понимание, что поэзия – колоссальный труд по строительству слов, требующий специальных знаний и отточенного слуха. Тогда же разыскал оттиск подготовленной к его приезду полосы, вручил Владимиру Владимировичу и все рассказал. Он усмехнулся: «Непечатное! Надо бы наклеить на забор!» – и унес оттиск с собой.
Двоих из нас, читавших в тот вечер – меня и Георгия Строганова (того, что потом писал тексты песен для Бейбутова), – Маяковский брал с собой выступать на заводах и в клубах. Прочтет Строганов, прочту я, прочтет кто-нибудь из азербайджанских писателей, потом вечер ведет Маяковский. Тогда мы не задавались вопросом, почему Маяковский для совместных выступлений, разговоров о поэзии, поездок на заводы выбрал нас, двух мальчишек. Как положено в юности, приписали собственным достоинствам. Лишь много позже понял: было следствием одиночества.
В то время о Маяковском писали, что стихи его непонятны народу, что он «кончился», «исписался», «ничего выдающегося больше не создаст». В Средней Азии говорят: «Величина башни измеряется длиной ее тени, величина человека – числом завистников». Маяковский был великаном: ни у кого не было столько завистников, как у него. В литературных салонах смаковалась грязная брошюрка некоего Альвека, доказывавшего (идиотизм этого сейчас и младенцу ясен), что Маяковский лишь «обокрал» Хлебникова.
В нашем отношении к нему Владимир Владимирович по крайней мере мог быть уверен. Понимал: мы, двое мальчишек, влюбленных в его стихи, не держим камней за пазухой. Вот и таскал нас с собою. В механическом цехе доков имени Парижской коммуны (Сулейман Рустам прочел стихи первым и ушел, куда-то заторопясь) Маяковский повторил голосование, какое накануне провел при нас на заводе имени лейтенанта Шмидта. Это было ответом тем, кто утверждал, что стихи его непонятны народу. Стоя посреди цеха на перевернутом ящике, Маяковский читал стихи, в конце спросил:
– Всем понятно?
– Понятно… – зазвучали голоса.
– Кто мои стихи понял, поднимите руку! Поднялись сотни рук.
– Кто не понял?
Поднялась одна рука: опять же – библиотекарь! Вот она – преднамеренная нелюбовь!
После выступления в доках шли мы заснеженным приморским бульваром. Владимир Владимирович развивал перед нами излюбленную мысль о необходимости работать в газете, писать стихи на злобу дня. Я, в ту пору невысокий, Маяковскому по плечо, – глянув снизу вверх, спросил:
– А как же тогда Пастернак?
Любил стихи Пастернака, знал, что и Маяковский их любит. Поглядев на меня с высоты своего роста, Владимир Владимирович сказал:
– Пастернак – особое дело.
Это «особое дело» так на всю жизнь и застряло во мне. Теперь знаю, настоящая поэзия вся «особое дело».
В те дни я видел двух Маяковских, совсем разных. Один – тот, что разговаривал с нами и выступал на заводах, – был сдержан, серьезен, всем интересовался, и если острил, так не зло. Но когда Владимир Владимирович вышел на сцену Дворца азербайджанской культуры, куда бакинская публика пришла, ожидая скандала, на его платный вечер со стихами и докладом «Даешь изящную жизнь!», его было не узнать. Вызывающим жестом снял пиджак, повесил на спинку стула, распрямился, молча оглядел зал, – гладиатор, готовый сражаться! – где уже начали свистеть и топать ногами, и внезапно перекрыл весь шум своим могучим басом.
Наутро следующего дня зашел за Маяковским в гостиницу и застал такую картину: на столе, диване, стульях разложены записки – те, что вчера получил. Перехватив мой взгляд, Владимир Владимирович усмехнулся:
– К драке примериваюсь!
Оказалось, после каждого вечера он готовится к следующему. Сразу отвечал на записку – либо если ответ напрашивался на язык, либо если был заранее готов: многие записки повторяются! Некоторых записок даже не извлекал на свет божий: все равно времени не хватит ответить на все! Потом – в одиночестве – работал, придумывал острые ответы. Тогда меня совершенно покорило его отношение к бою как к бою, а не как к болтовне. Остроумнейший из полемистов, Маяковский не полагался только на находчивость, он» знал: и тут необходим труд.
В следующий раз мне довелось встретиться с Маяковским незадолго до его смерти, в Ленинграде. Пришел на вечер Маяковского в Дом печати на Фонтанке: на его выставку «20 лет работы». Он читал «Во весь голос», и что было удивительно: не отвечал на выкрики и реплики с места. До того на него непохоже! Кончил читать – и к выходу. В проходе заметил меня, потянул за руку и буквально втащил в свою машину, стоявшую у подъезда. В машине еще кто-то сидел, но я так был поглощен разговором с Владимиром Владимировичем, что не разглядел кто. Ехал Маяковский на Васильевский остров в университет выступать, там его ждали: он выступал в университете накануне, но днем – большинство студентов не смогли попасть, попросили выступить еще раз. По пути в университет расспрашивал, что делаю в Ленинграде, что пишу, неожиданно спросил:
– Об Усманове написал?
Фантастическая память! В Баку рассказывал ему много историй, ему понравилась про Усманова (расскажу ее и тебе). Тогда он сказал:
– И нам, мастеровым слова, иногда приходится как Усманову…
И в университете Маяковский читал «Во весь голос». И там у его ног билось взволнованное море выкриков. А он стоял глыбой – и ни слова в ответ. Таким его и запомнил.
Вскоре после того, как «Новый мир» опубликовал две странички моих воспоминаний о Маяковском (1967 г.), до меня изустно долетели иронические отклики маякововедов. Мне оставалось пожать плечами: написал, как помню и что помню, а опускаться до этих, сквозь лупу разглядывающих жизнь поэта?! Помнишь, как сам Маяковский о них? «Бойтесь пушкинистов! Старомозглый Плюшкин… и т. д.».
Ну а теперь выполню обещание: расскажу тебе про Усманова. На мой взгляд, история не бог весть, случались похлестче.








