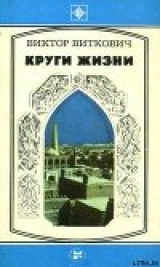
Текст книги "Круги жизни"
Автор книги: Виктор Виткович
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
Ромео и Джульетта Пишпекского уезда
Бесконечная в проявлениях, имеющая свои законы и все же никогда не повторяющаяся жизнь преподносит нам порой какую-нибудь историю, редкую, исключительную, словно для того, чтобы бросить еще более яркий свет на глубины происходящего. Одна такая история не выходит у меня из головы. Слышал ее давным-давно на колхозном комсомольском собрании. Рассказал ее старик, приглашенный секретарем комсомольского комитета. И история эта, похожая на маленький четырехстраничный роман, пошла из уст в уста.
В давние времена, когда старик рассказчик был молод, незадолго до восстания 1916 года, жили-были в одном из селений Чуйской долины девушка и парень, Лена Королькова и Чалагыз Бейше. Чалагыз батрачил у кулака-мироеда, Лена батрачила у него же, хотя и доводилась родной племянницей. Оба были сиротами.
У Чалагыза мать, как часто бывало тогда, погибла во время родов. Отец однажды ушел из дому и не вернулся: то ли стал жертвой какого-нибудь феодального князька, то ли лавина накрыла в горах. Отец Лены сложил голову на русско-японской войне. Девочка жила с матерью, бедствуя в родном сибирском селе. Когда ей стукнуло пятнадцать, мать заболела и умерла, завещав дочке поехать в далекую «страну Пишпек», к отцову брату – единственному живому родичу, за много лет до того переселившемуся в Семиречье и, по слухам, забогатевшему.
Дядя принял племянницу неприветливо и, чтобы не ела даром хлеб, поручил ей скотный двор. Одиннадцать коров, два десятка лошадей, свиньи, овцы, куры, гуси, индейки – легко ли все это уходить, уследить? Чалагыз пас скот, а в свободное время помогал по хозяйству – где хлев починить, где перестелить солому, где навоз вывезти из конюшни на поле.
То ли общая сиротская доля – попреки, жизнь впроголодь, то ли (теперь об этом можно только догадываться) хрупкие, пронизывающие мгновения восторга при виде клина журавлей, летящих в небе, или какой-либо другой, такой же светлой, полной воздуха картины природы, а верней всего, и то и другое послужили причиной того, что они полюбили друг друга.
Ходили слухи, что прежде всех дознался об этом сам Федор Корольков, и дознался едва ли не раньше, чем юноша и девушка открылись себе в своих чувствах. Так или иначе, племянницу Корольков собственноручно избил, а Чалагыза убрал со скотного двора и отослал с другими батраками работать на поле, совсем расставаться с ним не хотел – работящ и безответен был парень. И еще говорят, будто Корольков сказал на людях Чалагызу в насмешку:
– Отработаешь калым, за полсотни лошадей отдам племянницу! – и очень довольный собой, подмигнув слушателям, добавил: – Это по-вашенскому, киргизскому закону, калым!
Тут-то и поняли Лена и Чалагыз, что жить один без другого не могут. Надо думать, были у них тайные свидания. Надо думать, немало слез было пролито Леной: разве можно было тогда русской девушке не то что заикнуться – просто помыслить сыграть свадьбу с киргизом? Долго ли, коротко ли было лить слезы Лене. Да пришел шестнадцатый год.
Сперва сельский староста на сходе прочел царский указ о «реквизиции киргизов на тыловые работы». Потом злые люди начали распускать слухи, будто киргизы хотят русских перерезать. Испугавшись, как бы с ними не расправились, киргизы-батраки бежали из селений в горы, с ними Чалагыз. Дело была в июле, кулаки, хлеба которых остались неубранными, осердясь, стали распространять совсем уж кривые толки.
И будто бы в одну из ночей на скотный двор к Лене прибежал Чалагыз уговаривать вместе бежать к его братьям в горы: мол, примут хорошо, как его невесту! Подумала Лена о неведомых горах, о жизни в юрте – непонятной и страшной, не решилась.
Тут начали всех попадавших в руки киргизов хватать. И Чалагыза схватили, когда вдругорядь пробирался к Лене, привели к Королькову. Убил бы его Корольков, да хлеба спасли: не убрана еще пшеница была, осыпалась на поле, нужны были батрацкие руки. Запер Чалагыза в сарае, чтобы утром погнать на поле с серпом.
Вот тогда-то (где смелость взялась!), не гляди что худенькая, забитая, выпустила девушка милого на волю, и сама, еще солнце не пало на горы, с ним ушла и с собой двух коней увела.
Есть пословица, родилась в горах у киргизов, а прижилась и у русских в Чуйской долине – ходкая, как всякое меткое слово: «Родишь сына, покажешь вороне, скажет – слишком белый; покажешь ежу, скажет – слишком мягкий; змее, скажет – слишком толстый; муравью, скажет – слишком большой». Впрочем, беда была бы невелика, если бы только за тем дело стало, что нос русской девушки не понравился женщинам рода Чалагыза, и волосы слишком светлы, и ресницы слишком белы. Беда была в том, что привез Чалагыз милую свою к родичам в недоброе время, в темных головах кочевников, не умевших разобраться в событиях, начинала закипать ненависть против всего русского.
Весь аил сбежался посмотреть на Лену, все были возбуждены. Старухи, размахивая костлявыми руками, осыпали ее проклятиями. Мужчины ожидали, что скажут старейшие. И вот выступил вперед аксакал. Выслушал горячие слова Чалагыза в защиту милой, неодобрительно покачал головой, важно сказал, что от женитьбы киргиза на русской добра не жди: приедут, мол, казаки и в отместку всех перережут.
Под конец поднял старик руку и, приглашая в свидетели родовых предков, изгнал Чалагыза из племени. Так для русской девушки-крестьянки и киргизского парня-батрака не нашлось места ни у русских, ни у киргизов. Остались они среди тянь-шаньских гор одни на всем белом свете.
Спустя три недели были они уже далеко за горами Тянь-Шаня. Им повезло, удалось отделаться малым выкупом: только коней отдали пограничным стражникам. Чалагыз нанялся батрачить к китайцу-помещику.
Кто знает, быть может, в чужом краю Чалагызу и Лене удалось бы прижиться, да международная политика помешала, самая международная что ни на есть! Увидев, что часть киргизского народа снялась с места, генерал-губернатор Куропаткин разослал по городам Семиречья телеграмму: «Догнать и водворить на место».
Царские чиновники смекнули: испугался Куропаткин, вдруг кто-нибудь из иностранцев царю удивление выразит, и царь ему, Куропаткину, чтоб приличие соблюсти, по шапке даст. А там, глядишь, и новый от царя приедет и для острастки спервоначалу еще много шапок поснимает. И вот, желая заранее себя обелить, царские чиновники и каратели стали обвинять во всем киргизов, противу которых они, чиновники, действовали, мол, в порядке самозащиты. Они наполнили черносотенные газетенки свои воплями о «киргизских зверствах», в особенности расписывали страдания русских крестьянок, будто бы захваченных киргизами, зная, это вызовет впечатление совсем особого рода.
Тотчас же русское правительство обратилось с официальным представлением к правителю (даотаю) в Кашгаре, требуя разыскать русских женщин и детей и препроводить российским властям. В ноябрьский день, когда Чалагыз вместе с хозяйским приказчиком уехал продавать фрукты на базар в город Аксу, у его хибарки появились синьцзянские стражники, с ними драгоман русского консульства. Говорят, Лена Королькова ехать не хотела, отбивалась, кричала, звала на помощь Чалагыза. Ее схватили, связали и увезли. Откуда было знать ей, что нужна царским слугам, чтобы оправдать поднятую ими шумиху.
Когда Лену привезли в Ташкент, две сотни благотворительниц – жен царских чиновников – с величайшим рвением и торжеством препроводили «несчастную жертву» в специально обставленный дом, окружили такой роскошью, какая крестьянской девушке и не снилась, стали проводить с ней душеспасительные беседы… Потом повезли в Верный, где все началось сызнова. Потом по другим городам… Прошло некоторое время, шапка осталась на Куропаткине, и Лену за ненадобностью отправили обратно в село.
Тут Федор Корольков, дядя ее, привязал Лену к телеге и, заголив, стегнул лошадей. Кругом стояли соседи, хмуро посмеивались: «Не бегай с Киргизией, блюди закон». В ту же ночь со стыда Лена наложила на себя руки, серпом зарезалась.
Зимой один из крестьян встретил и Чалагыза. Похудевший, непохожий на себя, вернулся из-за гор, надеясь разыскать Лену. Крестьянин рассказал Чалагызу о ее смерти. А когда пришла весна и с полей Чуйской долины побежали ручьи, крестьяне обнаружили труп Чалагыза: он лежал возле могилы любимой.
Видишь, какая между народами была пропасть. Чалагыз и Лена попробовали через нее перепрыгнуть, пропасть их поглотила. Наше поколение многое сделало, чтобы эту пропасть засыпать, и гордится этим. Мы сетуем, что нашим детям жизнь не дала тех же уроков, что нам. Спросить эти сетующих: «Неужели вы хотите всерьез, чтобы ваши дети испытали на себе все, что испытали мы постарше и мы помоложе?! Тогда чего бы стоил весь наш труд?!»
Представь себе на минуточку, что ты киргизка и живешь до революции: как бы сложилась твоя жизнь? Киргизских женщин и девушек продавали как скот, меняли на овец и охотничьих беркутов, дарили друзьям, проигрывали на скачках. После революции были найдены счета о цене киргизских девушек, которые шли в рабство – в хорошие годы «за цену сивого мерина», а в годы массового падежа скота «за одно лукошко лука».
Пришел конец двадцатых годов. Это было время, когда киргизки приходили в женотдел и спрашивали: «Можно ли мне назвать мужа по имени? Можно ли мне посмотреть тестю в лицо?..» Услышав утвердительный ответ, они смеялись, будто им сказали что-то забавное, однако глаза их светились счастьем. Это было время, когда женщины-дунганки уже участвовали в собраниях, но сидели спиной к президиуму и голосовали не поворачиваясь. Это было время, когда в юрту работавшей в женотделе киргизки Курбан Джан Задунбаевой ворвался убийца с криком: «Ты здесь, преступившая законы аллаха! Комиссаром стала!..» – и вонзил ей в спину нож. Тревожное, трудное и вместе с тем замечательное было время! Но хотим ли мы, чтобы все повторилось вновь? Были и издержки жизни, издержки роста. Жил-был в Узбекистане композитор, который помощь русских композиторов и музыкантов употребил не столько на то, чтобы чему-нибудь научиться, сколько чтобы на этом «подняться», сделать карьеру.
– Снаружи гладок, а внутри как осиное гнездо, – сказала о нем Халима Насырова, народная артистка СССР
После смерти некоторых своих учителей он даже пытался их обокрасть. Я слышал в зените его славы, как в одной чайхане сказали о нем:
– Идет собака рядом с тенью слона и говорит: «Это моя тень».
Именно его фигура дала нам (мне и Ягдфельду) – задолго до того, как он был разоблачен, – тему фильма «Легенда о ледяном сердце». Театральный администратор Ашик старается пролезть в композиторы с помощью волшебника, который сочиняет за него оперу.
Неужели кому-нибудь нужно, чтобы все повторилось опять?! Неужели наша советская гордость не удовлетворена тем, что благодаря труду нашему пришло и идет новое поколение во всеоружии знаний и творческих возможностей, какие принес людям XX век?! И неужели кто-нибудь может хотеть, чтобы его дети за это платили своей кровью ту же плату, какую заплатили мы?! Нет, нет и нет!
Прошлое не возвращается. Оно повторяется только в частностях. А новое идет неудержимо, сметая все на пути. Никогда не переживут молодые люди, родившиеся в шестидесятых годах, то, что пережило наше поколение. Наши дети глядят вперед: у них будет (и есть уже!) свой собственный груз. Дай-то бог, чтобы он был, если и тяжел, так не слишком, чтобы под его тяжестью не сломились молодые жизни.
Невольно вспомнилась судьба Мишки Мещеряка. Ах Мишка…
Друг юности
Познакомился с ним заглазно еще в Баку: проглядывая в редакции «Молодого рабочего» литературные страницы молодежных газет, в сталинградской газете «Резервы» наткнулся на стихи Михайло Мещеряка, от которых веяло свежестью. Откликнулся на них письмецом.
Осенью 1928 года нежданно-негаданно встретился с Мишкой в Ленинграде у беломраморной лестницы Института истории искусства: оба поступали (и поступили!) на «лито» – литературное отделение Высших государственных курсов искусствоведения. Университет университетом, решил учиться еще: воображение захватило созвездие имен, преподававших в институте: Тынянов, Эйхенбаум, Шкловский, Жирмунский. Родник живых знаний!
Оба здания института – «красное» и «черное» – выходили зеркальными окнами на Исаакиевскую площадь. Темно-золотой купол Исаакия сторожат крылатые ангелы. За чугунными перилами – зеленовато-черная вода Мойки. Рядом гостиница «Астория», где – лафа для студента! – за 19 копеек можно было съесть тарелку супа, а заодно бесплатно умять гору хлеба! Два года спустя вспоминали об этом как о баснословных временах! Бок о бок с «Асторией» была гостиница «Англетер», заставлявшая нас помнить о смерти Есенина.
Вспомнил рассказанную Мишкой историйку, имевшую место не то возле Урюпина, не то в районе Борисоглебска, сейчас не упомню.
Жила-была там до революции помещица. Перегородила речку, разлился пруд, напустила в него рыбы. На глазах честного народа выдернула она из своего уха золотую серьгу, продела в жабры молоденькой щучке и бросила щуку в воду. Ловить рыбу в пруду не позволяла. Но на то и запрет, чтобы его обходить: по ночам многие пытали счастье – да никому не подфартило вытащить щуку с серьгой. Потом поставила помещица мельницу на пруду, практичная была дама. Грянула революция. Помещица укатила в Париж. Крестьяне бросились ловить щуку. Спустили пруд, сломали мельницу. Засолили каждый по тридцать-сорок пудов рыбы. А золотой серьги так и не нашли. Теперь у них нет ни рыбы, ни мельницы.
Мишка собирался написать об этом рассказ. Не написал. Как, впрочем, все мы в те годы не написали многого. До завтрева не напишешь, и уже весь в другом: так оно в юности. А литературный труд… Придумать – миг, наткнуться в жизни и того короче, но написать! Измараешь чернилами тонны бумаги прежде, чем поймешь, что есть труд писателя.
Талантлив ли был Мишка? Мне кажется, очень. Хотя я мог и обмануться, в нем мне все было мило. Друзья! Талантлив ли, нет ли… А Мишка был гений! Не шучу. У него была гениальная память, какую встретишь, может, раз в тысячу лет. Николай Заболоцкий читал у нас в институте «Торжество земледелия», большую поэму, читал впервые. Мы наслаждались непредвиденностью образов: «Тут стояли две-три хаты над безумным ручейком. Идет медведь продолговатый как-то поздно вечерком…» После вечера вышли под звездное небо, Мишка прочел нам всю поэму раз и два, он знал ее наизусть!
Много лет спустя, собирая вместе с писателем Сатымом Улугзода материалы для киносценария об Абу Али Ибн-Сине (Авиценне), наткнулся на исторические свидетельства, будто у Авиценны была такая память. Когда фанатики сожгли бухарскую библиотеку, Авиценна восстанавливал по памяти целые книги; мало того, стал, систематизируя по специальностям, диктовать наизусть писцам знания из всех книг сразу. Так возникла первая в истории энциклопедия.
Я бы принял свидетельства эти за россказни исцеленных Авиценной людей, если бы не знал Мишку: не держал в доме книг, были ему ни к чему, все, что когда либо прочел или слышал, «отпечатывалось» у него в голове – открывай любую страницу, помнит наизусть!
И в университете Мишка ошеломил всех памятью. За первую же зиму освоил кавказские языки: прочтет словарь не торопясь – более или менее помнит слова, перелистает грамматику, синтаксис, пробежит глазами два-три романа, и так или иначе, а знает язык, берется за следующий…
Учился Мишка у Алиханяна, числился студентом армянского отделения, единственным на курсе! Но тут надо рассказать, откуда взялся в нашей жизни Ленинградский университет. Видишь ли, Высшие государственные курсы при Институте истории искусств закрыли, и нам осенью 1929 года предложили перевестись в университет на любой гуманитарный факультет: искусствоведческого не существовало, Мишка подал на кавказское отделение филологического, я ради экзотики маханул на японское.
Ему хорошо. А я мученик! Ну прокачусь на чужом велосипеде из конца в конец километрового университетского коридора, ну сбегаю в студенческую столовую… Никогда из памяти не изгладится веселое (столько было надежд!), но уже голодное время (после первой волны коллективизации, когда в нашу жизнь вернулись продкарточки). В те дни в студенческой столовой приятель поставил однажды передо мной тарелку с кониной, широкий жест: «Лошади поданы!»
Мишка с головой ушел в языки. А я… Ну на кой мне японский! Языком надо заниматься, а я пишу, печатаюсь. Да и глава семейства. Только что женился! Да и один университет уже кончил! Однако уйти не так просто: государство тратит на меня деньги – получаю сорок рублей стипендии.
Уйду, по тем временам обеспечен скандал – дезертир! Чего доброго придется Ленинград покидать. Как же тогда Таня? Ее учеба? Тут-то Мишка меня и выручил.
Кабинет греческого посланника
Вот как было. Собрался я жениться, а своей жилплощади нет. Встречаю Лешу Христофорова, делюсь горем. Он:
– Хочешь кабинет греческого посланника?
Привел показать: бельэтаж, два зеркальных окна на Неву – на шпиль Петропавловской крепости, камин, паркет, пятьдесят два метра – хоть балы задавай! По стенам на две трети высоты панель красного дерева. Мебель вывезена, во вдоль одной стены, во всю длину, невысокий, по пояс, красного же дерева шкаф для бумаг: врезай в стену, не оторвешь! И в двух углах тоже врезанные в стену красного дерева кожаные диванчики: спать – так складываться пополам.
Возле камина четыре железные койки. Называлось «чумандринская коммуна»: четверо пареньков со «Скорохода» и «Электросилы», из рабкоров, «ударники, призванные в литературу» (Лешка один из них), организовали коммуну. Чумандрин, секретарь ЛАППа (Ленинградской ассоциации пролетарских писателей), раздобыл им ордер. «Во оторвали! Кабинет бывшего греческого посланника!» Да не пошла коммуна, уютней жить дома, хоть в крошечных, да своих обжитых комнатенках за Московской заставой под присмотром мамаш. Пустеет палаццо; «Раз такое дело – женитьба, с радостью отдадим!»
Переписали ордер на меня, увезли свои койки. Раздобыл дрова, тоже по ордеру, сложил поленницу в коридоре рядом с дровами соседей – четы пенсионеров, поселившихся в бывшей спальне греческого посланника: стены из плюша с нарисованными цветами, ударишь палкой – пыль столбом! «Во жили буржуи!» Шикарная жизнь! Красота, кто понимает! Золотой шпиль за окнами! А толку?
Прикатили морозы, питерские, пронзительные, сырые! Встала Нева маленькими торосами, нагромождением льдин, наехавших одна на другую. Топлю камин, дрова сгорают, как спички. Хлопотал-хлопотал, выхлопотал уголь, набил чулан. Из камина пышет жаром, пока меж углей гуляет синее пламя, а погасло – несет холодом, как в трубу, комната вмиг выстывает? При буржуях небось был холуй-истопник! По десять часов кряду топлю, склонившись над иероглифами японских сказок «Фурусато» и словарем Позднеева. Экзотикой – камином да иероглифами, ничем другим заниматься не могу! Положение куда уж хуже…
Пришел как-то Мишка, протянул к камину окоченевшие пальцы и говорит:
– Вот что… Вместо того чтобы в чужой клеветон попадать, если бросишь университет, напиши-ка ты, брат, сам про себя фельетон. Вот, мол, субчик: один университет кончил, во второй пробрался. Зря, дескать, государство денежки тратит на него! Ну а я тисну под псевдонимом в нашей стеновке (Миша был редактором стенгазеты факультета). Тебя, голубчика, и исключат! Сами исключат тихо-мирно… Что и требуется доказать!
Написал про себя фельетон. Исключили. От иероглифов избавился, оставалось отделаться от камина, это проще: обменял свое палаццо на комнатенку в шестнадцать метров на Литейном проспекте – пальцем достаю до потолка, окна в колодец двора – зато теплая-теплая! Здравствуй, жизнь!
Она-то, жизнь, довольно быстро и развела нас с Мишкой: он ушел с головой в языки (по Ленинграду ширились слухи о колдовской его памяти), я бросился в громкобурлящие воды невской изящной словесности. Мишка заглядывал ко мне все реже. Спустя несколько лет узнал с чьих-то слов: где-то вдалеке, кажется в Армении, заболел и умер. Умерла гениальная память! Сколько мог дать людям! Теперь, многие годы спустя, оглядываясь на жизнь поколений, письменные свидетельства о коих теряются в глубине веков, вспоминаю Менандра (через две тысячи триста лет его процитировал Байрон): «Богов любимцы долго не живут», и все больше утверждаюсь в мысли, что гении – это чудом выжившие!
Думаю, что на земле рождается гениев неизмеримо больше, чем доживает до возраста, когда успевают себя осуществить. Обуянному чем-нибудь целиком (звуками, красками, мыслями, мечтами…) гению легко погибнуть в детском возрасте: утонуть, попасть под копыта лошадей (в наши дни под машину)… Ежели благодаря счастливому стечению обстоятельств гений все же доживет до совершеннолетия, зависть обрушивает на него все, чем люди умеют мстить за свою заурядность.
Надо ли вспоминать биографии гениальных поэтов, художников, ученых всех времен? Жизнь, как правило, мученическая! Именно это заставило Дидро воскликнуть: «Как мы были бы счастливы, если бы наши современники вздумали судить о нас так, как если бы мы умерли три тысячи лет назад!»
После смерти гения, успевшего себя осуществить, человечество, видя, что прошли десятки лет, а он все еще возвышается над временем, начинает ему поклоняться. При этом оно стыдливо замалчивает страницы жизни, которые с точки зрения современной морали «порочат» гения: так гениев превращают в иконы.
25 апреля. Под вечер. Берег Иссык-Куля
Ну вот я наконец и в Рыбачьем… Весь вечер, да и всю ночь за окошком гостиницы выл и бушевал ветер: его здесь называют улан. От его порывов стекла то вздрагивали, звеня, то протяжно ерзали в рамах, слышен был звук летящего в окна песка, даже удары мелких камешков о стекла. Под вой, свист и звон ветра лежал на койке, вперясь взглядом в черное пространство окна.
На заре улан утих так же внезапно, как начался. Я вышел на берег Иссык-Куля, прихватив с собой «колибри», бумагу и термос, взошло солнце, озеро затрепетало светлым пламенем. Пристроился на пристани, открыл машинку писать тебе и вспомнил, как здесь, именно здесь давным-давно пережил вместе с поэтом Александром Гитовичем потрясение.
Но к рассказу об этом надо подойти.








