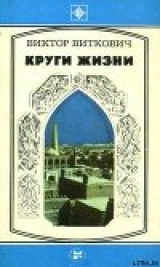
Текст книги "Круги жизни"
Автор книги: Виктор Виткович
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
Коробочка
В 1946 году меня обуяла идея написать художественную географию Узбекистана, своего рода беллетристический путеводитель. Натолкнул меня на это писатель Николай Николаевич Михайлов, прославившийся книгами-путешествиями. После революции не было еще тогда издано ни одной популярной книги о земле, которую считаю второй родиной.
Мне захотелось «открыть» Узбекистан тысячам людей, а для этого (и младенцу ясно) необходимо было все посмотреть своими глазами, год-полтора ездить, глазеть и глазеть.
Кто мог дать столь длительную командировку? Никто! Хоть убейся, надо самому найти – и не один, а десяток путей! Для начала взял командировку от «Гудка». Оказалось, счастливая мысль! Сумел, приехав в Ташкент, выпросить в управлении железной дороги себе отдельный вагон: крошечный вагончик о два окна на каждую сторону, двухосный – на четырех колесиках, с самоваром и проводником.
Прицепил свою «коробочку» (как величают ее железнодорожники) к товарному составу – и прямехонько в Бухару. Со станции Каган маневровый паровоз подогнал по ветке мою миниатюрную гостиничку под старинную стену Бухары, тогда еще вздымавшуюся над окрестными домами и деревьями, но уже осыпавшуюся, изборожденную гигантскими трещинами.
Пройдя сквозь катакомбы бухарских улочек, разыскал обком партии, пришел с письмом (подпись Усмана Юсупова, секретаря ЦК, был у него в Ташкенте, рассказал о замысле): в письме слова обычные: «Прошу оказать всемерное содействие…» Отзвук здесь, в Бухаре, тоже нормальный: «Съездите туда-то, посмотрите то-то…» (о «Гудке» я – ни гугу! Слишком мелко!) Вежливый вопрос:
– Где остановились?
– У меня свой вагон.
Будто кто взмахнул волшебным жезлом! Секретарь обкома взял трубку телефона – распорядился передвинуть вагон под единственный у бухарской стены телефонизированный столб, а внутри установить аппарат, подключив его к бухарской сети: хотя телефон был мне ни к чему, промолчал – как-никак свидетельство о правах!
В кабинет вызвали и незамедлительно отрядили со мной заведующую лекторской группой обкома Исмаилову и двух инструкторов, прикомандировали еще и знатока бухарской старины Шаева, прикрепили машину – «виллис» военного образца, лучшего по тому времени желать не мог, всюду проедешь! Наконец, наивысшая благодать послевоенного года – обкомовской паек: два кило баранины, кило сахара, бутылка кунжутного масла, пачка чая и четыреста граммов слипшихся конфет-подушечек ярко-розового цвета. Магическая сила таилась в словах «отдельный вагон».
Со свитой стал объезжать и обходить Бухару. О тогдашних впечатлениях распространяться не стану, скажу лишь, за три дня в Бухаре успел увидать столько, сколько не удалось бы и за две недели.
На третий день останавливаем наш «виллис» возле Лябихауза. Над водоемом парит аист, щелкая клювом. Зеленовато-черная вода недвижно застыла у каменных ступеней: осколок старой Бухары. Целы стены древних зданий, хоть и обшарпаны. Стою, наслаждаясь воздухом старины.
Вдруг от стены Ханако-мечети отделяется того же цвета серая, выгоревшая шинель, окликает меня. Вглядываюсь: Бугославский! Обнялись. На Сашу с недоумением взирает моя «свита», объяснил в двух словах – кто. Сговорились: вечерком придет ко мне в вагон, покалякаем!
Век буду помнить тот вечер. Приходит Саша, проводник вносит самовар, вываливаю на стол полученные богатства. Каждое мое движение Саша провожает мрачным взглядом, на вопросы отвечает односложно, явно задираясь: мол, ты-то эвон куда вознесся, о чем же с тобой толковать!
И уже чувствую себя бесконечно виноватым: виноват, что отдельный вагон и что на столе баранина, зажаренная проводником, а на газете слипшиеся подушечки… Сидя рядышком на вагонной полке, чаевничаем. Разговор не клеится. Так и не склеился бы и мне незачем сейчас было бы тебе это рассказывать, если бы в разгар нашей трапезы в вагон не вошел человек в кожанке, извинившись, извлек из чемоданчика инструмент и стал отсоединять телефон.
– Но почему?
– Так приказано, – сказал он и, прихватив аппарат, удалился.
Мы с Сашей с недоумением поглядели друг на друга. Вдруг у нас погас свет, почти тотчас же на столе звякнули стаканы, и чай переплеснулся на разостланную газету: это прикоснулся к нашим буферам паровоз. Выглянули, проводника не видно, куда-то отлучился, мерцают звезды, рядом пыхтящая громада паровоза… Услышали, как на наш вагон накинули крюк.
– Что это означает? – крикнул я машинисту, соскочив на землю.
– Так надо, – сказал машинист.
И «коробочка» поехала. Вскочив на ступеньки, вернулся к Саше. Нас повезли сперва в одну сторону – по полке поплыло слабое отражение фонаря, горевшего вдалеке у вокзальчика «Бухарки», потом – назад и, наконец, оставили в стороне на запасном пути. На глазах Саши мой «отдельный вагон» превратился в то, чем был на самом деле – в «коробочку» о два окна, на четырех колесиках.
Даже в темноте я чувствовал, как с каждой секундой Саша веселел, хотя беспокойство и сквозило в его голосе. Разгадка пришла быстро: услышали, как паровоз вновь приближался, увидели вереницу ярко освещенных окон длинного пульмановского вагона, его подвезли под тот самый столб. Тут объявился мой проводник: внес горящую свечу, прилепил ее, накапав стеарина на стол, и многозначительно кивнул на окно:
– Абдурахманов приехал… Его вагон. Абдурахманов – тогдашний Председатель Совета
Министров Узбекской республики. Пустячное событие это взломало лед между мной и Сашей. Посмеялись над причудами судьбы и, попивая чаек, стали разговаривать без лишних затей. Невдалеке сверкали окна правительственного вагона, где-то рядом тоненькими голосами, будто младенцы, плакали шакалы, в ту пору еще прибегавшие по ночам из пустыни под стены Бухары.
Саша рассказывал: живет так же, в каморке, притом полуразрушенной. На работу взять никто не решается: «Бродяга!» Что ни день, «выдает» новое стихотворение – извлек из кармана листки. Под стихами при колеблющихся отблесках свечи разглядел отпечатки экслибрисов: и в шестьдесят не оставил своего детского развлечения! Прочел вслух несколько стихотворений, все то же, не стихи – окаменелости.
Жизнь с годами учит нас, смягчая углы отношений, чаще и чаще прибегать к. вежливым неправдам. Однако говорить вежливости, когда речь идет о призвании, – это конец. Любимая профессия требует прямоты: в этом случае щадить чье бы то ни было самолюбие – равносильно измене своему делу.
Вот передо мной шестидесятилетний поэт, жизнь позади, неколебимо стоит на своем! Посылает стихи (с отпечатками экслибрисов) в ташкентские газеты и журналы, отовсюду возвращают. Ясно представил ухмыляющиеся лица редакционных сотрудников: «Опять от этого бухарского графомана…» Голодный и гордый! Еле я сумел, да и то благодаря приключению с «коробочкой», наладить с ним человеческий разговор. С удовольствием сидит у меня, ест, пьет… Неужто подниму против него меч?!
Не поднял… Теперь, когда Саши давно нет на свете, могу рассказать, как оно было. А тогда… Тогда наутро униженно просил Исмаилову, чтобы устроила Бугославского ну хоть заведующим красным уголком. Обещала. Твердой уверенности, что выполнит просьбу, у меня не было. Уехал…
9 мая. Бухара
С утра вышел на площадь и сел на скамью невдалеке от гостиницы… Розы! Каких только нет оттенков. Вдруг кто-то садится рядом с добродушным смешком. Федя Тюменев! Давний знакомый, пиротехник, фейерверкер, один из самых опытных и искусных мастеров огня и дыма в нашем кино, чудесный человек, а главное, безотказный: ежели даже скажут сделать такое, с чем его пиротехника ну никак не может управиться, не скажет «нет». И знаешь, почему? Чтобы не испортить настроение человеку. Есть такие люди, хоть и редки.
Об одном таком слышал от Александра Петровича Довженко. В 1956–1957 годах в Москве, в сценарной студии, вел я мастерскую, в ней осваивали сценарное мастерство молодые писатели из национальных республик, а на редколлегии сценарной студии раз в неделю встречался с Довженко.
Как-то раз Александр Петрович и рассказал, как всегда подмешивая в русскую речь украинские слова:
– … Вот у меня був директор – це директор! Рогозовский! Я снимал Щорса. Ну, надо снимать сцену смерти батько Боженко. Везут его по хлебам, по житу, на коне, покрытом буркой. А батько Боженко говорит: «Великодушно извините, шо помираю не на поле брани, а на плечах у хлопцив!» Вот и говорю Рогозовскому: «Хиба нельзя привезти на место съемки рояль и поставить прямо в жито? Шоб нести батько Боженко под музыку!» Рогозовский говорит: «Зачем один рояль, Александр Петрович? Надо поставить в хлеба два рояля: на одном будут играть – откуда понесут, а на другом – куда понесут, шоб всюду слышно было!» Хороший директор!..
Довженко растроганно улыбнулся и заключил:
– Роялев не було, но он мне не сказал «ни!». Через глухую глинобитную, по высоте двухэтажную улочку-щель, важно именуемую улицей Крупской, вышли мы с Федей на главную магистраль, прорезающую Бухару, и профланировали вдоль ряда старых морщинисто-черных тутовников. Их стволы до того кривы, что кажется, деревья изогнулись, стремясь дотянуться корнями до воды, и в этом могучем непосильном напряжении так и застыли. Дошли до Лябихауза: огромного выложенного каменными плитами водоема, окруженного с трех сторон монументальными медресе: порталы их серы, ноздреваты, и прямо из стен торчат кустики сухой травы.
Идут люди, развеваются на ветру галстуки и кончики шелковых косынок, у водоема сидят продавцы роз. Эти еще в пестрых халатах, кое-кто в чалмах. Присели мы с Федей на каменную ступеньку водоема: разговоры о том о сем. Как всегда, дело дошло до Ходжи Насреддина, верней, на этот раз до его ишака.
Забавная история приключилась (о ней напомнил мне Федя), когда снимали «Насреддина в Бухаре».
Крик ишака
В числе «актеров» был осел. Фото осла вклеили в альбом фотопроб главных персонажей, его утвердил художественный совет. Наступил день съемки ишака: в определенный момент нужно было, чтобы он «ответил» Ходже Насреддину – заорал. Свою роль ишак вел хоть и не блестяще, но сносно. Однако, когда дошло до крика, вместо того чтобы вытянуть шею и издать трубные клики, ишак мирно стоял, помахивая хвостом.
Целый день билась дрессировщица. Назавтра ее сменил Наби Ганиев, работавший у Протазанова вторым режиссером: однако сколько ни колол палкой, ни уговаривал, ишак орать не хотел.
Подошел какой-то старик – дело было на базаре, где снималась массовка:
– Сынок, что ты делаешь со своим ишаком?
– Да вот колю его палкой и уговариваю, чтобы заорал! – сказал Наби Ганиев.
Старик усмехнулся:
– Неужели не видишь, это влюбленный ишак!
Ганиев устало отшутился:
– Вижу. Именно потому я не только уговариваю его, а прибегаю к помощи палки.
Старик сказал:
– Только человек способен орать, когда его колют палкой, и молчать при виде возлюбленной, ибо у человека от любви спирает дыхание. А влюбленный ишак поступает наоборот…
С этими словами он скрылся за поворотом улочки и спустя минуту появился вновь, ведя в поводу ослицу. Увидев ее, ишак заорал.
– Бабай! – воскликнул Ганиев. – Откуда ты узнал, что именно эта ишачка его возлюбленная?!
– Э-э, – сказал старик. – Разве тебе не известно, что ишаки тем и отличаются от людей, что готовы объясняться в любви каждой попавшейся на дороге ишачке?
Шутка шуткой, но съемка с этой минуты наладилась: как только нужно было, чтобы ишак затрубил, мимо проводили ослицу – безотказное действие!
Вспомнили с Федей, посмеялись. Федя спросил: какая была моя первая работа в кино? Ответил «Дождь в Новом Вавилоне». Не шутил.
Учился зимой 1928/29 года в Ленинграде, в Институте истории искусств и зарабатывал деньги на жизнь в студенческой трудартели. То нас посылали в порт разгружать вагоны с «балансом», то на кинофабрике – снимался в массовках, таскал осветительную аппаратуру в цирке после вечерних представлений, где по ночам в фильме «Смертный номер» участвовали «сто львов» капитана Шнейдера. Однажды мне доверили первую самостоятельную работу: поливать через голову оператора актеров из кишки с распылителем в «Новом Вавилоне» – фильме Козинцева и Трауберга.
Как счастлив был на премьере: «Дождик-то мой!» Ни разу потом, работая в кино, не испытывал такого чистого счастья. На премьерах собственных фильмов всегда был привкус горечи: выходило не совсем так, а порой и совсем не так, как мечталось в работе над сценарием.
Святое искусство
В сценарии комедии «Небеса», которую в 1938 году снимал режиссер Тарич на Одесской киностудии, большая и притом комедийная роль была у собаки. Съемки животных нередко оборачиваются против сценария.
Жила-была в Одессе собака – южнорусская овчарка, с белой шерстью, до того густой, что еле видны глаза. Ее откопал помощник режиссера и привел фотографа к дворовой будке. Всем фото понравилось: очень подходила для роли деревенской собаки. Сговорились с хозяевами – сколько им заплатят. И исчезли… Надолго! Уехали в Москву утверждать режиссерский сценарий, заодно и фотопробы актеров. Месяц жили в Москве, актеров утвердили, в том числе и собаку.
Вернулись в Одессу, в один из первых же дней отправились за четвероногой актрисой. Помощник режиссера скрылся в калитке и спустя минуту вышел со смущенным видом.
Тарич взволнованно спросил:
– Что случилось?
– Собаку остригли..
– Ка-ак остригли?!
– Подо льва.
Калитка распахнулась, из нее появилась процессия: впереди шел хозяин, важно ведя на поводке пса с белой гривой и кисточкой на хвосте
– Зарезали! – завопил режиссер, схватившись за голову.
В суматохе шумного разговора, в котором, как всегда в Одессе, принимала участие целая улица (все друг друга оскорбляли и не оскорблялись), выяснилось: договорившись с киностудией, хозяева переселили ее из конуры в дом. Она сделалась гордостью семьи. Соседи приносили ей конфеты и кости…
Мало-помалу в сердца обитателей улицы начало закрадываться беспокойство: уехала киногруппа в Москву – и ни слуху ни духу! Вдруг в комитете не приглянулось фото их героини?! Или самому режиссеру разонравилась… вдруг найдет другую?! На междворовом совете возобладало мнение, что следует собаку на всякий случай улучшить, тем более что на той же улице отыскался парикмахер, стригший собаку «самого Дурова», когда цирк гастролировал в Одессе.
И теперь, к негодованию улицы, отказались снимать «льва». Пес из покоев был выдворен в конуру. Вместо него взяли (времени на поиски не было) первого попавшегося эрдельтерьера. И так как на экране он оказался не больно хорош, собачью роль укоротили вчетверо. Ножницы парикмахера ворвались в святое искусство!
Кончается день, сумерки, жара спадает. Стою у окна, вдыхая прохладу. Где-то вдали закричал ишак, с другого конца Бухары отозвался другой. Еще и еще… Ишаки покричали, покричали и одновременно умолкли. Расскажу-ка я тебе еще одну забавную историю про ишака Насреддина.
Карьера Фроси Ковалевой
Жила на свете Фрося Ковалева, работала актрисой в одном из белорусских театров. Началась война, успела вместе с мужем уехать из Минска, прежде чем туда ворвались гитлеровские танки. Мужа, тоже актера, приняли в Московский театр сатиры. Фросе устроиться не удалось, слишком много было актрис.
В 1944 году Театр сатиры начал работать над нашей (моей и Л. Соловьева) пьесой «Веселый грешник» о Ходже Насреддине. Ставили Б. Бибиков и О. Пыжова. Ишака, как и в Янгиюле, решили «сделать» из двух мальчиков, прикрыв «ослиной шкурой». Когда спектакль был готов, Н. М. Горчакову (художественному руководителю театра) многое не понравилось, и он стал спектакль переделывать. Как всегда ровным, едва слышным голосом Николай Михайлович говорил:
– Ослик должен быть девушкой, изящной, легкой. Вы не знаете зрителя, ему необходим привкус эротики, иначе спектакль не будет иметь успеха.
Мы пытались спорить. Горчаков слушал, глядя на нас голубыми глазами, ласково щурясь, обворожительно улыбаясь, но был непоколебим. Нам пришлось смириться. Николай Михайлович предложил роль осла актрисам – отказались. Тогда собрал молодых актрис и, ласково улыбаясь, сказал:
– Кто сыграет ослика, тому в следующем спектакле дам главную роль, а в этом спектакле – второе место на афише.
Как ни заманчиво было обещание, ни одна актриса не решилась выйти перед зрителями «на посмешище». Тогда на репетиции Горчаков, чуть возвысив голос против обычного, сказал нам, чтобы и другие услышали:
– Упрямятся? Ну, я им покажу!..
Началась безмолвная борьба, Горчаков был в ярости: это чувствовали все, хотя лицо по-прежнему отечески «улыбалось». Однажды на репетиции к нему подошел один из «эмирских стражников» и сказал, что Фрося, его жена, согласна играть ишака. В тот же день Фрося была зачислена приказом в штат Театра сатиры, и ее прописала в Москве милиция, и она получила продовольственную карточку: словом, ишак Ходжи Насреддина ей невероятно помог.
Напуганные слухами об угрозе Николая Михайловича, актрисы начали приходить одна за другой: согласны играть ишака! Николай Михайлович, все так же обворожительно улыбаясь, их отметал: торжество его было полным. Фрося Ковалева сыграла осла, и стала на концертах выступать как актриса Московского театра сатиры, и в следующем спектакле (Горчаков был человек слова!) получила главную роль.
Семь городов Востока оспаривают друг у друга место могилы Ходжи Насреддина: каждый утверждает, что похоронен у них. Но все сходятся на том, что родился он в Бухаре. В Испании есть памятник Дон-Кихоту, в Бельгии воздвигли памятник комиссару Мегрэ – герою Сименона… Публикуя в 1966 году в «Новом мире» очерки «Дороги, встречи, рассказы», я писал: «Хорошо бы поставить в Бухаре памятник Насреддину, чтобы перед идущим ли, едущим ли неожиданно появлялся из-за угла Ходжа Насреддин со своим ишаком». Как видно, мои строки разбудили фантазию бухарцев: прошло немного лет, и вот уже – мог ли я надеяться на это! – каменный Ходжа Насреддин едет по Бухаре на своем ишаке.
10 мая. Бухара
Не кажется ли тебе, что мы иногда ведем себя как дети. Стоит мне сказать: «Ты виновата!», сразу встаешь на дыбы: «Нет, это ты виноват!» Какое ребячество – только и делать, что виноватить друг друга! Не пора ли не только мне, но и тебе стать снисходительней друг к другу, не ерепениться по пустякам?
Да и что все наши «Ты виноват!» перед потерями, которыми «одаряет» людей жизнь! Печальные и вместе с тем странные истории случаются на свете.
Был у меня знакомый Н. Ф. Бондаренко. Жил в Ашхабаде. В ночь ашхабадского землетрясения у него погибла семья, это перевернуло его жизнь, напомнило, что смерть может прийти в любой день. И он взял обыкновенный чугунный казан, в котором готовят плов, вложил в него, химически обработав, фотографии Ашхабада до землетрясения и после землетрясения и другие интереснейшие документы, вложил туда же фотографии погибших жены и детей, залил все воском и закопал в Каракумах для… далеких потомков.
Улыбаешься? Что ж, может, и нелепо, все-таки что-то в этом есть: забота о своем месте в будущем не покидает мыслящего человека, твердо знающего, что люди жили до него и будут жить после него.
Раз в жизни и мне довелось в роли потомка «открыть» завещанный предками клад. Знаю, какое это волнение! Было не здесь, не в Бухаре, а по ту сторону пустыни Кызылкум, в Хиве, в 1946 году.
Избранный однотомник
Слоняясь по Хиве, забрел я в мавзолей Пахлавана Махмуда – святыню хивинцев – прелестный мавзолей, построенный мастером, получившим у современников за удивительное искусство прозвище Джинн. На стенах, меж поливных изразцов, мое внимание привлекли два пояса начертанных арабским шрифтом стихов, спросил спутника – научного сотрудника хивинского музея, что за стихи? Тот пожал плечами. Арабского языка, как и большинство хивинцев, он не знал.
Понимаешь ли, года за три до того, копаясь в исторических материалах, наткнулся на Пахлавана Махмуда, его образ меня пленил: в XIII веке был самым сильным борцом своего времени, на его выступления в Хорезме, Хорасане, Индии стекались из далеких городов тысячные толпы, чтобы хоть издали посмотреть на прославленного пахлавана (силача). Однажды два войска даже прервали битву – установили перемирие, чтобы вместе присутствовать на поединке Пахлавана Махмуда.
Согласно свидетельствам современников Пахлаван Махмуд, кроме того, слагал музыку и стихи. Сунулся я в Ташкенте к востоковедам: ни в одном хранилище рукописей стихов его тогда не было. Ну и, попав в Хиву, стал расспрашивать, мне сказали, что два дивана (сборника) Пахлавана Махмуда гуляют где-то по рукам: будто бы, собираясь по ночам, их читают старые люди. Добраться до них мне не удалось. В мавзолее же стихи на стенах – по внешнему виду, по строфике – показались мне непохожими на те, какие обычно в мечетях. Подумал: уж не его ли стихи?
Спустя несколько дней посчастливилось в Хиве найти старика, учившегося в медресе и читающего по-арабски. Обнаружилось, что это не арабский язык, а фарси (хивинцы, как правило, не знают и фарси), а главное, что это (угадал! понимаешь!) рубаи – четверостишия. Передо мной был избранный том стихов Пахлавана Махмуда. Да каких!
Над решеткой надгробия:
Сто гор кавказских истолочь пестом,
Сто лет в тюрьме томиться под замком,
Окрасить кровью сердца небо – легче,
Чем провести мгновение с глупцом.
На стенах:
Хоть трус усердно золото чернит,
Он в медь его вовек не обратит.
Псу – всякий трус, реке – герой подобен,
А где тот пес, что реку осквернит?
Зимой костер – прекрасней нежных роз,
Кусок кошмы – прекрасней шелка кос.
Пирьяр-Вали вам говорит: прекрасней
Клеветника – цыганский драный пес.
И в других та же свобода мысли и поэзия жизни, не имеющие к исламу даже отдаленного отношения. И его-то сделали хивинским святым!
А получилось так: весь Хорезм гордился своим богатырем, которого никто не мог одолеть. После его смерти хивинцы именем его нарекли канал, орошающий хивинский оазис: канал Палван-яб («палван» – то же, что «пахлаван»). Его именем назвали городские ворота: Палван-дарваза. А кочевавшие по соседству туркмены-номуды сделали литературный псевдоним Пахлавана Махмуда – Пирьяр-Вали – своим воинским кличем: устрашая врагов этим именем, они бросались в битву. Что против такой славы могли поделать ревнители веры?
Тогда они решили посмертно «приручить» Пахлавана Махмуда. Сколько раз в истории народов так же посмертно «приручали» популярных философов и поэтов, выдергивая из них отдельные строки, объявляя их главными в наследстве, выхолащивая и умерщвляя живое. Хивинские ревнители веры объявили Пахлавана Махмуда святым. Порукой успеха было для них то, что народ не знал грамоты, никто не мог сам прочесть рубаи на стенах. Пахлаван Махмуд, скептик, завещавший похоронить себя дома, в Хиве, внутри своей шубошвейной мастерской, превратился посмертно в святого, а его мавзолей, голубой купол которого сияет в центре Хивы, – в храм.
Тогда же написал об этом в книге. И теперь в мавзолее Пахлавана Махмуда под арабскими письменами его четверостиший висят доски с переводом стихов: храм опять превратился в избранный однотомник. Приятно думать, что вернул его людям.
В поездках по землям Хорезма не раз останавливался я перед развалинами, засыпанными песками пустынь, и всегда сжималось сердце! Хаварезм! Страна Света! Какая полная тут была жизнь! Сколько надежд! И что от всего осталось?!
Давно известно, легенды – следы ушедшей жизни. По исследованиям академика С. П. Толстова, историю трагической любви Гариба и Шасенем знали еще в древнем Хорезме: там она произошла, потрясла современников и оттуда из уст в уста пошла через века.
Я бродил среди развалин крепости шаха Ахмада, где согласно легенде все началось, и, глядя, как бы не наступить на змею, единственную жительницу этих покинутых мест, – поднимал из-под ног то битые черепки, то обломок медного предмета, то бусину. Прелестнейшая из всех известных мне легенд Востока о любви тоже полузасыпана песками, перегружена множеством инородных «камушков»: среди осколков лишь угадываются очертания «прекрасного храма».
И мне захотелось самому проникнуть в тайны мастерства художников-реставраторов, возвращающих памятникам прошлого первозданную красоту, захотелось с помощью материала, обработка которого – мое ремесло, с помощью слова очистить легенду о Гарибе и Шасенем от песка времен, собрать и склеить все то, что раскрошилось в изустных пересказах.
Начал я с того, что стал выбирать лучшие словесные кирпичи и класть их на место: несколько чудесных по красоте камней «вытесали» переводчики А. Кочетков и Г. Шенгели. Использовал я и запись конца легенды, сделанную М. Лермонтовым.
Кроме тщательности, которой требовала эта работа, трудность была еще в том, чтобы соединить древние речевые обороты народной поэзии с простым языком человеческих чувств – так, чтобы они сплавились воедино, не мешая друг другу, иначе мозаика слов и звучаний заслонила бы человеческую историю, которая некогда так взволновала сердца и продолжает их волновать.
На свой страх и риск строка за строкой восстановил я тридцать две узорчатых словесных плиты, из которых состоит этот древний храм любви, с тем чтобы предложить его тебе и людям на обозрение.
Рукопись захватил с собой. Сегодня и завтра, дыша воздухом старины, подправлю, добавлю, если что-либо попросится на кончик пера, и привезу. Надеюсь, она доставит тебе удовольствие. Однако, печатая ее, вынужден буду вынести этот миниатюрный роман за рамки моего путешествия, иначе он величиной своей собьет ритм книги и сомнет ее конец.
На этом поставлю точку. Грустно думать, что путешествие кончается, весело думать, что скоро увижу тебя.
13 мая. Ташкент
До посадки в самолет еще полчаса. Приехал в аэропорт за час – зарегистрировать билет и сдать чемодан. Привык, чуть передышка – раскрывать «колибри», и вот пишу… Отгостился, отъездился. Пора и домой: за свой стол, за чистый лист бумаги, один вид которого влечет к работе.
Замечала ли ты: каждый год мы меняемся и забываем, какими были. Если бы не это спасительное свойство все забывать, людям было бы жить куда тяжелей. Да и разве можно глядеть назад, когда идешь вперед: эдак вывернешь шею, споткнешься, лоб расшибешь. Но раз в жизни, вероятно, каждому необходимо оглянуться, вспомнить все, увидеть себя со стороны.
Конечно, опыта с годами прибавляется. Вместе с тем со дна души выступают мели, и мы перестаем их замечать. Уходят увлечения юности, и остаются предрассудки души. Мелочи пятнают разум, личные обиды вырастают до вселенских масштабов. Человек боится трезво глядеть на мир, так как это угнетает надежду. Из-за предрассудков мы бываем почти не в состоянии разобраться – кто прав, кто виноват в каком-либо деле, потому что прежде всего спрашиваем о другом человеке, «кто он и откуда», и это закрывает суть дела.
Встреча с самим собой – со своим прошлым заставляет человека думать. Оглядываясь назад, ты свободен от уличных сплетен, зависти соседей, повседневных житейских забот – от всего, что из века в век отрывает человека от созерцания великого и дробит его дни, затемняет ум, ожесточает сердце. Время предстает перед глазами очищенным, освещается внутренним светом.
На своем веку мы видели всякое, всякое пережили. Но когда обнимаешь все взглядом, становится осязаемым главное: в Средней Азии в течение веков о человеке говорили: «Тугульды – ульды» – «жил – умер», так бесплодно проходила жизнь большинства людей. О моих сверстниках, современниках, этого не скажешь никак, они заполнили последние полвека таким количеством дел и событий, каких хватило бы не на одно столетие, и благодаря их труду человек переместился в центр жизни.
Теперь говорят: «Человек без любви – осел, человек без стремлений – глина». Именно этим – любовью человека и его стремлениями, свершенными и еще не свершенными, – ныне оценивается его жизнь. Вот почему, прощаясь со своим прошлым, отделяя его от себя, чтобы вновь повернуться к будущему, говорю: пусть будет труд, пусть будет счастье!.. И пусть будут и происшествия: ведь мы еще живем!
… Конец поездке, воспоминаниям: через семь часов – дома! И опять стану жить сегодняшним и завтрашним днем, как все, как всегда.
А пока… Хочу занять твой досуг небольшим романом о любви. Это легенда Средней Азии… и жизнь. Пусть это будет приложением к моим письмам.








