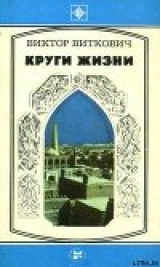
Текст книги "Круги жизни"
Автор книги: Виктор Виткович
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)
«Слеза»
«Слезой социализма» (сокращенно «слезой») величали жильцы новый пятиэтажный дом на улице Рубинштейна. Предназначен был для инженерно-технических работников (ИТР) и писателей. Задумали его как опыт строительства социалистической жизни. Кухни строить в квартирах? Боже упаси! Индивидуализм! Правда, одну на всех, кажется на третьем этаже, сделали на «аварийные случаи жизни» – именины вдруг или гости, одним словом, на «пережитки». А так завтраки, обеды, ужины – на первом этаже по талонам в коллективной столовой. Дежурить – по очереди, тарелки мыть тоже по очереди… Воспитание людей в духе коллективизма!
Эх, открыть бы в доме этом филиал исторического музея! Водить экскурсии: мол, вот как ошибались люди! Нет, не будет музея! Заглянул недавно в «слезу». Не выдержали жильцы! Перегородили коридоры: построили кухоньки, хоть темные, да свои! Детский сад в помещении бывшей столовой – единственное живое наследство социалистической фантазии архитекторов.
Что-что, а фантазерами – это да! – были! Пришел ко мне в «слезу» Левка Канторович, молодой художник, увлекавшийся функциональной раскраской: «Давай распишу!» Перед тем раскрасил стены и потолки в лечебнице для душевнобольных на Васильевском острове, выбирая цвета и оттенки, какие «согласно новейшей науке должны были успокаивать психику».
Отвел ему для эксперимента одну из двух моих комнатенок: «Малюй!» Ну и размалевал. Потолок черный, и мельчайшие белые точечки, как звездная пыль: «чтобы высота казалась бездонной!» Ну и смеялись же все! Зато одно Левкино изобретение всех покорило: внутренний переплет наружной рамы и простенок между окнами выкрасил в ярко-яичный цвет. Даже в самые пасмурные питерские деньки казалось – в комнату заглянуло солнце! И все же я предпочитал жить и работать в нетронутой «гением» Левки комнатке-крохотуле, где умещались только койка и стол. Как-то уютней без звездной пыли над головой.
Левка, Левка!.. Мечтатель и работяга, участник ледовых походов на «Сибирякове» и «Челюскине», он погиб в начале войны от пули финского снайпера-«кукушки».
«Вот пуля просвистела, вот пуля просвистела, вот пуля просвистела, и падает Фома…» Сколько раз ко мне в «слезу» заскакивал Боря Корнилов! Написаны новые стихи, не сидится на месте, всем приятелям надо прочесть! Волосы на пробор, татарский прищур глаз, с наплывшими на них веками, порывистый ритм, окрашенный волжским говорком: «Ох, давно не виделись, чертовы куклы, мы, – посидеть бы вместе, покурить махры, – вспомнить, между прочим, что были мы пухлыми мальчиками с пальчиками – не хухры-мухры…»
Оля Берггольц к тому времени уже ушла от него и поселилась в «слезе». Кто из нас мог подумать тогда, до чего высоко поднимется она как поэт. Испытав жестокие удары судьбы, похоронив близких, она обрела такой безыскусственный сильный и чистый голос, который стал живым голосом ленинградской блокады и покорил всю страну.
А Бориса видел совсем незадолго до его смерти. Захожу как-то в большой Мосторг на Петровке, натыкаюсь на него: вышитая рубашечка, крученый поясок с кистями. Обрадовался мне, ткнул пальцем в живот: «Помоги рубаху купить!» Выбрали ему очередную украинскую рубашечку по сердцу. На прощанье расцеловались. Оказалось, навсегда.
Вспомнилось… Году в тридцать втором забрели мы с Борисом в Александро-Невскую лавру. Ходили, глазели. В лазаревской усыпальнице читали надписи на могильных плитах осьмнадцатого столетия. Одну надпись (специально зашел в Лавру) списал: «Здесь покоится прах раба Божия корнета лейб-гвардии Уланского полка князя Платона Дадияна, внука Кации, владетеля Мингрелии, и Симона, владетеля Гурии… Сын нежный, друг верный, воин храбрый, соединял доблесть мужа с кротостью юности. Прохожий! Соедини слезы с молитвою…» и т. д.
Этот «прохожий» тогда рассмешил нас с Борисом. Какой может быть прохожий внутри маленькой часовни! И на некоторых других могилах военных, похороненных в Лавре, та же смесь риторики и сантимента. Напоследок заглянули мы с Борисом в Боровичскую церковь Лавры. Среди плит на полу белела мраморная: «Суворов». Не нужно перечислять ни заслуг, ни медалей, ни чинов, ни орденов. Все сказано именем! Молча постояли. Потом Борис сказал:
– Вот так лежать…
Не пришлось. Некуда плиту положить. Но том стихов в большой серии «Библиотеки поэта» почище этой плиты. «Что ты заводишь песню военную флейте подобно, милый снегирь…» Осьмнадцатый век, Державин, строка, которую Корнилов очень любил и которую прочел вслух, когда в тот день выходили из Лавры.
26 апреля. Под вечер. Чолпон-Ата
Сегодняшний день провел здесь… Отдыхали бы тут с тобой – купили бы акваланги и ласты, отправлялись бы на подводные прогулки. Интересно, какая походка была бы у тебя под водой? В Иссык-Куле ее можно было бы издалека разглядеть: так прозрачна вода.
Знаешь, расскажу тебе вот что… Более подходящее место вряд ли найдется, ведь Иссык-Куль – это естественная, созданная природой физиотерапевтическая лечебница. А пять десятков лет назад здесь гуляли эпидемии оспы, холеры и тифа: кожные болезни, трахома и малярия были обычны. И единственный практиковавший до революции на Иссык-Куле, в Пржевальске, врач писал: что «… киргизам лечебной помощи и не надобно, ибо кочевой образ жизни спасает их от грязи, а ежели по собственному нерадению они и подвергают себя болезням, на то у них искусно владеющие киргизской медициной бакши существуют».
Я видел бакши еще в 1929 году, и вот тебе о них мой рассказ.
Укротитель джиннов
Очаг топился конским пометом. Трехлетняя девочка таскала по юрте на толстом аркане кошку, уже смирившуюся с ролью куклы и мгновенно засыпавшую, едва веревка на шее ослабевала. Поглядывая в кастрюлю, стоявшую на треножнике, мы молчали. Мы – это «витаминная тройка». В кое-каких горных местностях Киргизии кочевники никогда прежде не видали фруктов и овощей. Питались мясом, молоком, изредка пользовались мукой и солью. Это было причиной некоторых болезней.
Желая покончить с этим, летом 1929 года надумали отправить в горы «витаминные тройки», в каждой – агитатор, повар и овощевод. Делом нашего повара, Александра Ивановича, было устраивать местным жителям угощение из овощных блюд, такое, чтобы понравилось и захотелось готовить самим. Мне, агитатору, вменялось в обязанность пропагандировать витамины. Третьим у нас был огородник Костя: он возил мешочки с семенами овощей, годных для высокогорного земледелия, и обучал киргизов выращивать огурцы, капусту, редиску, морковь.
В то утро, о котором речь, Кости с нами не было. Засветло ускакал за врачом. В углу юрты на ветхом ситцевом одеяле лежал больной комсомолец Урлакан. Всю ночь метался в бреду, под утро очнулся, позвал мать, увидел круги усталости под ее глазами, ничего не сказал и отвернулся. Потом вновь потерял сознание.
Ждали сразу врача и знахаря. Лечебно-санитарный караван двигался где-то по долине Джумгала – в сотне километров отсюда, и было ясно, что врач приедет не раньше вечера. Знахаря же, несмотря на наши отговоры, пригласили родители больного.
Этот известный бакши, носивший необычайно пышное имя Кулмамбет Ашымбай Есенджан Туре-гельды Ходжаев, жил неподалеку; за хребтом. И мы скоро услышали стук копыт его лошади. Пожилой, с насурмленными глазами и лицом, изрытым «желтым цветком» (оспою), бакши соскочил с коня, вынул из переметной сумы связку колокольчиков, прямой нож – ханджар, рукоятка которого была увешана пестрыми тряпочками, головной убор, весь в бубенцах, и многое другое.
Откинув с двери войлочную кошму, знахарь нагнулся и перешагнул порог юрты. Комсомольцу было хуже, порывисто дышал, хватался за грудь. Бакши уверенно подошел к Урлакану, пощупал пульс, потом осторожно, двумя пальцами вытянул его белый пересохший язык и покачал головой.
– Плохо, – сказал он по-киргизски и взял в руки комуз.
Жужжащие звуки струн полетели вдоль войлочных стен юрты, они как бы кружились, поднимаясь все выше, и вдруг на полутоне оборвались. Недоконченность мелодии, ее невысказанность томила, даже мы, сторонние люди, почувствовали своего рода озноб.
По приказанию знахаря родичи привели лошадь и барана, привязали с двух сторон юрты и просунули кончики веревочек внутрь. На этом приготовления были закончены. Тогда бакши опять схватил в руки комуз и заиграл угрожающую мелодию коркутуу.
Чистый, вибрирующий, сливающийся с говором комуза, голос знахаря вдруг вынырнул среди струн, он был едва слышен, потом усилился и перекрыл звучание инструмента: музыка превратилась в аккомпанемент. Бакши запел с легким присвистом песню, в которой угрожал злым джиннам Куленгера, засевшим в теле больного:
Куленгер, Куленгер, долговязый Куленгер!
Я сломаю твой шатер, налетев, как храбрый воин!
О, выходи же по дуновенью Сулеймана!
Знахарь качнул шеей, перья головного убора рассекли воздух, шарик покатился в щели бубенца.
… О насекомое с верблюжьей головой!
Я заставлю тебя выйти, не шути со мной!
И не терзай бедного больного!
Догадывались суеверные кочевники по поведению знахаря, что происходит: сидели в животе Урлакана джинны, выпуча глаза. Ладно! Не то еще будет.
… О, если я рассержусь, напущу морозу и снегу!
Окружу тебя лебедою и солянкою!
Огорожу тебя колючкой и отстегаю мятой!
О, выходи же, пока не поздно, по дуновенью Сулеймана!
– Берегись! – нечеловеческий крик разодрал юрту. Рванулись у всех, сжались сердца. Ударил бакши в
кожаный бубен, увешанный амулетами, и вскочил на ноги. Явился джинн Ергобень! Схватил бакши плеть и начал наносить удары невидимому Ергобеню. Острый кончик плети извивался в воздухе, разнося по юрте звонкие щелчки. Не выдержал Ергобень? Видно, больно ему стало! Выпрыгнул он через верхнее отверстие юрты! А на выручку ему летит джинн Козбембет! Он несется в синей повозке на высоте пяти пик!
– Берегись!.. – Рокот колокольцев покатился Козбембету навстречу, заглянул он внутрь юрты, смотрит: сабля описывает круги над очагом, огнем горит лезвие. «Ладно, – думает, – полечу-ка я лучше домой, раз такой искусный бакши в этой юрте…»
Слушали родичи больного, догадывались по разговорам и выкрикам знахаря, что происходит, бледнели от страха. Сидели в животе Урлакана джинны, выглядывали из-за печени, еле переводя дух. Ладно! Не то еще будет! Схватил бакши ханджар, сжал пальцами рукоятку. Затрепетали тряпочки, заколотились колокольчики.
Медленно стал бакши наклоняться, нацеливаясь ножом в живот комсомольца. Тишина заполнила юрту, переливаясь через край. Дыхание остановилось в гортанях. Заговорил знахарь глухим голосом:
– О мухоротая змея величиной с остов юрты, ну тяни!..
Тонкий свист покрыл конец фразы. Кольнул ханджар в обнаженную полоску живота.
– Ай, как джинны в голову побежали!.. О, сивая змея, толщиной с дверной порог, ну, тяни!..
Кольнул ханджар в бледный висок.
– Ай, как джинны в живот побежали! Не уйдут джинны – помирать Урлакан будет, я говорю!
И стремительно начал бакши колоть комсомольца ханджаром в живот, в грудь, в ноги, в голову, в руки: это значит, заметались внутри Урлакана джинны. В бешеной пляске носилась рука с ножом, прикасаясь к телу больного. Свист вырывался из посиневших от напряжения губ знахаря, разрастаясь сильней и сильней, холодной струею обтекая потные тела сидящих.
Лежал комсомолец, хрипя и корчась.
– Гайда!.. Гайда!.. – плюнул знахарь в глаза ему. – Берегись!
Судорожно выпрямился бакши и ударил в кожаный бубен. Бросился бакши к двери, загородив ее своим туловищем. Размахнулся бакши ханджаром. Ударил бакши в бубен еще раз… Это значит, испугались джинны и выскочили через рот из тела больного. Это значит, заметались джинны по юрте в поисках выхода… Но разве может такой знаменитый бакши упустить джиннов!
– Это я, Кульмамбет Ашымбай Есенджан Туре-гельды Ходжаев, который во дворце Сулеймана был! Это я, который стрелы врагов, как боорсаки, ртом глотал! Это я, бакши, имя которого от Аксая до Иссык-Куля как ветер носится!.. Гайда, гайда! Смотри, как один джинн по веревочке в рот иноходца влезает! Ай, джакши! Не будет больше тревожить больного. Гайда, гайда! Гляди, как второй джинн по веревочке в рот барана влезает. Джуда джакши!
Завертелся бакши на месте, глухо прозвенел бубен, колесом знахарь прошел по юрте, нагнулся и вдруг – вот ведь, оказался еще и акробатом – не выскочил, нет, а словно бы на крыльях вылетел в дверь.
Тишина глухая и торжественная наполнила юрту. Никто не смел пальцем пошевелить. Прошла минута… В двери появился бакши, спокойно вошел и стал собирать свои вещи. Тут только все почувствовали, как затекли поясницы, как болят шеи и ноют колени. Родичи Урлакана встали, начали разминаться, и все сразу заговорили громкими голосами. Они благодарили знахаря и удивлялись его умению. Они вышли вслед за ним из юрты и столпились вокруг его коня. Знахарь неспешно отвязал от юрты лошадь и барана, подвел их к своему иноходцу. Широко расступились люди перед «погаными» животными, внутри которых – это всем было ясно – сидели джинны. Кивнул бакши на животных:
– Поведу джиннов во дворец Сулеймана! Пусть посадит их на цепь!
Отец Урлакана поклонился знахарю. Мать стояла в двери юрты, утирая глаза рукавом. Бакши уехал, угоняя животных. Глядя вслед ему, Александр Иванович, наш повар, подморгнул мне:
– Дворец Сулеймана, знаешь где, – на атбашинском базаре.
К вечеру того же дня прискакал врач. И вот что интересно: родители Урлакана обрадовались ему не меньше, чем знахарю. Хоть такое сравнение теперь и странно звучит, хоть и не слишком уважительно по отношению к врачам, но тогда оно свидетельствовало об успехах советской медицины. Ведь новое обычно пробивается трудно. А старое… Говорили же прежде в Киргизии: «Каким бы горьким ни было то, к чему ты привык, отними его у тебя, и оно покажется тебе слаще яблока, слаще меда, таким сладким, как если бы ты с сахаром, урюком и конфетами пил вкусный чай ценою в десять рублей фунт».
Не знаю, выздоровел ли комсомолец Урлакан: в тот же вечер наша «витаминная тройка» двинулась дальше из долины в долину и уже не возвратилась в этот аил.
У этого рассказа есть еще один конец совсем из другой жизни, вот он:
Н. Тихонов – не за столом
Я напечатал рассказ в 1930 году в журнале «Звезда». Редактором «Звезды» был Николай Семенович Тихонов. Редакция находилась в Ленинграде, на Невском, в Доме книги. На всю жизнь запомнил урок, который дал мне тогда Николай Семенович.
Он никогда не принимал авторов в кресле за редакционным столом, чтобы не создавать обстановки официальности, а сидел на подоконнике, сидел боком, по-кавалерийски, будто под ним седло, сидел сухощавый, подтянутый, попыхивал трубочкой и разговаривал. Рукописи он читал дома. Когда автор приходил за ответом, прежде всего говорил «беру» или возвращал рукопись: если возвращал – объяснял почему, если «беру» – протягивал ее, испещренную пометками, чтобы автор у себя дома внимательно ее перечел в свете замечаний.
Ты спросишь нетерпеливо: «А в чем же урок?» Погоди, не торопись, урок вот в чем… Когда автор, прочтя рукопись с пометками, возвращал ее в редакцию с исправлениями, Николай Семенович больше в нее не заглядывал, а отправлял в типографию так, как порешил автор – все равно принял или не принял тот его предложения. Он отлично понимал: можно дать совет, но нельзя научить им воспользоваться. А главное… Нельзя, чтобы автор (в особенности молодой) потерял веру в себя.
Пусть читатель поворчит, что не все гладко, лишь бы у автора, сбитого с толку, не появилась капля отвращения к собственному труду, которая, однажды родившись, никогда не даст ему создать ничего значительного. Молодой автор должен верить в себя, в муках находить каждое слово, единственное, неповторимое. Тогда есть надежда, что пройдет время – труха осыплется, и вычеканится мастерство. Других путей к нему нет. А уж получится ли из молодого автора мастер или не получится – это, как говорится, дело его личной биографии.
Тихонов опубликовал в «Звезде» три моих киргизских рассказа. В них было, теперь вижу, много чрезмерностей, взять хотя бы такие фразы из «Укротителя джиннов»: «Пузырьки недоконченных звуков громко лопались в тишине, наполняя юрту тягостным желанием», или: «Яд заливал его ребра. Мысли его не могли прорваться сквозь тесную марлю сознания». Или; «Громко, как средневековые пушки, палили сердца». Плохо? Еще бы. Напыщенно. Тихонов увидел это и подчеркнул. Я не принял, а теперь стыдно читать.
Еще со школьной скамьи в Ташкенте помню простенький физический опыт. Наливаешь воду в стакан, бросаешь соль – щепотку за щепоткой, размешивая. Соль растворяется, раствор насыщен. Последняя крохотная щепотка! И вся соль в стакане на твоих глазах превращается в кристаллы.
Не так ли и мы… Живем, вбираем в себя все, что можно вместить, перебегаем от одной дневной заботы к другой, от одного увлечения к бесчисленным другим, и при этом ведь не думаем: мол, «накапливаю жизненный опыт!». Из-за вороха дел, встреч и болтовни, надежд, радостей и обид – целого не видишь. Но наступает день – последняя щепоть! – и все накопленное вдруг начинает кристаллизоваться.
Сколько моих друзей и знакомых, не успев сверкнуть, сгорели как метеоры! Немногие добираются до вершины того, что могут сделать. В юности время не ставишь ни в грош. Инстинктивная вера в собственное бессмертие да погоня за романтическими видениями давали нам возможность прожигать дни, запас их, казалось, неисчерпаем.
Впрочем, сделайся в сто раз мудрей, пока жив, все равно будешь гнаться за романтическими видениями. Вот и сейчас стоит перед глазами, не дает мне покоя воспоминание о другом друге, Мише Лоскутове, талантливом писателе, влюбленном в Среднюю Азию, погибшем в Отечественную войну. Гонясь за романтическими видениями, он проделывал своеобразные опыты. Вот хотя бы…
Было, если память не изменяет, в 1934 году. Миша вместе со своей Леной прикатили в Одессу. Остановились в «Красной» гостинице.
Шутка судьбы
За столиком ресторана Мишка разговорился с профессором-психиатром. В Мишкином сердце жил журнализм: любил все испытывать сам. Упросил профессора, чтобы тот денька на три положил его в лечебницу как психа. Условился, чтоб никто из персонала не знал. Заманчиво побывать в чужой шкуре. Хотел написать очерк для «Наших достижений», основанного Горьким журнала, в котором сотрудничал Миша. Прошло несколько дней.
Впечатлений с три короба. Пора обратно в «Красную» к Лене. Просит сказать профессору: больной спрашивает его. Обнаружилось: профессора нежданно-негаданно вызвали в Москву, улетел. Вместо него пришел врач:
– Хорошо, больной, выпишем.
Подождал с полчасика, опять вызывает врача:
– Понимаете ли, я сюда сам, собственной волей. Захотелось жизнь поглядеть. Я писатель…
– Хорошая профессия, – одобрил врач.
– Не верите? Можете справиться…
– Боже меня сохрани не верить. Я верю всем больным. Сейчас выпишем. Ждите спокойненько.
Еще час, и два, и четыре… Мишка заволновался. Начал уже другому врачу (тот сменился) объяснять, как вышло дело. Добро бы врач опровергал! Нет! Со всем соглашался! Мишка понял: скажи даже, что он прилетел с Сатурна, или что он троюродная тетка Ричарда Львиное Сердце – врач не станет возражать. Тетка так тетка! Выписать? Пожалуйста! Только чуточку подождать! Самую малость!
Миша не выдержал, разорался. Санитары тут как тут: перевели в «буйное». Там нагляделся и натерпелся столько, что пришлось помалкивать: авось профессор в Москве вспомнит о нем. Не вспомнил. Видно, здорово заморочили ему голову в наркомате! Вспомнила, забеспокоилась Лена. Отправилась в лечебницу, терпеливо объяснила: муж на самом деле журналист!
Врач ей втолковывал: родственники часто стараются вызволить близких, а оборачивается это бедой. Рассказал о течении болезни: какие грозные симптомы в последние дни! В конце концов под личную ответственность (Лена дала подписку) выпустил Мишку, но Лену так запугал, что уже в гостинице она всю ночь не могла сомкнуть глаз: нет-нет, взглянет на Мишку, а вдруг и впрямь псих!
27 апреля. Санташ
Сижу на камне. Машинка на коленях. От мокрых скал идет пар – только недавно отсюда ушло облако. Солнце такое сильное, что приходится сидеть к нему спиной: сидел бы лицом – письмо могло бы мне стоить ожога. В стороне грязные полосы обледеневшего снега, от них поддувает холодом. Из-за ближней гряды гор выступают далекие вершины, одетые в снежные мантии. Едва слышится пение альпийского жаворонка, серебристое, как снег. Вот и решил с тобой поговорить здесь. А то вернусь в Пржевальск, окунусь в тишину теплого повечерья, и мягкость воздуха, его ласковость не дадут мне досказать все, о чем хочется сейчас написать.
Перевал, где я сейчас, называется Санташ – Считанный камень. Так именуют здесь и холодный восточный ветер, который дует с этого перевала на Иссык-Куль.
Вот он передо мной – высокий холм из камней. Знай же: это не холм, а памятник, его камни ведут печальный счет. Рассказывают: когда Тимур шел в поход на горцев-язычников, он повелел каждому воину взять в руки камень и положить в кучу. Выросла большая гора. На обратном пути, возвращаясь с победой, воины Тимура сняли по камню и унесли с собой в Самарканд. Прошел последний воин, а гора осталась: остались камни убитых в походе. Так погибшие сами сложили себе памятник.
Есть на свете наследники Тимура, ищущие себе славы на путях войны. Презрительная киргизская поговорка говорит о них: «Если не сумел прославиться, подожги землю».
Сегодня с утра ехал рейсовым автобусом вдоль Иссык-Куля; когда дорога подходила к самому берегу, рядом по озеру бежало отражение солнца – вытягивающееся в струну на волнах, круглое и ослепительное между ними; потом, по долине, изрезанной холмами и ручьями, катили сквозь черноту пашен, побродил по Пржевальску, взял такси и приехал сюда. Сговорился с шофером грузовичка сыроваренного заводика «Санташ», что прихватит меня вечером в Пржевальск, отпустил такси, а сам по горной дороге поднялся на перевал.
Но прежде чем рассказать тебе, что меня сюда привело, послушай об Отчаянном тигре.








