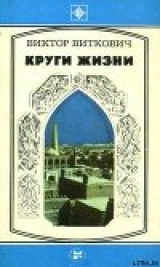
Текст книги "Круги жизни"
Автор книги: Виктор Виткович
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 22 страниц)
Круги жизни
Повесть в письмах
Пойми значение
сменяющихся дней.
Чем ты внимательней,
тем речи их слышней.
Абу-ль Аля аль-Маарри

Пока мы откладываем жизнь, она проходит. Среди прошедших дней у меня было немало таких, о которых хочется рассказать. Настал день, когда решил вернуть их, вспомнить и поехал в милый мне край. Сколько ни пробовал оторвать его от сердца – не могу; пробовал, потому что уводила жизнь, не могу, вероятно, потому что все там в меня вросло.
Порок многих путевых рассказов (и моих) в том, что они неизвестно к кому обращены: ко всем, а значит ни к кому. Автор представляет себе читателя как некое туманное пятно, и интонация его неразборчива – неизвестно, как разговаривать с туманным пятном, где улыбнется оно и способно ли вообще улыбаться. Когда же обращаешься к близкому человеку – тут уж знаешь до тонкости, как писать и о чем, как отзовется на каждое слово. И если книга интересна одному человеку, наверно, будет интересна если не всем, на всех никто не может рассчитывать, но многим.
Случилось так, что, когда уезжал, у меня появилась острая потребность заполнять письмами чужой досуг, Я стал писать с дороги, две задачи соединились в одну, и пачка писем превратилась в книгу рассказов.
6 апреля. Ташкент
Ну вот я и за тридевять земель. Огорчена? Вздохнула с облегчением? Если бы знал! Как ни странно, уехал легко. А казалось: никогда не смогу с тобой разлучиться!.. Видишь ли, люблю Среднюю Азию, как люди любят свое детство. Здешние краски, запахи сводят меня с ума, особенно сейчас, весной.
Ночью была зима. Автобус привез меня на аэродром, дул ледяной ветер, я был в летнем пальто – не ехать же в теплом? – и совершенно продрог. Среди кучки заснеженных, поднявших воротники москвичей стоял я возле самолета и, проклиная ветер, ждал, когда наконец подвезут трап.
Подумал: хорошо, что не провожаешь, чего доброго, простудилась бы… И укол в сердце: «Не проводила!»
Останавливаю себя: когда вспоминаю количество глупостей, за последние месяцы сказанных мною тебе, только чтобы не молчать о том, что у нас с тобой делается, прихожу в отчаяние. Теперь твердо решил: о том, что у нас с тобой, – помолчать. Тем более что и охоты говорить об этом сейчас нет.
Как ни странно, совершенно перестал думать о тебе в ту минуту, когда вошел в самолет и сел в кресло. Сказал себе: «Утром – весна!» Весна! И в памяти возникли стихи, что с юности привязывались в первый день каждого путешествия:
О, как сердце пьянит желанье странствий!
Как торопятся ноги в путь веселый!..
Милый Катулл! Перед этими двумя строками есть такая: «Мы к азийским летим столицам славным!» Сегодня она как нельзя кстати, мы действительно летим к азиатским столицам – для начала в Ташкент! «О, как сердце пьянит желанье странствий…» Самолет набирает высоту. Второй час ночи. Летим в тучах. За круглым окошечком-иллюминатором чернота: ни небесных звезд, ни земных; на языке леденец, в груди счастливая дрожь путешествия. И что удивительно – тебя нет, просто нет, и все. Впрочем, еще Стендаль говорил, что в самой сильной и самой несчастной любви бывают минуты, когда человеку кажется, что он больше не любит. Размышляю об этом, никак не заснуть…
Наконец глаза стали слипаться, но тут стюардесса принесла яблочный сок. Ритуал!.. Вновь стал засыпать. Стюардесса опять разбудила: пора есть! Все развернули полиэтиленовые мешочки – извлекли вилки и ножи! Сок, салат, булочка, масло, потом принесли чай.
А за окном стало светлеть: в пепельно-голубом где-то далеко внизу родилось розовое озеро… Неземной пейзаж! Розовое озеро рассыпалось на розовые полосы, потом утонуло в голубом. Голубое светлело, светлело, пока не сделалось белым: летели в сплошной белизне. Минут за пятнадцать до посадки, совсем недалеко от Ташкента, увидел несколько крошечных домиков – селение в степи, и только тогда понял, что белое внизу – это снег. Какая поздняя весна! А белое наверху – облака.
Но облака раздернулись, сквозь их дымные края глянула голубизна неба. Снег внизу тоже разлезся на клочья, зазеленела степь. Мы пристегнули ремни, и, когда опять повернулись к окнам, уже от белого не осталось и следа. На нас наплывал Ташкент – близкие и далекие цепи деревьев, сутолока на шоссе и подъездных путях железных дорог; над крышами зданий, сверкавших на солнце, – заводские дымы. Здравствуй, Ташкент!
Промчался через город в такси. На окраине в садиках цветут вишни, цветут с яростной силой. Зелень на улицах еще робкая, некоторые деревья совсем голы, но путаница веток вся испятнана набухшими весенними почками. Кое-где цветет иудино дерево: густо посаженные, яркие сиреневые цветы, прижатые к самым ветвям, как на японских картинах. На углах в корзинах продавцов – тюльпаны, огненно-красные. Весна! Запоздавшая, но все же весна!
И вот Авиационный проезд, тупичок, калитка… Знаю, найду здесь приют при любых невзгодах, как и прежде, при Алексее. Нет хозяина, неистощимого в шутках; не встретит меня на пороге, не услышу возгласа «Виталий!», не обниму. Его Галя, излучающая доброту, осталась одна. Услыхав звонок, она просовывает мне в окно ключ от калитки…
Сидим с нею на шипанге – открытой, почти на уровне крыши площадке, осененной старым урюковым деревом, – не наговоримся. Потом Галя занялась хозяйством. А я устроился в садике и пишу тебе. За последнее время между мной и тобой выросло столько лишних слов, что о жизни мы как то разучились разговаривать. Не могу примириться с мыслью, что это конец. Мне кажется (можешь посмеяться над этим), что мы, в сущности, ни разу с тобой о жизни и не поговорили. Сперва понимали друг друга с полуслова и наслаждались этим, так что договаривать было ни к чему. Потом то в одном, то в другом не вполне сходились, и возникали обиды: «Ты меня не любишь, если я перестала (перестал) быть для себя совершенством».
Вспомнил строки ибн-Хазма на сей счет, не поленился, сходил в дом, разыскал на полке у Гали «Ожерелье голубки»:
«Мы видим, что когда влюбленные одинаково любят и их любовь крепко утвердилась, учащаются между ними беспричинные приступы гнева, и умышленное противоречие в словах, и нападки друг на друга из-за всякого малого дела, и каждый из них наблюдает за каждым словом, которое проронит другой, и толкует его не в том смысле, – все это для проверки, чтобы выяснить, что думает каждый из них о другом. Разница между этим и настоящей неприязнью – в быстроте прощения».
Тысячу лет назад сказано. Невольно приходит на ум: сколько нас было за эту тысячу лет! Почему же за такой срок мы ничему не научились? Почему каждый раз все сызнова?! И неужто надо уехать за три тысячи километров, чтобы суметь тебе рассказать обо всем интересном, что было в жизни?!
7 апреля. Ташкент
Сегодня с утра шестнадцать раз принимался идти дождь. Кто-то, не помню кто, сказал: «Слезы – высшая степень улыбки». Как все шестнадцать раз улыбалось солнце после дождя! Удивительная для Ташкента погода. Отоспавшись после ночи полета, решил утром пройтись по местам моего отрочества.
Сперва отправился на улицу Фрунзе, прежде Долинскую… Одноэтажные особнячки, садики, окна в белых решетках. Вдоль уличных арыков – ряды тополей, белой акации. Смешно! Привык быть с тобою рядом: шел, и моя рука то и дело рвалась куда-то в пустоту – помочь тебе перепрыгнуть арык или перейти улицу, а то и просто чтоб притронуться и привлечь твое внимание к чему-нибудь. Тебя нет, а я тебе говорю: «Смотри! Здесь я жил».
Вон там, в глубине двора, у того сарая мы с увлечением играли в «ножички»; ножик должен был воткнуться в землю, выходя из замысловатых фигур. Нам было по четырнадцать лет. На макушках тесно росших позади сарая тополей мы играли в пятнашки: раскачиваешься на верхушке тополя – ухватишься за соседнюю, переберешься. Отрочество не знает ни головокружений, ни страха. Запрещения взрослых на нас не действовали, спортивный азарт был сильней.
Как-то раз все же сорвался с макушки тополя, летел вниз, обламывая по пути ветки. Они меня и спасли – амортизировали падение. В придачу упал в большой арык, да так, что туловище оказалось в воде, а голова на берегу. Лежу на спине, чувствую – не могу пальцем пошевелить, хочу крикнуть – не могу звука издать. Вот натерпелся страху! Прошло несколько минут, холодная вода, обтекавшая тело, вернула мне движения и речь.
Здесь, на Долинской, на меня возвели первую в жизни напраслину: соседи обвинили меня в том, что украл деньги, которые они почему-то спрятали где-то снаружи – не то под лестницей, не то в водосточной трубе. И хотя денег я не крал, мне никто не поверил. «Кому же еще украсть?! Беспризорник!»
Действительно, после смерти матери и отца беспризорничал. В Одессе, Потом, играя на ложках и подкармливаясь в красноармейских продпунктах, пересек Россию и приехал в Свердловск (тогда Екатеринбург). Разыскал сестру, которая жила с мужем и со своей матерью, первой женой моего отца. Они приютили меня, но вскоре переехали жить в Ташкент, а я остался на время в интернате. Перезимовал и в конце мая сбежал в Ташкент. Было это на хвосте той волны, что ринулась в «Ташкент – город хлебный» в дни поволжского голода.
Меня подобрал в пути военный фельдшер – переезжал из Челябинска на службу в Туркестан с женой и двумя детьми: две недели ехал с ними в раскаленной от июньского солнца теплушке. Не помню, к сожалению, ни имени, ни фамилии этого человека. Запомнил только, что дочку его звали Светланой, в ту пору уже стал заглядываться на девчат.
Сестра моя жила на Долинской, у нее и поселился. Спустя некоторое время мужа ее перевели в Москву. Они уехали, я остался в Ташкенте кончать школу и перебрался на Ниязбекскую, в сарайчик, стоявший в обширном саду. Сейчас там давно нет ни сада, ни моего сарайчика – большие дома, так что идти туда ни к чему.
Сарайчик был романтическим жильем. В углу был деревянный топчан с матрацем, покрытым тонким одеялом, а на стене висело расшитое цветными нитками сюзане – единственное мое богатство. Каждый вечер, ложась спать, проверял, нет ли за ним скорпионов. Где-то услыхал: если в помещении убить скорпиона, непременно приползет другой – мстить. Поэтому, обнаружив скорпиона, смахивал его на земляной пол, потом ботинком или веточкой вышвыривал в сад и убивал уже вдали от сарайчика.
Однажды нашел в постели змею, правда, это оказался безобидный полоз. Со змеями, надо сказать тебе, обращаться умел, мы, ребята, частенько ходили на речку Чирчик ловить их, палкой с рогулькой прижимали шею змеи к камням, хватали ее руками и засовывали в пустую банку. Змей продавали в музей и в университет.
Поселившись в сарайчике, я стал жить сам по себе. В школу ходил во вторую смену, по утрам зарабатывал: продавал «Туркестанскую правду», собирал в садах фрукты. Раз даже нанялся отогнать шесть лодок по Сырдарье от Чиназа до Казалинска: две недели с приключениями плыл один среди камышей великой среднеазиатской реки.
Был случай, когда даже намеревался бросить работу. На Воскресенском базаре, примерно там, где сейчас взлетает фонтан против оперного театра имени Навои, среди торговых помещений бойко вертелась рулетка. Азартные игроки ставили на номера механических лошадей. Это давало шанс на крупный выигрыш, но можно было ставить на чет или нечет, в этом случае выигрыш был скромный: только удваивалась поставленная сумма.
Хотя, ты знаешь, я не силен в математике, все же сообразил: если ставить все время на чет – в конце концов должен же выпасть выигрыш! Тогда одним махом верну проигранное плюс чистый выигрыш. После этого надо не зарываться, начинать вновь с двадцати копеек.
В первый же вечер этим беспроигрышным способом выиграл рублей пять – деньги, на которые по тем временам мог кормиться неделю. На следующий вечер дело пошло еще бойчей… Но тут хозяин тотализатора (были годы нэпа!) вывел меня за ухо из своего заведения:
– Если ты, мальчик, попробуешь прийти еще раз…
Не договорил и так скрутил мое ухо, что и без слов можно было догадаться, что меня ожидает. С тех пор понял: азартные игры рассчитаны на дураков.
На том месте, где сейчас красуется здание гостиницы «Ташкент», мне в те годы крупно повезло: выиграл в лотерею корову. Подгоняя ее ремешком, вышел на улицу, совершенно подавленный свалившимся на меня счастьем и смущенный – не знал, что делать с коровой. Больше всего боялся, что меня с нею увидят товарищи, поднимут на смех. Спасли перекупщики, догнали нас – меня и корову, отдал им ее почти задаром.
Существовали и другие развлечения.
В те дни ташкентцы увлекались партерной борьбой. В цирке выступали «красная маска», «черная маска»… Настоящим торжеством был день, когда борцы маски снимали, в этот день все устремлялись в цирк. Сами мы боролись во дворах, честно следуя правилам. Но про цирк ходили упорные слухи, что там борются не всерьез, что там сделки. Эти слухи бередили нашу подозрительность и отравляли удовольствие от зрелища. Мы были так ими раздражены, что хватило пустяка, и негодование взметнулось фонтаном.
Нашей жертвой стал «факир-гипнотизер» с каким-то немыслимо пышным индийским именем: его афиши были расклеены по городу. Я собрался пойти на него посмотреть и сказал об этом Яшке – взрослому парню, жившему по соседству. Яшка как-то двусмысленно на меня поглядел и рассмеялся.
– Чего смеешься?! – насторожился я, готовый обидеться и дать в ухо.
– Да какой он факир, – сказал Яшка. – Он только для блезиру факир! – Яшка рассказал, как этот самый факир вчера встретил его возле гостиницы и нанял: вечером в цирке факир вызывал «желающих» из публики, и Яшка с какими-то еще двумя, как было уговорено, выскочили на арену и по приказанию факира то «засыпали», то «просыпались» и получили за это по червонцу.
Жил у нас на улице Митька. Несмотря на великовозрастность (было ему лет двадцать), почему-то играл с нами в «ножички» и другие мальчишечьи игры. Был куда сильней нас, поэтому, не сговариваясь, мы признали его вожаком. Дали ему прозвище Цар: отсутствие мягкого знака придавало на наш слух этому титулу особенную значимость. Я привел Цара к Яшке, и тот все ему повторил.
Мы решили факира разоблачить, уговорили Яшку наняться еще раз, оповестили заранее ребят с нескольких улиц. Предвкушая скандал, они устремились в цирк брать билеты. Нанявшись к факиру, Яшка стал проявлять нерешительность.
– Ребята, – говорил он жалобным голосом, – а может, не надо, а?
Опасаясь его измены, мы со своей стороны собрали деньги. И Цар вручил ему червонец, чтоб уж наверняка нас не продал.
И вот сижу в цирке в первом ряду рядом с Царом, поглядывая на знакомые лица, рассеянные среди публики. Чувствую себя тайным режиссером предстоящего: придумал-то все я. По ту сторону арены сидит Яшка и почему-то упорно разглядывает свои ногти. Кончается первое отделение: на акробатов и дрессированных собачек никто из нас и не смотрит.
Наконец второе отделение! Выходит факир под звуки восточной мелодии. По тому, как преувеличенно-изящно раскланивается, я сразу смекнул: одессит! На голову намотана чалма непомерной величины, в нее воткнуто серебряное перо, с плеч свисает роскошный шелковый халат: индийский набоб, да и только! Сообщив публике как величайшую новость, что гипноз признан наукой, сославшись на Льва Толстого, Ганди и академика Павлова (тогда была мода все сомнительное подпирать научностью), факир спросил, нет ли желающих подвергнуться гипнотическому опыту.
Наш Яшка и еще двое проворно метнулись на арену и уселись на три заранее поставленных стула, так что, если бы нашелся четвертый желающий, ему просто не на что было бы сесть. Наше возбуждение нарастало. «Тебе интересно слушать меня?» – спросил бы сейчас тебя, ежели ты и впрямь была б рядом. Знала бы только, какое для меня удовольствие рассказывать тебе о своем отрочестве!
Итак, Яшка сидит на стуле, факир стоит перед ним и проделывает серию пассов. Я захихикал, меня свирепо ткнул в бок толстяк сосед. Прошло минуты три, все трое заснули. Все трое! В том числе и Яшка! Это было непостижимо. Наш Яшка заснул! С закрытыми глазами он делал все, что приказывал факир: брал себя рукой за нос, становился, прижав к заду стул, на четвереньки, лаял по-собачьи… Мрачно глядя на Яшку, Цар прошептал:
– Взял червонец и хочет еще у него получить! Гад!
Факир предложил кому-нибудь выйти на арену – проверить, как спят загипнотизированные: это тоже входило в программу. Цар перескочил барьер раньше, чем кто-либо успел опомниться, подбежал к Яшке – и ему на ухо:
– Если сейчас же не бросишь дурить, получишь раза!
Яшка знал, что такое «раза»: за гнусный проступок против товарищей каждый имел право один раз наотмашь ударить виновника по лицу. Ребят, замешанных в эту историю, была добрая сотня, ни один не отказал бы себе в удовольствии ударить как следует. Заметив перешептыванье, факир подскочил к Яшке, повелительно крикнул:
– Спать!
Тут Яшка встал со стула и сказал:
– И все это, граждане, один сплошной обман и враки!
Воодушевившись, наши ребята повскакивали с мест, со всех сторон понесся свист. Непосвященная публика требовала не мешать гипнотизеру. Взметнулся скандал, истошные вопли ребят и голоса взрослых смешались в общем крике. Воспользовавшись суматохой, один из «загипнотизированных» улизнул. Третий, розовощекий паренек-рабфаковец, встал со стула и чистосердечно признался, мол, факир и его нанял: червонец-то на земле не валяется! Факира уже хотели бить… Неожиданно он бросился бежать по проходу, кто-то рванулся за ним… Но он подскочил к билетерше, сидевшей у двери, громким голосом крикнул:
– Спать!
Билетерша сразу заснула. На высоко поднятой руке факир понес ее по проходу на арену, это вызвало замешательство, зал стал затихать, ожидая, чем все кончится: видать, дошлый человек был этот факир! Он поставил на расстоянии спинками друг к другу два стула. Положил билетершу, словно бревно, головой на одну спинку стула, ногами – на вторую, и принялся ей на живот громоздить гири одну тяжелее другой. Несколько негодующих воплей ребят захлебнулись, потушенные сидящими рядом людьми: они заплатили за билет и хотели досмотреть все до конца. Сеанс гипноза продолжался…
Так и осталось неясным, на чьей стороне победа. Правда, назавтра в газете напечатали фельетон, разоблачавший факира. Говорили, после этого он ходил к прокурору, показывал опыты гипноза, требовал опровержения. Опровержение опубликовано не было, и факир покинул Ташкент.
Не помню, рассказывал ли тебе: в те годы мне довелось видеть и настоящего индийского факира – в Старом городе, в азиатской части Ташкента. Как-то раз бродили мы по глиняным улочкам, похожим на русла высохших арыков, и попали на маленькую площадь, куда со всех сторон стекался народ. Оказалось: ждали выступления факира. Он сидел у водоема в тени карагача. Зрителями наполнились даже плоские кровли окрестных домиков.
Со мной был Ванюшка Плеханов: жил на Обсерваторской, недалеко от меня, учились в одном классе, вместе слонялись по Старому городу, вместе в Новом городе участвовали в мальчишечьих драках – несколько улиц на несколько улиц. У Ванюшки была страсть к химии. Из бертолетовой соли, красного фосфора и еще чего-то он научился делать «бомбочки»; разрывались они с устрашающим грохотом и огнем, пугая всех, но не принося вреда. «Бомбочки» подарили нам сокрушительную победу в очередной драке. Позже, во время одного опыта, случился взрыв на моих глазах. Ванюшке опалило грудь и лицо (мизинец его я отыскал между рамами окна), но он остался жив и выздоровел.
Так вот, вместе с Ванюшкой примостились мы в первом ряду, лежа на животах, чтобы не мешать смотреть сидящим на земле узбекам. Факир показывал классический номер массового гипноза – выращивал манговое деревце. Посадил в землю семечко, на наших глазах оно проросло, вытянулось в деревце, деревце расцвело, лепестки опали, набухли плоды, налились, созрели. Наконец факир сорвал с деревца несколько плодов и швырнул в толпу, нам с Ванюшкой посчастливилось поймать один плод и полакомиться. Потом всю жизнь помнил вкус манго. Много лет спустя, когда впервые в банках привезли к нам из Индии сок манго, и ты – помнишь? – дала мне попробовать, безошибочно узнал знакомый вкус. Ты на миг мне вернула одно из восхитительных воспоминаний отрочества.
Бродить по Старому городу было в ту пору огромным для меня удовольствием. Перейдя Урду, где стояли лотки продавцов хлебных лепешек, мы переносились в сказку «Тысячи и одной ночи». Правда, на главной улице, шедшей отсюда в глубь Старого города – на Шейхантаурской, – уже громыхал трамвай: ходил по одной колее, останавливаясь на разъездах. Людям, трусившим на ишачках, приходилось сворачивать от трамвая в переулок: так узка была Шейхантаурская. В остальном это был средневековый город.
Женщина-узбечка бесшумной тенью скользила вдоль улочки, плотно закутанная в паранджу, с опущенной на лицо черной волосяной сеткой. В годы отрочества не видел лица ни одной узбечки, и под каждым покрывалом мне чудилась красавица: застенчивость ни разу не позволила мне заглянуть под покрывало, чтобы опровергнуть это или подтвердить.
Муэдзины с минаретов призывали правоверных на молитву протяжными криками, и прямо рядом с горном расстилал молитвенный коврик кузнец, и базарный цирюльник, пускавший за деньги людям кровь, прерывал врачевание, чтобы склониться перед аллахом. Интересно было ходить по базару. Чего-чего не увидишь!
То в прохладе крытого шелкового ряда любуешься, как полумрак прорезают сверкающие мечи солнца, выхватывая из темноты яркие краски на чалмах и халатах идущих. То наблюдаешь, как базарный поливальщик разбрызгивает из бурдюка воду, да так бережно и искусно, что каждая ее драгоценная капля падает отдельно и, подобно капельке ртути, закатывается в пыль. То натыкаешься на каландаров – странствующих монахов ордена нищих: гнусавя молитвенные стихи, ходили они стайками по базарным рядам, с чашками для подаяния из скорлупы кокосовых орехов, в лоскутных халатах, в остроконечных шапках с меховой оторочкой. То следишь в чайхане, как разгораются страсти вокруг перепелиных боев, а в стороне какой-нибудь франт перематывает чалму, и ему помогает знаток неторопливым советом. То останавливаешься возле писца: сидит с чернильницей, подвешенной на шее, выводит тростниковым пером арабские буквы, составляя для кого-нибудь жалобу или. любовное письмо. Женщины-узбечки в то время вообще не умели писать.
Рассказывают: когда узбечка тосковала по любимому, она вместо письма посылала пучок соломы и кусочек угля – хотела этим сказать: «Я без тебя пожелтела, как солома, и почернела, как уголь». Что, если бы в мое письмо к тебе я сейчас засунул уголек и соломинку?
Теперь-то понимаю: новое уже тогда врывалось свежим ветром в жизнь узбеков. Однако мы, русские ребятишки, приходившие в Старый город из Нового – европейской части Ташкента, – видели одежды, но не видели сердца Старого города.
И все же один случай неожиданно обнажил передо мной, с какой силой уже в ту пору ворвалось новое в жизнь, Но поставлю заголовок, сама суть требует, чтобы выделил то, о чем собираюсь рассказать.








