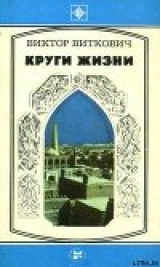
Текст книги "Круги жизни"
Автор книги: Виктор Виткович
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц)
Ошибка Сергея Эйзенштейна
– Если вы не видели драки в «Броненосце «Потемкине», считайте, что вы не родились на свет, – так он начал рассказ. – Товарищ Эйзенштейн снимал ее у нас на лестнице.
Драка – это вам не у дамского портного, она не делается на заказ. Зонтиком махать – это, видит бог, еще не драка. Ну, значит, мы деремся, выбиваемся из сил, А товарищ Эйзенштейн, всемирно известный корифей, говорит: «Смех разбирает от вашей драки! Вот что! Забудьте разные ваши там одесские штучки! А лучше вспомните, какие есть грязные слова! Все равно мой фильм – это Великий Немой, и ни одна приличная дама ваших слов не услышит. Покрепче ругайтесь! Да погромче! А ну, орлы!..» От его речи мы переполнились энтузиазмом, и посыпались такие слова, что я даже на ухо вам, простите, их не скажу: те слова, к которым прибивают доски, когда строят, извините, забор. И от этих слов такая началась драка, что Эдуард Тиссэ, знаменитый кинооператор, стал крутить ручку. И в итоге киноленте «Броненосец «Потемкин» бурно аплодировал земной шар.
Только одного товарищ Эйзенштейн не додул. Вдруг приходит ему письмо: «Я повел мою горячо любимую на ваш исторический фильм «Броненосец «Потемкин» и не ожидал хулиганства с вашей стороны. Она краснела и бледнела, и я вместе с ней досрочно покинул кинозал». Глухонемые! Представляете, номер? Эти несчастные читают по губам даже такие понятия, как «у попа сшит колпак не по-колпаковски». А прочесть на губах общеизвестные слова для них – это тьфу!
Беспризорник
Август двадцать первого. Еду в «Максимке» – поезде из девяноста с лишним вагонов четвертого класса: впереди два паровоза, посреди состава еще два паровоза-толкача. Где-то под Бирзулой взорван мост, поезда из Одессы в Киев идут кружным путем через Кременчуг. В вагоне веселье, хоть выбиты окна и гуляет ветер, а в животе урчит (есть хочется!), и вокруг все пропахло карболкой. Душа веселья – матрос, плечистый, щеголяющий ленточками бескозырки, перебирает лады гармони. «С дымом! – кричит матрос. – С дымом!» И все понимают, это значит: все прекрасно на свете.
На какой-то станции в вагон садится группа анархистов, деловито вытесняют всех из крайнего купе, разворачивают черное знамя, к полотнищу приклеены серебряные буквы: «Анархия – мать порядка». Матрос весело задирается: «Все валяете дурочку?» Анархисты не склонны шутить, молча выбрасывают его из купе.
К ночи все попривыкли друг к другу, утихомирились, опустили полки-нары, вагон превратился в трехэтажный барак. Огарок свечи в фонаре над дверью погас. Состав качал и тряс нас всю ночь, влезали на станциях какие-то женщины с мешками, билетов на южных дорогах в те поры не было, ехали по мандатам, по справкам, а то и просто так.
Темно, бледный отсвет станционного фонаря, кто-то пробирается по мешкам, возглас: «Осторожно, товарищ!» Сквозь перестук колес звонкий голос: «Марьюшка! Сало почем платила?» Кто-то третий: «Теперя расчет есть спички возить…» Рядом со мной на верхней полке (сели засветло) две женщины – худые, запуганные жены питерских рабочих. Держась руками за мешки, разговаривают шепотом, расспрашивают всех, что можно провозить, а что отбирают заградительные отряды.
Я тоже везу! Соль. Собравшись ехать в Екатеринбург, на Урал, разыскивать сестру, жившую там с мужем, внял чьему-то совету, смотался из Одессы на лиман, нагреб и насушил фунт соли, сказали: «В Киеве за фунт соли теленка дают!» Ну и решил: выменяю соль на шамовку – не помру в дороге с голоду. Когда греб соль в лимане, ноги так разъело, что недельку провалялся в подвалах Павловского. Отлежался, еду…
На рассвете – скрежет, грохот буферов! Вагон подскакивает. Откуда-то спереди многоголосый вопль ужаса. Мы бросились к окнам: на фоне светлеющего горизонта всадники, нацеленные на нас пулеметы. Всадники подскакали, спешились. «Швыдче! Швыдче!» И уже грохочут прикладами в дверь вагона: «Выдчиняй!»
Ворвались в вагон. Перво-наперво выгнали без вещей женщин и ребятишек: меня с ними – хоть и тринадцать лет, а низенький и говорил дискантом. Пригрозили – кто побежит, тому пуля вдогон. Глянул вперед: понял, нас спустили под откос, десяток вагонов – в щепы! За ними несколько опрокинулись, из них через окна выбирались люди. Остальные вагоны подпрыгнули, но остались на рельсах. Мое счастье, что ехал в хвосте! Не знаю, была то банда Григорьева, или махновцы, или Тютюник: мало ли орудовало на Украине банд!
Между тем в вагонах потрошили узлы и корзины, в нашем послышалась возня и выстрел: потом там нашли убитого анархиста. Вывели нескольких мужчин, среди них матроса, руки связаны. Горбясь и не глядя по сторонам, они прошли к перелеску, видневшемуся невдалеке. Из других вагонов туда же провели еще людей: коммунисты! Долетели нестройные выстрелы! Расстрел…
Всадники умчались, пулеметы исчезли, некоторое время все стояли оцепенев. Кто-то решился, за ним другие бросились по вагонам разбирать свои вещи. Нашел и я свою котомку и мешочек с солью, перешагнул через валявшееся полотнище «Анархия – мать порядка» и зашагал следом за всеми вдоль железнодорожного полотна к Кременчугу. Запомнил по дороге сожженную будку путевого сторожа: обгоревшая стена, на ней начертано углем и полусмыто дождями: «Смерть коммунистам, да здравствуют большевики!» Все спуталось в темных головушках.
… Мощенная булыжником базарная площадь в Киеве: солома, навоз, грязь, скрип подвод, выкрики торговцев, гогот гусей, шарканье подошв, среди всего этого я – обладатель фунта соли! И впрямь можно выменять на живого теленка! Теленок мне ни к чему, зато до чего вкусны борщи на базаре! А кныши с луком! Расплачивался солью. По горсточкам соль разошлась так же быстро, как сейчас расходятся деньги. На завтра у меня не было ни крупинки.
Поехал к Москве. В Брянске какой-то командир привел меня на продпункт, выдали красноармейский паек: две воблы, три кусочка сахара, четверть буханки хлеба. Дальше на узловых станциях сам разыскивал продпункт, ни разу не отказали: дети были надеждой будущего. Пользовался щедротами продпунктов не задумываясь, как пользуются заботами родителей сыновья.
… На северных дорогах уже ездили по билетам, какой-то машинист отечески вошел в мое положение, взял на паровоз, довез до Ярославля: там он сменился. В Ярославле, скорей чтоб чувствовать себя самостоятельным, чем по нужде, забрался под вагон в ящик для инструментов. Вылезал на станциях и, подыгрывая себе на деревянных ложках (выменял их на соль в Киеве), пел песенки на перроне.
Весь поезд кормил меня и поил. Кончилось тем, что кунгурский милиционер, проследив, как я пробрался под вагон, выволок меня оттуда и заставил мыть лестницы станции Кунгур. Следующим поездом, опять же в ящике, отбыл в Екатеринбург.
Сестру нашел. Прожил у нее недолго: мужа перевели в Ташкент, они на время оставили меня в интернате.
Ребятишки, оставшиеся без родителей. На всех ватные телогрейки, американские штиблеты желтые, шикарные, с толстыми подметками, но при здешних морозах с какой охотой обменяли бы их на валенки! Поверх штиблет черные обмотки до коленей. Хоть одеты по стандарту, держались группами. Верховодили бывшие кадетики (самыми организованными были): измывались над бывшими реалистиками, к примеру, заставляли их вымерять спичками школьный зал. Однако нас, беспризорников, хоть мы держались каждый сам по себе, задевать остерегались: нарвешься ненароком на нож.
Никогда не забуду забот воспитательниц и воспитателей интерната! Мучились с нами – строптивыми, обидчивыми, требовательными, проделывавшими над ними грубые шутки. Каким терпением и любовью надо было обладать, чтобы, несмотря на все, стараться нас поставить на ноги.
Как все далеко! Перелистываю жизнь, будто читаю кем-то написанную книгу… Голод, морковный чай и сладковатый вкус мерзлой картошки, брюквы и репы. Покровский проспект весь в подводах, над лошадьми облака морозного пара. Главное занятие в интернате – рубить дрова. Морозы такие, что в интернатском сарае однажды ночью гвозди стали из стен выпадать.
Пришла весна… Едва побежали ручьи и солнышко стало припекать на пригорках, в меня вселился бес бродяжничества: при первом удобном случае сбежал из интерната, держа путь к солнцу, в далекий Ташкент.
12 апреля. Коканд
Вчера на заре к калитке Козловских подкатила серая «Волга», мне ее дали как гостю. Из Ташкента выехали по узеньким улочкам между садов. Хотя солнце то скрывалось за рассеянными по всему небу облачками, то вновь появлялось, на цветущие вишни больно было смотреть: точнее, они ослепляли белизной, когда сидел спиной к солнцу, а когда поворачивался лицом к нему, вишневые деревья впереди рисовались черными – волшебство света!
Выехали за город, помчались холмистой степью по великолепному шоссе. Решили ехать в Коканд кратчайшим путем: через горы Чаткала. Проносимся через мост: внизу проплывает Чирчик, бегущий среди камешков многими руслами, сплетенными в огромную косу. (Интересно, была ли у тебя коса в детстве? Никогда не думал об этом.)
Потом ехали ущельем Ангрена, начались дивной красоты места: строй где хочешь курорт! Вот когда пожалел, что не взял с собой моей АК-8 – узкопленочной камеры. Всем бы доставил удовольствие – может, и тебе! В глубине ущелья – река, взъерошенная на камнях. На противоположном зеленом склоне – в расщелинах скал, за кустами, в выбоинах – пятна ослепительно белого снега разной формы и величины, и природа иногда создает, черт возьми, абстрактную красоту!
Дорога поворачивает вверх вдоль речки Камчик, притока Ангрена. Еще немного – и вокруг нас сплошной снег, снег, зима. И вот уже побеленный столб: «Перевал Камчик – 2268 м».
Быстрый спуск серпантином вниз, и снега нет: южный склон хребта – все другое. Прыгает с камня на камень речонка Резак, вокруг скалистые громады, также желтые; сплошь желто-охристые, что серая лента дороги кажется синей: теперь вся красота концентрируется в ней. Мчимся по этой синей ленте, и уже опять цветущие сады – сады Ханабада, мост через Сырдарью, катящую мутно-белесые воды.
… Окраина Коканда встретила нас грязновато-белым цветением яблонь и груш. Вглядываюсь… Ба! Да это ощущение грязноватости оттого, что при нашем движении смешиваются цвета белых и розовых лепестков, зеленых листьев, красных тычинок у груш и желтых тычинок у яблонь. Весна, как видишь, идет здесь на добрую неделю, а то и на две впереди ташкентской весны. Пока обосновывались в гостинице, на город опустился вечер. Поужинали внизу, в ресторане: со стены, прищурясь, глядели «охотники» Перова, перемигнулся с ними – как-никак старые знакомые.
Наездились, насмотрелись, устали. Короткая дневная передышка. Арип Аюпов, невысокий шофер с приятной, сдержанной улыбкой, сейчас дремлет в соседней комнате на кровати. Воспользовался этим, чтобы поговорить с тобой.
Ехал сегодня в машине и думал, почему так нелепо устроено? Сидела бы ты со мной рядом, повела бы бровью, и я уже спрашивал бы себя: «Почему повела?» Когда рядом и любишь – в этом содержание жизни. Если не любишь (уже не любишь), такие вопросы начинают раздражать. Для меня каждый твой взгляд, каждый жест – словно обвал. Но вот теперь, когда ты далеко, я (и это меня поражает) думаю с облегчением о том, что лишен возможности спросить тебя: «почему оглянулась?» После стольких дней беды какой-никакой отдых, я бы сказал даже больше – счастье! – если бы время от времени за грудь не хватала тоска.
Вспомнил историю про Леонида Соловьева, про первую его книгу «Песни народов Востока о Ленине». Не могу удержаться, чтобы не рассказать тебе. Видишь ли, Леня Соловьев – кокандец, во всяком случае, отрочество и раннюю юность провел здесь.
В своей последней, недописанной «Книге юности» он рассказал несколько трагикомических историй, приключившихся, с ним в те годы. Хотел включить в книгу восемнадцать таких историй, а успел написать только девять; той, что собираюсь с тобой поделиться, хотел книгу завершить. Вот она вкратце – как сам помню.
Ненаписанный сюжет
– Знаете, Витя, если бы я родился в узбекской семье и жил до революции, я бы, верно, бренчал на дутаре и гнусавым голосом пел на базаре.
Тяга к фольклору и народному языку у Лени проявилась очень рано. После уроков в Кокандском железнодорожном училище он любил побродить по знаменитому в те времена крытому базару Коканда – одному из самых больших базаров Средней Азии. И особенное удовольствие ему доставляли базарные певцы и рассказчики.
– «Высокочтимый тигр, я говорю истинную правду!» Услышу фразу вроде этой – и заливаюсь смехом…
Еще учеником он начал приспосабливать узбекский фольклор к русскому языку и очень этим забавлялся. В зрелом возрасте эти детские забавы воплотились в «Повести о Ходже Насреддине»: как ты знаешь, она написана словно бы от лица узбекского рассказчика, владеющего всем арсеналом народных поэтических оборотов и юмора. Кроме этой работы, получившей признание во всем мире, был в его жизни еще эпизод, связанный с фольклором.
Смерть Ленина потрясла всех. Даже я хорошо это помню, хотя был моложе Лени: в день похорон Ленина вместе со всей школой ходил на ташкентскую Красную площадь, а на следующее утро мы с нашим учителем рисования начали лепить во дворе школы первый в Средней Азии памятник Владимиру Ильичу. Лене Соловьеву тогда было семнадцать, и он отозвался на смерть Ленина стихами. Он чувствовал: безыскусная народная речь сильней способна передать скорбь. В те дни все народные акыны, ашики и гафизы Средней Азии сложили песни на смерть Ленина, и одним из этих акынов был семнадцатилетний Соловьев:
Ленин дал гафизам право петь о чем угодно —
И они все сразу запели о нем.
Целиком не помню ни одного стихотворения, лишь строки:
Мы не знаем, откуда пришел Ленин,
Мы не знаем, куда ушел Ленин.
В 17-м году мы испугались его слов,
В 18-м – шли против него,
В 22-м – наши сердца бились любовью к нему,
В 24-м мы лили слезы о нем.
Знали мы его семь лет.
Исписал такими стихами объемистую тетрадь, потом всюду возил с собой и наконец привез в Москву, куда приехал учиться на сценарный факультет Института кинематографии. Здесь знакомые молодые литераторы прочли и восхитились.
– Смерть Ленина вас потрясла. Видно по стихам. Это настоящее!
– Допустим. Но кто поверит в издательстве, что их написал я? Они явно фольклорны!
– Ну, издайте как фольклор. Не все ли равно…
И тогда (бесшабашность юности!) в конце каждого стихотворения Леня сделал сноску «записано там-то»: назвал несколько кишлаков в районе Коканда и Ходжента, где довелось быть, а под двумя-тремя стихотворениями для правдоподобия – выдуманные фамилии каких-то стариков и отнес книгу в издательство «Московский рабочий». Вышла она в 1929 году. Книгу встретили хорошо, хвалили талантливого молодого фольклориста. Но это послужило причиной трагикомической истории, которую взялся тебе рассказать.
В Ташкенте научные сотрудники только что созданного Института языка и литературы были обескуражены: столько песен о Ленине, а они их в оригинале видеть не видывали. И летом 1933 года была отправлена на место фольклорная экспедиция – записать эти песни на узбекском и таджикском языках. Сначала об этом узнал я: от Миши Лоскутова. (Это был талантливый писатель, выпустивший две книги о Средней Азии: «Тринадцатый караван» и «Рассказы о дорогах». Лоскутов только что вернулся из Каракумского пробега, где испытывались первые автомобили советских марок, и мимоходом сообщили мне эту новость.)
Решил обрадовать Леню. Услыхав про это, Леня аж подскочил, несколько раз переспрашивал, что за человек Лоскутов, можно ли верить ему, вдруг начал хохотать. И так же внезапно умолк, помрачнел и в конце концов мне все рассказал.
По его просьбе я написал Тане Емельяновой (вместе когда-то учились в школе, а в то время она организовала в Ташкенте «Театр чтеца»), просил разузнать, чем кончилась экспедиция. И потянулись для Лени недели ожиданий, тревог. Как он себя проклинал! Японцы говорят: за три года и новорожденный трехлетним становится. А тут прошло четыре года со дня выхода книги, а то и пять. И вдруг…
Леня то предавался мрачным видениям, что подделка обнаружится, он будет опозорен, и придется покинуть Москву. «Боюсь, Витя, как бы мне не пришлось бить в барабан отъезда!» То закрывал тревогу смешными рассказами:
– Ехал путник. Вдруг из-за забора голова в чалме: «Брат! Ты, наверное, устал – будь гостем!» – «А куда мне привязать лошадь?» – «Привяжи к моему длинному языку», – ответил смущенный хозяин. Так и мне – останется лишь отшучиваться.
Всякая ложь начинает гнить. Кто это сказал? Когда? Кому? По какому поводу? Именно в те дни мы со стереоскопической ясностью поняли: так оно и есть. И пожалуй, как раз тогда впервые родился у Лени повышенный интерес к нравственным вопросам, который не оставлял его всю жизнь.
Ответ от Тани Емельяновой пришел через месяц. Она писала, что экспедиция задержалась, лишь теперь возвратилась и что, по наведенным справкам, съездила успешно: все песни, за исключением одной, найдены и записаны. Мы с Леней смотрели друг на друга, выпучив глаза. Потом Леня начал хохотать, задыхаясь от смеха и заливаясь слезами. Я поглядел-поглядел на него, все понял к тоже начал смеяться.
Фольклорная экспедиция – это ясно! – не захотела возвращаться ни с чем: время затрачено, командировочные съедены… И они попросту перевели песни с русского языка на узбекский и таджикский, а одну песню «не нашли» – для правдоподобия. Нет, этим людям нельзя было бы доверить Сарезское озеро!
Несколько лет спустя зашел я как-то к Лене, у него на столе была раскрыта знаменитая на Востоке книга о любви Вис и Рамина: не поэта Гургани, а ее древнегрузинское прозаическое переложение. Леня усмехнулся:
– Любопытные строки! Глядите! – Взял книгу в руки и прочел мне вслух: – Два дьявола вражды всегда следуют за человеком. Один советует: «Сделай так-то и так-то, и тебе будет выгодно!» И когда человек его послушается, другой, в свою очередь, говорит: «Почему ты так поступил? Ты погиб!» Первый дьявол заставляет тебя делать то, в чем второй принуждает раскаиваться. – Захлопнул книгу: – Это про меня! Помните, Витя, историю с фольклорной экспедицией?
Его зубы сверкнули в улыбке, и мягко сузился зрачок – тот зрачок неправильной формы, который только у него одного и был на всем белом свете. Врожденная неправильность: в одном глазу к его зрачку будто кто-то прилепил снизу еще ползрачка, и, когда глаз загорался весельем, эта половинка вся светилась, озаряя лицо.
Вспомнил сейчас другую мистификацию, жертвой которой стал как раз Соловьев, правда, когда его уже не было в живых. Приехав в Ленинград года четыре спустя после его смерти, навестил в Пушкине живших там его мать и сестру Зину. За разговорами Зина вдруг извлекла из шкафа книжечку и протянула мне:
– Витя, знаете ли вы это?
«Сахбо»
Увидев только что изданную под таким названием книжку Л. Соловьева, удивился: ничего о ней не знаю, а ведь он мне читал все! Пока Зина ушла ставить чайник, стал листать страницы. Вначале явно его рука, мне ли не знать?! Правда, много словесного мусора, наверное, оттого, что черновик. Однако дальше… Дальше в книгу ворвался чужой язык, сентиментальный, с общими местами и пустой болтовней… Когда Зина вернулась, сказал ей:
– Думаю, начало набросал он, а дальше чужая рука!
– Мне тоже так показалось… – задумчиво сказала Зина.
Прошло несколько лет. Однажды в Москве телефонный звонок: двоюродная сестра Марии Марковны, последней жены Лени, литераторша Н. В. Сталинская спрашивает, не соглашусь ли вместе с нею написать воспоминания о Соловьеве? Пожал плечами – Сталинскую видел всего раза два-три в квартире у Лени: мне с нею писать воспоминания?! Вежливо отказался. Внезапно задает мне вопрос: знаю ли «Сахбо»? Сказал, сразу вспомнив: вначале рука вроде бы и его, а дальше чужая рука!
– Какой вы проницательный! – воскликнула Сталинская. – Это написала я!
Изумился.
– Зачем?!
И она рассказала, как, сидючи однажды у Марии Ивановны, поспорила: мол, теперь, после смерти Леонида Васильевича, под его бирку можно напечатать что угодно! Взявши начатый Леней рассказ, она его досочинила, снесла в издательство, и вот – вышла книжка, выигран спор!..
Случается же такое!
Не одна ты, многие в Москве и Ташкенте то и дело спрашивают меня: «Расскажите, как вы работали с Леонидом Васильевичем над «Ходжой Насреддином». Даже здесь, в Коканде, сегодня двое уже меня спросили об этом. О работе с Леней вспоминаю как о лучших днях жизни. Расскажу тебе, заодно и всем, как оно было.
В 1938 году киностудия «Таджикфильм» предложила Лене написать сценарий об этом любимом народном герое. Леня предложил мне писать вместе с ним. Ничего, кроме имени героя и народных анекдотов о нем, за душой у нас не было. Понимали оба: работать над сценарием вдвоем будет не только веселей, но и быстрей. Видишь ли, в сценарии главное – диалог: и то и другое придумывать и писать вдвоем – удовольствие! В прозе же главное, ведущее – интонация, в ней сильней всего проявляется личность автора. Оба мы ясно понимали, что писать прозу вдвоем значило только мешать друг другу. Это удается немногим и крайне редко. Хочу, чтобы ты правильно меня поняла: если бы мы писали роман вдвоем, книга получилась бы хуже. Вот мы сразу и уговорились, что роман на основе сценария будет писать Леня.
В начале тридцать девятого года, когда наш сценарий «Насреддин в Бухаре» был похоронен в Министерстве кинематографии, Леня засел за «Возмутителя спокойствия». Спустя недели две он меня позвал прочесть написанные страницы.
Я ужаснулся: понимаешь ли, интонацию он нашел восхитительную, погрузил все в атмосферу сказочной Бухары, пронизав язык Востока тонкой иронией, но при этом старательно обходил мои сюжетные находки и мой диалог – явно в ущерб книге. Он и сам это понимал. Я буквально умолял его брать из сценария все лучшее. Он пошел на это не без внутреннего сопротивления. Это укрепило нашу дружбу.
Когда Леня поставил точку на «Возмутителе спокойствия» и мне первому дал прочесть рукопись, внизу на заглавном листе я прочел, что в основу положен наш общий сценарий, и я опять решительно восстал. До вежливостей ли было; сноска подобного рода в ту пору могла помешать судьбе книги. Я вымарал сноску своей рукой.
«Возмутитель спокойствия» был напечатан, широко разошелся… Ни одной статьи, ни одной рецензии! Леня был в отчаянии: «Неужели, Витя, я так плохо написал?!» – «Наоборот! – говорил я. – Серую книгу легко похвалить, но когда и где хвалили сразу после выхода книгу талантливую?! Радуйтесь, что вас не изругали! А у читателей книга обречена на успех – пройдет год-два, и вы это почувствуете!»
Я оказался прав: в сорок третьем году, когда на экраны вышел (был все-таки поставлен!) фильм «Насреддин в Бухаре», в рецензии на него в «Известиях» говорилось: «Л. Соловьев написал о Насреддине увлекательную книгу «Возмутитель спокойствия», хорошо известную широким кругам советских читателей». Это было первым печатным отзвуком на роман четыре года спустя.
В 1944 году мы с Леней написали еще сценарий фильма «Похождения Насреддина». Оба сценария вышли отдельной книжечкой в 1945 году. По причинам, от него не зависевшим, Леня сумел закончить повесть «Очарованный принц» на основе этого второго сценария лишь в 1954 году. Перепечатав повесть на машинке, он подарил рукопись мне.
«Повесть о Ходже Насреддине», объединившая обе книги, на мой взгляд, превосходна! Горжусь, что в ней есть и доля моего труда. Остается сказать тебе, что первая и единственная при жизни Соловьева статья об этой чудесной книге была опубликована совсем незадолго до его смерти: как радовался он ей! Эту радость подарил ему Дмитрий Молдавский.
За сумятицей, суматохой дня все время где-то глубоко-глубоко, закрытая дорожными впечатлениями, как единственное счастье существуешь во мне ты. Промчались с Арипом по центральным улицам Коканда, въехали в бывший Старый город: глинобитная кривая улочка, почти слепая, без окон, одни калитки. Машина остановилась у домика-музея Мукими. На пороге нас приветливо встретил смотритель музейчика, ввел в первую комнату – стены сплошь в фотографиях и картинах: наивно, но мило, тишина, прохлада. Выход во дворик: он отгорожен, отрезан от бывшего медресе.
Низенькая дверь, и мы вступили в миниатюрную комнатку самого Мукими, где все как было при жизни поэта: гладкие стенки, чуть подкрашенные синькой, низенький потолок, за деревянные, прибитые к потолку держаки засунуты покрытые глазурью тарелки, пол устлан коврами и одеялами, бедными – какое у Мукими богатство, наоборот, сама скромность! – но чистенькими-чистенькими, и это создает совершенно особое впечатление уюта. Низенький столик, за которым работал поэт, перо, лист бумаги. Арип негромко произнес:
Я забыт, одна со мною собеседница – тоска.
Келья, где я умираю, будто печь, раскалена…
И я, будто только этого и ждал, отозвался тоже строками Мукими (мне почудилось – ты стоишь в дверях):
Тебя люблю, люблю, мой милый друг,
Тебя ищу, подруга из подруг!
О неженка с глазами палача,
Тобой забыт несчастнейший из слуг…
Лишь о тебе твержу, схожу с ума,
Твоих речей услышав сладкий звук.
Тебя не видеть больше не могу…
У выхода смотритель протянул мне скромный букетик мяты. Этот ароматный букетик потом сопровождал меня, я подносил и подносил его к носу, вдыхая с запахом мяты и частичку поэзии Мукими. Хотел сунуть несколько листиков тебе в письмо, но они уже почернели, смялись. Жаль!
Ты, наверное, удивляешься, что пишу такие длинные письма? Неужели тебя устроит больше, если по примеру Ходжи Насреддина ограничусь словечком «так»? Он ел кишмиш, подошел сосед: «Что ты ешь?» – «Так…» – сказал Ходжа Насреддин. «То есть как – так? Что за ответ?» – «Я говорю коротко». – «То есть как коротко?» – «Ты спрашиваешь, что я ем. Если скажу – кишмиш, ты скажешь: дай мне. Я скажу: не дам. Ты спросишь, почему? А я отвечу: так… Вот я заранее и говорю коротко: так…»
Вот так.
14 апреля. Раннее утро. Хамзаабад
Со вчерашнего дня меня преследуют стихи султана Бабура:
Желанной цели должен ты добиться, человек.
Иль ничего тебе пускай не снится, человек.
А если этих двух задач не сможешь ты решить,
Уйди куда-нибудь, живи, как птица, человек…








