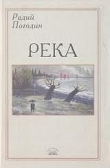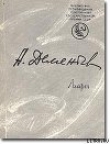Текст книги "На вечерней заре"
Автор книги: Виктор Потанин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Я помню, как приехал врач. Зашла красивая девушка в белоснежном халате. А может, у нас было сильно накурено, потому таким белым, снежным показался халат. Врач послушала пульс у Феши, потом измерила кровяное давление. Когда надувала грушу, то щеки у ней покраснели и разрумянились, и лицо стало еще лучше, красивей. Я не видел в жизни лучше лица. А Феша дышала медленно, как будто спала. Красавица еще раз измерила ей давление и посмотрела на нас: «Я забираю ее с собой. Ей нельзя без врача…»
Олег помог Феше подняться. Он же и вывел ее к машине и усадил. Я стоял на крыльце и глотал свежий воздух. Машина медленно пошла, засигналив по пустой мокрой улице…
Ветер теперь убавился, деревья почти не шумели. Я поднял кверху глаза. Мне показалось, что я вижу тучи. Они были густые, тяжелые. А может, это просто двигалась тьма. Она даже не двигалась, а точно летела над головой, куда-то проваливалась. И в этих провалах чудилось небо. А потом опять все исчезло – нет ни туч, ни неба, и я вдруг догадался: это же ветер, ну, конечно, ветер! Это он и летел над моей головой, тяжелый, мокрый, весенний. Ветер, ветер… Я ему позавидовал. Сегодня он здесь, а завтра где-нибудь в южных равнинах…
А с крыш что-то уже валилось и капало. Казалось, что над городом начинается дождь. Нет, не настоящий дождь даже, а мелкий и нудный сеянец: кап, кап, кап, кап… Такие дожди бывают часто в июле. Они длятся целый день и всю ночь, потом еще день, еще ночь. А потом над городом встает бездонное небо и тишина. Она ложится тягучим теплом на душу, укачивает, и всем от нее хорошо: и людям, и птицам, и особенно птицам от нее хорошо. Они поднимаются в эту синь и там кружатся, кружатся, точно благословляя землю и всех людей на земле… Вот и тогда над городом стояла такая же тишина.
7
А на другой день хорошо подморозило. И в этот морозец я увидел первых грачей. Они сидели на тополях, синевато-черные, изумрудные, на них падали косые лучи. А рядом с птицами было небо, большое синее небо, простор. И этот простор не отпускал и притягивал, и я не понимал, что со мной, почему теснит грудь. А в голове стояли и мучили чьи-то слова: «…и, радуясь, душа стремилась решить одно: зачем живу? Зачем хочу сказать кому-то, что тянет в эту синеву…» И вдруг я вспомнил те миндальные глазки. И голос вспомнил, такой же сладкий и кругленький: «А ну-ко? Чьи это слова? Кто сказал?..» А глазки все мигали и щурились, и было в них что-то чужое, баранье, и сам директор походил на полотно Пиросмани. В памяти – все резче, ближе, слышнее… А глазки то мигали, то вспыхивали: а ну-ко, ну-ко? Еле-еле от них отвязался.
А над головой у меня кричали птицы. Им было, наверно, холодно, а может, они кричали от радости, возбуждения – они сидели уже парами, они собирались вить гнезда… А небо делалось еще выше, синее. Я давно не видел такого неба, такой весны. И мне бы радоваться, мне бы дышать на полную грудь, идти куда-нибудь без оглядки. Но что-то мешало и останавливалось, да и чувствовал я себя, как после болезни. Во всем теле стояла гнетущая пустота. И про нее не забыть, не избавиться, как будто приговоренный.
И на следующий день не пришло облегчение. Я звонил Олегу, но не застал. И даже обрадовался, что не застал… А на третий день я пошел по своей знакомой дороге и опять уперся в реку. Но меня остановили не обрыв, не река, а музыка. Она играла где-то рядом, печально-нежная, горькая, но я не понимал, где она. Наконец, догадался: ведь рядом же музыкальная школа, да скоро и сами музыканты вышли толпой на крыльцо. За ними показались люди с венками. А потом явилась из дверей темновато-красная крышка гроба. Я смотрел и не верил. Издали гроб казался маленьким, узеньким, точно бы детским. Да что же это? Музыканты опять заиграли и медленно-медленно потянулись к автобусу, на борту которого чернела траурная черта. Я подошел поближе к крыльцу. Здесь уже стояли директор – тот, кругленький, маленький, с миндальными глазами. Но он казался сегодня суровым и строгим и опять походил на настоящего князя. Рядом с директором были Олег и молодой парень в дубленке с пышными белыми отворотами. Возле парня о чем-то щебетала Нина Сергеевна, и тут меня увидел Олег:
– Ты понимаешь… Феша-то наша поехала. Второй инфаркт – и прощайте, товарищи, все по местам… – он улыбнулся с каким-то тайным значеньем, потом спросил у меня:
– Ты не хочешь с нами на кладбище?
Я молчал. Я просто застыл на месте. Тогда Олег заговорил сам с собой:
– Я, пожалуй, тоже не поеду. Зачем травить душу. Да и есть кому. У ней дочка-то – молодец: и автобус наняла… и живые цветы… и музыканты даже не наши. Знай только умирай.
Я молчал. Меня точно оглушили, и я не знал, что подумать. А автобус уже развернулся и медленно уходил. За ним поплелся второй автобус, очень старенький, продолговатый. Такие ходили на наших городских маршрутах.
– Да-а, дела, дела… – Я оглянулся на голос Олега, но это был совсем не Олег, а тот парень в дубленке. И тут я догадался: это, наверное, племянник директора.
– Дела-а, – опять повторил он.
– Как сажа бела, – усмехнулась Нина Сергеевна и взяла сигаретку. Племянник тоже закурил, потом обратился к ней:
– Ты не слышала, да… У армянского радио спрашивают: почему жена плачет, когда муж домой не приходит?..
– Не так, не так! – прервала его Нина Сергеевна. – Когда я училась в Москве, за мной бегал один Костя, так он по-другому… Ты слышишь, Адик?
– Ты слышишь меня? Ты слышишь?.. – звал я кого-то, оглядывался. Возле меня нестройной толпой прошли ребятишки-ученики. Они сели уже в третий автобус и загалдели. Нина тоже с Адиком подошли к подножке и заскочили туда. И вот уж нет машин, нет людей – все уехали, и только далеко по улице все еще раздавались гудки. Это шоферы кому-то сигналили, а может быть, так они прощались в последний раз с человеком. Кто их поймет?..
Я вышел на обрыв и взглянул на тот берег. Господи, какие все же снега, какие пространства! И только далеко-далеко, километров за пять отсюда, темнели чьи-то плетни или домики. Там стояла деревня, там кто-то жил – иначе зачем бы плетни… И я напрягал, напрягал глаза – и вдруг увидел там белую колоколенку. Она сливалась со снегом и смешивалась, и только там, где был крест когда-то – золотое сиянье, призыв – теперь стояло белое-белое марево: не то снег отсвечивал, не то воздух клубился, не то просто устали глаза.
– Ты слышишь? Слышишь меня? – опять звал я кого-то, но ни одного вздоха в ответ, ни голоса. И только над головой у меня что-то тихо-тихо, печально позванивало, как будто колокольчик какой-то или небесный хрусталь. Но я знал, что это, я чувствовал. Это просто с неба, прямо с самого неба спускалась на город весна.
РАССКАЗЫ
СНЕГ
В классе вымыли парты, повесили свежую стенную газету и фотографии отличников в белых рамках. А накануне Юлия Ивановна проверила у ребят стихотворный монтаж и осталась довольна: ребята читали отрывки бойко и весело, одни старался громче другого. С песнями было похуже. Разучили две военных и одну пионерскую, но спеться как следует не смогли, да и не хватало баяна. Выручил с баяном отец Лены Козловой. Он пришел на две репетиции подряд, но потом стал работать в дневную смену, потому и репетировали без него. Зато сама Леночка – молодец! Голосок у ней обнаружился чистенький, нежный, почти что хрустальный. Школьные знатоки говорили, что Леночка – копия Робертино Лоретти. Так звали одного итальянского мальчика, который пел, как соловей, а может быть, лучше. Но это было уже давно, потому Леночка о Робертино не знала. Хорошо пели и Аня Замятина, и Юра Никитин, но лучше этих двоих пел Игорь Хазанов. Он и стихи читал, и рисовал в стенгазету, он мог еще подражать разным птицам, животным, но это в программу утренника не входило…
И вот настал этот день, верней, вечер. Юлия Ивановна хотела провести утренник после уроков, но днем все родители были заняты, а без них собирать ребят не хотелось. Да и сам утренник назывался: «Мы – смена отцов, мы – надежная смена!»
Торжественную часть наметили на семь часов вечера, но родителей все равно пришло мало. Их было всего человек десять-двенадцать, зато все они явились в нарядных костюмах, почти у всех на груди сияли награды. Юлия Ивановна, классный руководитель, построила всех пионеров возле доски и пригласила гостей. Они вошли смущенные и притихшие, не глядя друг другу в глаза. И так же робко, понуро расселись по партам на самых задних рядах. И сразу Леночка Козлова вышла вперед и крикнула звонким уверенным голосом:
– Четвертый «А» приветствует вас!
Ребята поддержали ее густыми аплодисментами. Родители сразу заулыбались, а отец Лены Козловой стал доставать из футляра баян. Делал это он осторожно, таинственно, как будто интриговал. Но ребята терпеливо переминались в строю, и возникла какая-то пауза, – и в этот миг ударила по рамам метель. Стучал ветер, постанывал, а всем казалось, что это стучит человек. Даже Юлия Ивановна повернула голову, отвлеклась. Она любила метели и всегда от них чего-то ждала. И часто ночью, когда особенно страшно и снежно, она отправлялась гулять по своему городку. И летел частый снег, и сбивал ветер с ног, а на нее спускалась тихая, спокойная грусть. И приходили на память строчки из Блока, из его поэмы «Двенадцать», и вставал в глазах далекий, милый Миша Дерябин, который служил уже второй год на границе, вспоминалось и прошлое лето, когда она ездила на самый-самый Байкал. И вот опять метель ей напомнила… Но в это время громко пикнул баян, и она сразу пришла в себя:
– А теперь, дети, поприветствуем нашего самого почетного гостя. Я говорю о Демёхине Петре…
– Алексеевиче… – подсказали ей с задней парты, и учительница нервно хрустнула пальцами и прикусила губу.
– Так вот, похлопаем ему от души! Он любезно ответил на нашу просьбу и, несмотря на занятость, согласился. И вот он с нами… – И опять ее перебили аплодисменты. Не успели они стихнуть, как с задней парты поднялся сухонький человек в тяжелом черном костюме и смущенно раскланялся:
– Подвирашь немного, учительница. Время у меня – хоть отбавляй. И вчера бы мог прийти, и позавчера. Нехорошо, Юленька, я уж тебя по-свойски… Я с ее отцом, детки, из одного села призывался, но воевать пришлось поотдельно. – Он смешно дернул шеей и хотел снова сесть, но опять что-то вспомнил: – И правильно, Юленька, что старость не забываешь. Пригласили вот, собрались. Мы, конечно, повоевали, да-а-а, зато вы теперь учитесь… – но ему не дали докончить.
– Давайте еще поприветствуем песней! – прервала его Юлия Ивановна и взмахнула рукой. Звонкий голос Леночки ударил до самого потолка:
– Лейся, песня, звонче,
Лейся веселей, —
ребята дружно подпелись, но, пропев один куплет, замолчали.
– Баян нужно! Выручайте, Юрий Сергеевич, – обратилась учительница к отцу Леночки. И тот услышал ее призыв. Он сделал хитрое, таинственное лицо и пробежался по клавишам. По классу будто порхнул ветерок, но родители сидели все равно тихо, невесело, как будто им хотелось уйти. Юлия Ивановна заметила это и опять прикусила губу – целый месяц они готовили утренник, и вот теперь что-то разлаживается, и ничего не понять. Но зазвучал баян, и дело пошло. Голоса у всех были громкие, и баян тоже громкий, с иголочки, и все это сливалось в один праздничный шум, и Юлии Ивановне самой захотелось запеть. И она не удержалась – присоединилась к ребятам. Это сразу увидел баянист Юрий Сергеевич и стал ей подмигивать и строить гримаски. Он точно знал, что походит сильно на Мишу Дерябина: те же глаза, те же волосы, такой же крутой лоб, как у барашка. «Ну и пусть походит, бывает, но это, знаете, не предлог…» – вдруг рассердилась учительница и сразу петь перестала. А баянист заиграл еще громче и еще сильней засмотрел… «За кого ж он меня принимает. Если первый год работаю, то это же не повод…» – И она совсем на него рассердилась и подошла поближе к окну. Метель подпевала баяну, и снег летел прямо в стекла, и казалось, что на улице уже глубокая ночь и все люди в городе уже давно отдыхают, и только здесь почему-то баян и какие-то песни. И опять баянист точно слышал. Он взял такой немыслимый аккорд, так приподнял и подбросил ноту, что учительница вздрогнула и снова стиснула пальцы: «А ведь это он, наглец, потешается. Это он мое терпенье пытает… А может, даже заигрывает. А у самого уже дочь такая. Нет, нет, эта Леночка точно не от него…» – И опять Юлия Ивановна обиженно сжала лоб и поежилась. Ее что-то томило и мучило, и в этом был виноват, не баянист, а что-то другое, другое. Наконец, она догадалась – это мешало ей, мучило новое платье, темно-вишневое, длинное, которое она сшила только вчера и не успела к нему привыкнуть. Оно казалось ей тесным и узеньким. Она еле в нем шагала и еле ворочалась, и когда делала шаг, то в платье что-то легонько потрескивало – то ли материал, то ли швы. Наверное, баянист ей потому и подмигивал… Но в этот миг ребята начали стихотворный монтаж. И опять руководила всем Леночка. Она сегодня уже измучила свой голосок. А щеки у ней стали, как красные яблочки, и хотелось ее поцеловать в это морозное, нежное, – и у Юлии Ивановны стало так хорошо на душе, что она забыла даже про баяниста. «Нет, Леночка лучше своего отца! Лучше, лучше, она – просто прелесть, она – золотая у нас, серебряная, на нее я и буду полагаться всегда…» – умиленно шептала учительница, но этот шепот был внутри, в глубине. А на лице у ней просто сияла улыбка, и она так шла к ней, так ее выделяла. Но Юлия Ивановна, конечно, не видела сейчас ни лица своего, ни улыбки. А если бы видела, то совсем бы стала счастливой, потерянной. Красивые-то, говорят, всегда и счастливые…
А монтаж летел своим чередом. Ребята декламировали бойко и весело, как будто нарочно показывали, что они уже такие взрослые, что они уже никого не стесняются, что их не надо уже никогда опекать. А может, просто их раззадорила Леночка, и они теперь старались не отстать от нее, потому что признали в ней командира. «Господи, какая она умница. Давно пора ее выбрать в учком…» – опять пронеслось в голове учительницы – и вдруг она побледнела. Она нечаянно посмотрела на задний ряд и заметила, что Демёхин достал какую-то фотографию. Он смотрел на нее и не слушал. Не слушали ребят и другие родители. И вид у них был усталый, скучающий, кое-кто поглядывал на часы. «Но почему? – возмутилась учительница. – Почему дремлют, как мухи? Почему такая апатия? Всем только Аллу Пугачеву давай, а где ее взять в нашем четвертом «А»?!» Потом Юлия Ивановна посмотрела на Леночку и стала чуть-чуть успокаиваться, да и Демёхин уже спрятал свою фотографию и сидел прямо, как школьник. «Да что это я? – усмехнулась учительница. – Все нормально у меня, и не нагоняй себе паники. Да и не новичок уже я – всего подряд повидала… Уж скоро год пройдет, как работаю, как-никак – это стаж. А если добавить и практику, то сколько ж будет всего?..» Но сложить эти дни она не успела – монтаж уже подошел к концу. Теперь надо делать самое главное, и у Юлии Ивановны загорелись щеки, совсем как у Леночки, и дрогнувшим голосом она объявила:
– Ребята, вы уже знаете, что сегодня у нас в гостях участник прошлой войны Демёхин Петр…
– Алексеевич! – опять подсказали с задних рядов, и Юлия Ивановна покраснела еще сильней. Но теперь уже от досады.
– А я сама знаю, что говорить. Я, может, сейчас от волнения… – вдруг стала объяснять всем учительница, но смутилась опять и стала совсем похожа на школьницу. Глаза ее смотрели упрямо на задний ряд, но, кроме упрямства, в них были боль и смятение, как будто она сотворила что-то ужасное и ее сейчас не простят.
– Да ладно вы! Успокойтесь… – неожиданно поддержал ее баянист, и это отрезвило учительницу, и она вспомнила, наконец, про Демёхина:
– Пожалуйста, к столу, Петр Алексеевич. Мы давно ждали этой встречи и даже заранее волновались.
– Зачем заранее-то… – как-то радостно заворчал Демёхин, потом подошел к столу и стал настойчиво снимать с себя галстук.
– Фу, упрел прямо, как на вокзале…
– А галстучек-то не виноват. Он у вас вроде импортный, – сказал на весь класс баянист, и кто-то хихикнул. А гость, наконец, выдернул галстук и расстегнул у рубашки верхнюю пуговицу:
– Ну вот. А то, как удавка. И не хотел одевать, жена упросила.
– Чувствуйте себя, как дома, – подсказала учительница и сама присела на ближнюю парту. Гость понял эти слова как сигнал начинать.
– Значит, так, призывался я из Чинеево. Это в сорока километрах отсюда, сразу будет за лесом.
– За каким лесом? – усмехнулся опять баянист, но на него шикнул отец Ани Замятиной, широкий, плотный шофер. Баянист замолчал, правда, недовольно покашлял.
– Значит, так, – опять начал Демёхин. – Повезли нас до города в крытой машине. Сами едем, а сверху брезент. А до города, считай, три-четыре деревни. И в каждой вот так же пионеры построены, и в руках у них по букету. Это, значит, для нас, но куда там… Так нигде и не остановились, ребятишек обидели. Но военком сказал: не положено. И куда везут нас – военная тайна… – Демёхин прервался на полуслове, потому что у него задергался глаз. Ребята зашептались, а гость вспыхнул и зажал глаз ладонью.
– Извиняйте меня – это тик. Как начну про войну – так себе не хозяин. И глаз тоже не подчинятся – так и пляшет вприсядку. Это, товарищи, у меня после госпиталя: одно, видно, лечим, а друго-то калечим…
– Ничего, ничего… – поддержала его Юлия Ивановна. – Мы вас слушаем, а вы продолжайте.
– А я продолжу, продолжу, немного вот передохну и продолжу… В городе, значит, нас задержали и подучили немного. А потом собрали всех – и в теплушки. А потом уж повезли да прямо без остановок. Едем, значит, а известно всем, что не к теще едем. Извините, да-а, что не так…
– А я свою тещу прямо бы наградил, – опять подал голос отец Лены Козловой.
– Как это так?! – поразился гость и посмотрел на всех растерянно, виновато.
– А вот так! Честно слово, не вру. Этот баянчик-то она, родимая, подарила. – И баянист засмеялся, и по классу пошел шум, говорок. Юлия Ивановна резко вскинула брови:
– Потише, товарищи! Мы так сорвем наше мероприятие, умоляю: потише…
– А ты не волнуйся, дочка, никого не сорвем. Я человек простой, не обидчивой. А вот фрицы меня в первом же бою пообидели… – И гость сделал паузу, а в классе стало тихо, как будто бы пусто даже, и тишина эта ему пришлась по душе. Он улыбнулся и покачал головой.
– Значит так, они меня пообидели. Разрывной осколок в плечо и по руке немного проехало. А что потом – ничего: на носилки нашего брата да на койку к хирургу. Тот меня на три месяца запечатал, а для меня госпиталь, как тюрьма, да кому скажешь – привезли, дак лечись. Но зато уж подлечили, поставили на ноги. И рука почти отошла, только ноет к погоде. Вот сейчас, к примеру, буран, а у меня сразу боль в плече. Ох и нудно, ребятки. Так и рвет, так и ходит, как собаки едят… – В классе вспыхнул смешок, но гость даже не разобрал. Он потер плечо и стал поднимать кверху руку.
– Разогнуть вот смогусь, а уж согнуть не пытайся. Молотком надо бить, да и то не согнешь.
На первых партах – веселое оживление. И вдруг гость улыбнулся и подошел к одной парте:
– Ты что, Чапаев, не веришь солдату?.. Тогда сгибай, а я посмотрю…
Все опять засмеялись, даже у Юлии Ивановны дрогнули губы. Ей хотелось все время быть строгой, но вот сейчас не пришлось. А в это время уже вставал с места Игорь Хазанов. У него было веселое, озорное лицо. Ему, наверно, понравилось, что его назвали Чапаевым. Мальчик подошел к Демёхину и стал гнуть ему руку. В классе начался шум и волнение. Все вскочили на ноги и смотрели на Игоря. Что бы ни делал этот умненький черноглазый мальчик, все уже привыкли смеяться над каждым его словом, движением. Его несчастье было в том, что он носил ту же фамилию, что и веселый известный комик, которого часто показывали по телевизору. Вот и теперь, едва Игорь встал с места, в классе начался хохот и шум. Этот хохот становился все сильнее, сильнее, потому что мальчик все еще пытался согнуть руку у гостя. Демёхин прищурился и смотрел на него ласково, как на котенка, а Игорь весь покраснел и вспотел. Наконец он сдался и отошел. И снова – шум в классе, веселье. Громче всех хохотал баянист.
– Умора прямо! Не надо в цирк…
Игорь все еще стоял у стола, ему хотелось какого-то продолжения, а может, ждал вопросов к себе, приказов.
– Игорь, покажи, как медведь кричит?.. – к нему обратилась девочка с первой парты. И она еще хотела что-то сказать, но ее перебила учительница.
– Наташа, что это все? У нас же мероприятие…
– Извините, Юлия Ивановна. Я для примера. У меня дядя Коля есть, так он за волка воет и за слона. Он даже может, как грач… – Девочка покраснела от гордости, но в это время снова подал голос Юрий Сергеевич:
– Ну дает дядя Коля! Я б на его месте брал по трешке за представление… – Баянист повертел шеей и сразу же наткнулся на злые глаза учительницы. Наконец, она не выдержала и обратилась сразу ко всем:
– Что такое, товарищи! Для чего мы здесь, для чего?!
– Правильно, хозяйка! – поддержал ее отец Ани Замятиной. – Бери вожжи смелей, а то распряглись…
– Хорошо, хорошо, пойдем дальше, товарищи, – сразу ободрилась учительница. – А ты, Игорек, садись на свою парту и слушай внимательно. А вы, Петр Алексеевич, простите нас, что такие веселые…
– Это ничего, что веселые, – ответил тихо Демёхин, – раз шумят да дурят – значит, сытые да обутые. На голодно брюхо не надуришь. Как у нас было в Чинеево… – он не договорил, что было в Чинеево, потому что Хазанов захлопал себя по животу, привлекая внимание: «Голо брюхо не казать – чем попало, тем и драть…» – эту прибаутку он повторил несколько раз своим развязным веселеньким голоском, и в классе опять засмеялись. Даже у родителей кто-то прыснул, не удержал себя. Юлия Ивановна залилась сразу краской и крикнула надрывно, отчаянно:
– Хазанов, я тебя выведу!!! Кому сказано – выведу и схожу за родителями…
– А они не придут. Им некогда… – улыбнулся Хазанов, потом еще хотел что-то добавить, но его перебили:
– Как это некогда? Не понимаю… Вот и сегодня они не явились. Но я добьюсь, товарищи! Я их приведу… – У Юлии Ивановны побледнело лицо.
– А силком-то тащить не надо. Может, они загордились, – сказал баянист.
Учительница сразу закрутила головой и нахмурила лоб:
– Нет-нет, они люди уважаемые. Они преподают в педучилище. А вот Игорь у них нарушает…
– Да ты не расстраивайся… Пускай нарушает, – посмотрел на нее гость и попридержал свою руку. – Я ведь не уроки веду, а просто рассказываю. А они кого – пацаны… А может, сделаем так: они будут задавать мне вопросы, а я отвечать.
– Можно, можно, – поддержала учительница.
– Ну вот… – улыбнулся гость и посмотрел в сторону окна. – Ветер-то какой, ребятки. Вот так же на фронте бывало: то дождь сперва, а потом и снежок, а у нас ни портянок добрых и ни пимов… Ну вот, я вроде отвлекся. А вы спрашивайте, не стесняйтесь. Можно будет об разных событиях. Можно и об отдельных эпизодах.
Высокая, серьезная Аня Замятина сразу вскинула руку.
– Ну давай! – обратился к ней ветеран.
– Расскажите нам о событиях.
– Ну так што, это можно… Значит так, возле села Большие Поляны наша часть зашла в окружение…
– Сама, что ли, зашла? – подал свой голос баянист.
– А ты не сбивай, помолчи. Если умней меня, так зачем пришел? – Гость часто заморгал. Наверно, обиделся. Потом стал медленно поглаживать свою больную руку.
– Я, конечно, ваших классов не проходил, нас у матери шестеро было. А отец наш больной прямо с самой гражданской. Все скрипел да скрипел, а потом взял да утонул в половодье. Семена они на пашню везли, а лодчонка-то у них опрокинулась – отец руку вытянул и сразу ко дну. Кого он – силы-то никакой. На ровном месте идет и падат… Ну вот и моя учеба… Но я урывком три класса набрал, а потом уж в колхоз. И на быках поработал, и с лошадьми, чего и вам, ребятки, желаю. Потому что работа у нас – всему голова…
– И голова, и плечи, – опять пошутил на весь класс баянист, но гость его точно не слышал. Он подошел к парте, где сидел Игорь Хазанов, и погладил его по голове.
– Вот так мы, Чапаев, и жили, а потом уж война. А там уж какая учеба – надо Родину всем спасать… – гость замолчал, и сразу же предупредительно кашлянула учительница. И намек ее понял Демёхин:
– Значит так, наша часть зашла в окружение. А сверху рама ихняя кружится и листовки бросат. Ну рама – это вроде как самолет…
– А вроде как дирижабль… – сострил громко, на весь класс, баянист, и сам же захохотал. Из ребят тоже кто-то прыснул, но озорника осекла учительница:
– Хазанов, ты не дома! Вот придешь домой и смейся хоть до утра.
– А што тут смешного, ребятки? – спросил Демёхин и посмотрел на всех долгим взглядом. И лицо у него стало сухое, печальное, и опять задергалось веко. И тогда он сжал крепко губы, наверно, искал в себе силы.
– Значит, листовки сверху, как гуси, а мы их в карман да на курево. Правда, худо бумага курилась, да и во рту, как боров прошел… – Демёхин сделал паузу, а Юлия Ивановна недовольно поморщилась – зачем он грубо, ведь дети же.
– А вы самолеты сбивали? – спросил с места бойкий, похожий на белочку, Юра Никитин.
– Было такое дело. Но самолет мы подстрелили всем гамузом, а кто попал – разбери. Будут еще вопросы?
– А поезда вы захватывали? – опять спросил тот же мальчик, но теперь он поднялся на ноги, и глаза его горели, как бусинки. Ими залюбовалась учительница. Она любила этого Юру Никитина. Он напоминал ей своего сына, который будет у нее от Миши Дерябина. Вот и теперь она засмотрелась на мальчика, и что-то тихое, нежное проступало уже в ее взгляде, в движениях, она даже забыла, зачем она здесь, почему в классе полно народу, почему Юра задал свой вопрос. Но Демёхин кашлянул, и она сразу обо всем вспомнила, даже стыдно стало, что отвлеклась.
– Ты бы, Юрочка, пожалел Петра Алексеевича. А то вопрос за вопросом… – Она взглянула на Юру опять нежно, потерянно и снова представила что-то свое.
– А меня жалеть не надо, – улыбнулся Демёхин. – Раз пришел, то работай. Только поездов мы не брали, ребятки. Эту работу делали партизаны. Они крепко потрепали фюрера. Только клочья летели…
– А в плену вы бывали? – опять тот же Юра смотрит на гостя.
– Оборони, бог, не пришлось, – смеется Демёхин, потом переводит глаза на учительницу и сразу грустнеет и начинает растирать свою больную руку. По его худым длинным щекам бежит какая-то струйка, и он смахивает ее и закрывает ладонью глаз. Юлия Ивановна ничего не понимает, только следит неотрывно за его щекой, за ладонью, – и вдруг ей кажется, что он плачет и что он всеми силами хочет сдержать себя и не может никак, не может. Ей и больно, и страшно, и почему-то хочется тоже заплакать, но потом она смотрит на Юру – и сразу же в голову входят спасительные слова. И делается строгим лицо.
– Я думаю, Никитин, ты нарушаешь регламент. Мы договорились, что можно задавать по два вопроса, а у тебя… Что еще у тебя?
– А мы не договаривались, что по два… – моргает обиженно Юра. – У меня еще есть вопрос! – Он поднимается с места и смотрит вперед. Его шейка вытягивается и точно просит защиты.
– Во дает пацан! – восхищается баянист, а учительница бледнеет опять и смотрит туда, где сидят родители. Ей хочется сесть рядом с ними и потеряться, спрятаться среди них, но на ее пути – опять глаза баяниста.
– Зачем вы регламент-то, Юлия Ивановна? Мне вот тоже интересно про плен.
– Не понимаю, Юрий Сергеевич…
– А чего понимать! – обиделся баянист. – Надоело поди про войну в одном телевизоре, а тут живой, так сказать, свидетель… Аха? Я правильно говорю? – и он посмотрел на отца Ани Замятиной, точно приглашая его в друзья. Тот очень медленно откашлялся и огляделся по сторонам.
– А я так понимаю, товарищи… – вступил в разговор шофер. – Нам не надо задавать сейчас острых вопросов. А ребятишек надо было готовить. А то они такое спросят, такое, а у нас собрание. И народ сидит, понимаете…
– А мы и готовили! – вспыхнула, как порох, учительница и задышала тяжело, будто в гору вбежала. – Мы целый год ходили по домам и выявляли всех героев и солдат Великой Отечественной. Так что думать надо, а то обвинили…
– Да я же с простой души, я чего…
– С простой-то простой… И, между прочим, ваша Аня тоже ходила, и ваша Леночка, а наш Юра Никитин больше всех записал. – Она задышала еще тяжелее и поднесла платочек к щекам, по они все равно пылали, как после бани.
– Да хватит вы, раскричалися… – сказал громко Демёхин. – Я уж не рад, что дал вам согласие. Нет, честно слово, товарищи. Не пойму я никак – какие острые тут вопросы, а какие тупые. А ребятишки спрашивают – это надо понять. Мы, значит, воевали, а они теперь постигают…
– Вот это правильно! Они теперь постигают… – восхитился весело баянист. – Ну что? Мне баян доставать или рано?
– Не спешите! – сказала тихо учительница, но у ней все равно получилось, точно приказ. – Еще рано с концертом, а вы продолжайте, Петр Алексеевич…
– Ладно, дочка, продолжу. Я им все же про плен. Вопрос-то был, меня спрашивал паренек. А отвечать мне легко, даже очень сподручно… Нет, ребятки, я не был в плену, нет, нет, ни за что. Это позором считалось, аха-а-а. Если раненый в плен попадал, когда полуживого захватывали, – такое было, конечно. А если так – никогда! Русские никогда не сдавались, ребятки. Русский характер – это надо понять… Он все вынесет, выдюжит и другому еще поможет. Вот и мы помогали, а как? Сказали надо – и мы пошли. Так что после войны мне еще пришлось побыть на действительной. Ну а как? Помогали всем народам Европы подняться на ноги после фрица…
– Ох ты, народам Европы! – схохотнул про себя баянист.
Но гость этот смешок разобрал.
– Да, народам Европы… И еще поможем, если пошлют… – сказал тихо Демёхин и вдруг сжал веки и смахнул слезу.
– А смеяться над собой не позволю…
– Что вы, что вы! – испугалась учительница и посмотрела гневно на баяниста. Она уже его ненавидела, но сказать не могла и накричать на него не могла: им еще нужен будет баян. А Демёхин стоял уже смирно, приниженно. И голосок сделался тихий, усталый:
– Я ведь не сам пришел. Я к вам не напрашивался. Это она меня привела, уговаривала. – И он показал глазами туда, где стояла учительница. – А то, что нервишки у нас худые, – это понятно, так што ли? Все нехватки да недостатки, а тут такая война… Так што теперь чуть затронь – и расстроился. А мне нельзя… – И опять он сжал веки и смахнул слезу.
– Я ж не хотел против вас… – стал оправдываться Юрий Сергеевич. – У меня душа играет. Не может просто без юмора. Как там про это у Райкина?..
– Поберегите душу свою! – не вытерпела все же учительница и стала смотреть в окно. Метель кружилась, захлестывала. И снег летел прямо в рамы, стучал, и казалось, что он не сам летит, а его бросает кто-то лопатой. Иногда ветер становился беззвучнее, но потом он набирал новую силу и рушил все на пути. И деревья в школьной ограде раскачивались, и казалось учительнице, что еще миг – и они сломаются, а потом сломаются и эти тяжелые стены из камня, придавят их. И еще она думала об этом злом баянисте и его чудесной дочери Леночке. Ну и пусть, мол, чудесная, а все равно она будет хуже к ней относиться теперь. И в учком ее, наверное, рановато – пусть в учебе подтянется, пусть подготовит какой-нибудь сбор. И в это время обратились к учительнице: