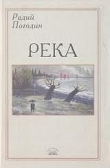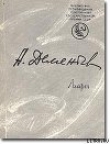Текст книги "На вечерней заре"
Автор книги: Виктор Потанин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 15 страниц)
– Задели милость. Своих не узнал, ай-я-яй, товарищ буржуй, солидности нет, фрак забили. Но я прощаю, прощаю!
– Хватит, мать мою пожалей. Говорунчик. «Я вас без очков не увижу», – он передразнил его, скосив губы.
У дяди Миши затряслись руки, он встал над столом, глаза набухли.
– Под меня не вяжись!
– Руки коротки. Я с тебя сдерну фасон!
– Э-эх, Григорий-Трегорий, куда без меня ты! Лопнет веревочка – и в колодец. И донышка нет А я сверху – покрышку! Был буржуй, да вышел. Ха-ха… Ха-ра-кири!.. «И на Тихом океане свой закончили поход», – дядя Миша закатил вверх глаза, сжал вместе ладони и поднес к носу.
– А ты мастерище петь… – Катерина закрыла платком лицо. Плечи стали вздрагивать, не успокоить. И жаль будто стало ее.
– Мамаша, дорогая, не плачьте. Немного сосните. Мы пошутили. Правда, Трегорий?.. О совести-то серьезно – кто? Ну-ко? Кто ее видел, а? Постой, постой – наш Григорий видел. Ходит, говорит, в бархатном платье, а на ногах – ничего. Любо так – съешь. Доверюсь, мамаша, он от Надьки к другим бабам ходит. Устал по одной дорожке. Вы бы по-родительски его, а? Мать честная, все учить надо. Снимем фрак – и голичком, голичком. Хорошо!
– Не тронь!.. Из-за тебя, из-за тебя все! – встрепенулся Гриша, но голова свалилась на стол. Дядя Миша весь заходил на стуле, словно обрадовался.
– Больше не пей. Хватит! Нам еще на охоту ехать. Сейчас поспим, а вечером… Верно, вечерком…
– Куда вы?
– Замолчи, мать. И ты замолчи! Все замолчите… – очнулся Гриша, повел больными глазами, потянулся за рюмкой. Рука задрожала и сшибла рюмку. Она грохнулась на пол. Сын вытащил сигареты. Они были длинные, с золотым ободком на конце. Курил торопясь, сильно сжав сигарету зубами и раздувая ноздри, локти разъезжались в сторону, он все хотел собрать их вместе, но они не давались, сшибли на пол тарелку. Она тихо звякнула и разбилась. Гриша вздрогнул, смутно погрозил в угол пальцем, потом на дядю Мишу, тот понимающе захихикал, полузакрыв глаза. Потом тяжело склонился под стол, поднял осколок, близко поднес его к очкам и понюхал.
– Григорий, к удаче… Мамаша, не огорчайтесь, стекло-то уж старое.
– Давнишнее… – ответила Катерина и закрыла глаза от боли. Посуду эту подарил ей Иван на день рождения за год до свадьбы, когда жизнь их была еще проста и счастлива, а их согласью завидовали люди. Но за все долгие годы сбереглась из того подарка только эта тарелка, и она ее ставила на стол только раз – в приезд сына с женой.
Дядя Миша протер очки изнутри большим пальцем, зевнул и расстегнул ворот.
– В общем, мамаша, мы спать. А вечерком поедем. Хорошо поохотимся – с удачей в город махнем. Плохо – тут ночуем… Все, поди, обойдется – не впервой… Колеса свои…
Дядя Миша лег на кровать, сын на пол. Сразу уснули. У Гриши из-под губы вышла слюна. Катерина ее стерла платочком и сунула его сыну в карман. Села рядом. Ей вдруг стало боязно сидеть в избе, то ли от духоты, то ли от этого страха сорвалось сердце, забилось толчками. Вышла в ограду, опустилась на лавочку. У Катерины заболела спина, ноги стали не свои, в глазах замелькали темные бабочки. «Сохнет Гриша…» – и от бессилия, от жуткой жалости к сыну, от какой-то неправоты его, от навязчивых больных глаз, напоенных водкой досыта, в голове ее стало пусто и тихо, как перед концом, перед смертью. Стала себя осуждать. Надо было задержать Гришу дома, не отпускать в город. Женить на своей, деревенской, и в глазах поднимался он, маленький худой мальчик, с голодными просящими глазами, которые хотели молока и хлеба, а их у ней никогда не хватало в те дни и достать было негде. Вспомнила, как радовалась, что сын нашел место в городе с даровым хлебом, с готовой одеждой, как поставила свечу за сына перед большой желтой иконой у деда Петра, соседа, и он молился за него целый вечер, листая толстую пыльную книгу, – сама молиться не знала. Она ушла от иконы спокойная и жить захотелось дальше, все заботы угасли, раз сын пристроился к делу, которое дало и еду и одежду. Теперь казнила себя страшными строгими словами, чувствуя себя совсем одинокой и слабой, хотела зажить сначала и снова родить Гришу.
Над бором поднималась туча, сверху – синяя, внизу – совсем темная. Она шла быстро на деревню, поглощая все свободное небо, все ниже спускалась к земле. Залаяли громко собаки, но как-то с визгом, нарочно… Дышать стало труднее, тяжесть толкала в спину, и спереди – в грудь. Но в избу Катерина не зашла, боялась смотреть на Гришу.
Сидела так часа два. В избе уже разговаривали. Скоро вышли оба.
– Ну, мать, не прощаемся. Может, вернемся, – сказал Гриша и чуть затронул ее за локоть.
– Поклон вам за хлеб, за соль, – вставил дядя Миша. – Откровенно – у вас хорошо! Воздух легкий. Так и подымает. Чего больше нам, старикам? И бор, и река – вон. Летом – рыбка. Щуки? Окуни?
– Всего вдоволь.
– Почем?
– Не продажна, сами едят.
– Продают, мамаша. Только не знаете. За рыбу – штраф. Власть все видит, все знает… Ну, Григорий-Трегорий, приглашаем в седло.
– Кончай трепаться! Компаньона бог дал, – сказал злобно Гриша и закурил.
Катерина встала к пряслу, закусила платок, хотела сказать что-то сыну, но удержалась. Дядя Миша залез в машину, с трудом вошел под руль, сзади сел Гриша. Катерина шагнула вперед и потрогала ладонью тугие рубчатые колеса.
– Королями вы. Остерегайтесь – темно будет. В ложбинах у нас мостики налажены…
– Но-о, антилопа! – крикнул дядя Миша, и голос сорвался, как вздрогнул. Захлопнул дверцу.
Катерина зашла в избу, хотела поесть. Кусок не шел в горло. Стала прибирать на столе, мыть посуду, потом прилегла на кровать, но от одеяла пахло плохим запахом, видно, дядю Мишу тошнило. Она поднялась и подошла к окну. Смотрела на улицу, в голове было пусто и тихо.
Куда-то делись люди, не лаяли собаки. Садилось солнце, очень красное, стояло вокруг него кольцо. «Скоро зима, совсем одна оглохну», – подумала Катерина и вздохнула.
Стало темно. Она вспомнила о Волнуше и пошла на степь. В степи холодно, голова под платком зябла, и дрожь опускалась на спину. Коров давно пригнали. Она шла потихоньку, вдруг вспомнила мужа: как-то ему живется на чужой стороне. Что бы сделал теперь Иван с сыном, куда бы повел его, но мысли сбивались на другое. Решила поехать в город, узнать, как живет Гриша, почему они детей не рожают. В голове на миг стало хорошо и свободно, ушла из тела боль, полегчало дыханье. Ее давно уж тянуло съездить к сыну, походить по большому городу, подышать его густым, неспокойным воздухом и что-нибудь купить в магазинах веселое, яркое для мелкой хозяйской нужды. Она давно не покупала ничего для себя, а теперь у ней был свой дом, свой порог, свои полы и окна, и ей не терпелось расстелить под ноги какой-нибудь махровый половичок и повесить шторку, как у людей.
Глаза у ней потеплели. «Может, сноха-то и не узнает…» – и от этой мысли снова заныли скулы, и в лоб ударила больная кровь.
Волнуши не было у тех сосен. Она стала звать ее, вначале тихо, легонько, потом закричала на полный голос – сколько хватило дыханья. Она не отзывалась. Там, где она лежала, по ровной широкой яме проехала чья-то машина. Узкий рубчатый след сдавил песок и пошел дальше. У ямы что-то белелось. Она подобрала это и вздрогнула – в руках был платок, который она сунула в карман сыну. Подняла его к губам – опахнуло табаком и кислым. Опять нагнулась: след вел в сосняк. В небе проглянуло окошко – означились лучше деревья. Катерина шагнула сквозь него, отгребаясь от веток. Запнулась о сухой ворох чащи, глянула на землю. Под чащей означились ноги Волнуши – седые пятнышки у копыт. Кругом была кровь, пахло кислым. «А мы у вас мясо не купим?» – пронеслось в Катерине, и она схватилась за сосенку. Глаза наклонились ниже к земле: везде валялись длинные окурки с золотым ободком.
«Поохотились…» – поняла последнее Катерина и подняла с земли ноги Волнуши. Выкопала ямку и схоронила. Постояла на месте. Усмехнулась: «Чё, сынок, ноги-то не взял, поморговал…»
Начался густой снег. Он засыпал след от машины и маленький холмик земли возле Катерины. Она подняла глаза. Сырая туча шла над головой. Снег летел косо. Вблизи земли он был светлей и реже, вверху сплотился в белую сплошную стену, которая склонялась все ниже, ниже к земле, пока совсем не легла. Начался ветер.
Он родился возле деревьев, у тех круглых огромных сосен, стоящих сзади и устремленных в небо. Ветер был сухой, зимний, дул в сторону деревни, дул как-то низом – ноги слышат, а возле головы пусто и тихо.
Катерина шагнула вперед, но дальше не смогла. Села на твердую землю и завыла. Снег засыпал плечи.
В БЕРЕЗОВОЙ ТИШИНЕ
Матери моей – Анне Тимофеевне
Шли двое тихими полями. Пахло прелыми листьями. Вечерело, березы клубились. Рос туман над полями, растекаясь внизу сизым молоком.
Они долго задержались в лесу, несли корзины с белыми грибами. Грибы в сумерках матово горели. Анна Ефимовна удивлялась всему, замирая от каждого звука, радуясь спокойной осени в полях, туману. Мария была молчалива, серьезна.
В густом нескошенном овсе вдруг застонал кулик, и Анна Ефимовна вздрогнула, напряглась в слухе. Звезды уже вспыхнули на всем небе, и она запела странную далекую песню:
Мимо рощицы дороженька торна,
Что торным-торна, пробита до песка.
Знаю, знаю, кто дороженьку торил, —
Добрый молодец ко девице ходил.
Пела она проголосно, как поют в одиночестве, щемяще растягивая слова. Песня была старая, как и сама она, потому нравилась Анне Ефимовне.
– Эх, Мария, теперь не поют так!.. И любят хуже… Н-да… А ты скоро замуж? В девках, что ли, вековать?
– Я уеду отсюда. Вы же знаете…
– Не чуди, Мария. Все твои обиды – сухая трава… Дунул – и нет. Э-эх, да что…
– Анна Ефимовна, послушайте, сил нет, хочется ходить без оглядки, а Кокин в рабочие планы суется…
Замолчали, пришла ночь, поля спали. Березы тоже спали, и трава – тоже, и кулик заснул. Туман в свете месяца качался медленно, сонно, и казалось, что в полях всегда ночь, тишина, никогда не рвал березы грозовой ветер, никогда не настигал овсы град, не кричали в овраге дикие гуси, никогда здесь не ходили комбайны, машины, не ругались шоферы. Хотелось идти и идти тихими полями, чтоб никуда не приходить, переживая в себе ночь, тишину, нерожденные думы. Не хотелось в такую ночь обижать человека, говорить ему злое, хотелось говорить милое, тихое, чтоб смыть с него всю боль, заботы, чтоб стал человек светлым, забыл печали.
– Улетит твоя печаль, Мария!.. Ты молодец, сил у тебя много… Ой, какая ты еще молоденькая! Ой-ёй… Давно ли я бегала молодая, уверенная?.. Молодые все уверенные. Любила – мужа на фронт отправила, только два письма и написал… Где-то лежит сейчас… Там тоже, может, ночь, тишина, и звезды, и дорога куда-то, и люди идут. Вот уж и старший сын в армию сходил, женился, скоро внуки нагрянут. Да-а!.. А я все бегаю, когда-то запнусь… Эх, летит время… И никто не живет дважды. Разве в памяти только? Жить бы престо, как эти поля… Осенью – хлеб, зимой отдыхают, весной цветут. И поля о нас все знают, и спокойны, и вечны, потому что хлебом нас кормят… Эх, Мария, как я ждала такой жизни, чтоб просто жить, дышать, любить внуков, бродить в лесу… Потом умереть спокойно. И лежать дома, рядом с этими полями. В тишине… В березовой тишине… И все бы помнили обо мне, всю жизнь, мол, людей учила, пусть теперь спит… Эх, Мария… Вышла на пенсию – обрадовалась: мол, удрала от школы, педсоветов, вечной ругани. Трудно в последнее время работалось. Коллектив-то стал молодой, все старые вроде меня на покой разбрелись. Пришли молодые, ученые. Ладила. И против шерстки было… Думала – теперь у вас покой будет. Только вижу – шуму-то больше. Больно за вас. Так и школу развалите. Эх, да что… Не знаю… Грибы солить, корову завести, по больницам шастать?.. Скверно мне, Мария. Прожила месяц – как в колодце отсидела… О школе подумаю – задохнусь. За что себя наказала? За что? Ведь вижу вот – чужой здесь Кокин, директор ваш новый. Болит у меня голова от него. Ведь мертвый Кокин-то. Живет, ходит, а сам мертвый. А вы-то на что? Вы-то? Ведь дети у вас на руках – и у тебя на руках, а ты хочешь бросить… Все прахом идет… На себя погляди. Какое большое дело задумала. Я, старуха, тобой гордилась. Шутишь – русский язык без домашних заданий вести. Все на уроке успевать! У ребятишек дома время остается. Детство им бережешь… Так зачем ты остановилась-то, зачем оробела? Скажешь – трудно. Кому не трудно? Но надо же! Кому-то надо первому. Конечно, тяжело шагнуть первому, тропку означить. Зато потом хлынут за тобой, след в след пойдут, дорогу наторят. В этом ведь и смысл-то – первому шагнуть. Второму легче – впереди затылок будет, а заднему совсем хорошо, да и спросу нет… Но так жить неинтересно. Я б не смогла.
– Ах, Анна Ефимовна! – отмахнулась Мария. – Легко сказать!..
– Злая ты стала. Семью бы тебе…
Падали звезды. В полях стало холодней. Дорога скрылась в тумане. Он шел низом, тяжелый, колыхался. Они брели по колено в тумане.
За лесом, в ложбине, мигали огни деревни, и женщина кричала кого-то. Было похоже – та женщина рядом на дороге, так голос звенел в ушах. Они стали двигаться за ним. Идти сразу стало легче. У Анны Ефимовны мысли стали выстраиваться в какой-то порядок. Поняла, созналась самой себе наконец, что тоскует по школе. Знала, отчего тоскует: там познакомилась с Гришей, своим мужем. В школе состарилась. Заменил в директорах Кокин, совсем молодой, уверенный в себе, с насмешливыми губами. Ходил в блестящем плаще и круглой коричневой шляпе. Думал, что самый умный в деревне. Он знал историю, два языка. А на людей почему-то косился. На каждого составлял свою мерку, под нее подгонял, если что упиралось – сметал. Был он никому здесь не нужен, как сухой сук березе. Кокин смутно чувствовал это и тогда особенно ненавидел тех, кто был рядом. Но в районе любили Кокина, ведь он ездил туда советоваться по любому поводу, ничего не оспаривал, покорно моргал густыми ресницами, и лицо было умное, открытое. И тем казалось, что говорят они тоже что-то умное, раз так внимателен Кокин, так полны смысла его ответные слова, так предупредительны его движения. По праздникам Кокин уезжал в район и там пил дорогое вино со своими друзьями, покорно слушал их речи, значительно хмурился, а потом рассказывал анекдоты из английского юмора, и все хлопали ему, многого не понимая, но думая, что это пикантно, другим недоступно, потом смотрели на Кокина восхищенно, считая его избранным другом. Если приезжал заведующий районо проверять их школу, то ночевал у Кокина, свет долго не гас в больших белых окнах, всю ночь лаяла кокинская собака, гремела цепью, а сквозь рамы пробивались громкая музыка, голоса.
Учителя после уроков часто бегали к Анне Ефимовне, делились новостями, вздыхали. Она любила эти минуты, любила своих гостей, любила проступающую нежность в их глазах, которая у всех учителей постоянна и вечна.
Уходили гости, опять оставалась одна, до боли в груди ненавидела Кокина, жалела школу. Потом приходила злость на себя. Почему сидит дома? Почему оставила школу? Почему носится со своей старостью? Где ее смелость, где прямота, которой учила Марию? И теперь, в тихих полях, среди ночных берез, в тумане, наедине с Марией, мучилась, слушая свои слова, мысли, понимая их глубже, резче. И когда думала о Марии, о ее робости, о ее постоянной печали, хотелось защитить Марию от неуверенности, от обид, которые ходят в жизни за каждым. Хотелось сказать ей, пусть она видит главное – помнит, как любят ее дети, – ту нежную радость, ради которой и нужно жить на свете. И теперь, на пустой тихой дороге, разговаривая с Марией, утешая ее материнскими словами, она все время думала о себе, о Грише, мучительно, обнаженно, начиная понимать, что муж осудил бы ее такую, придавленную Кокиным, с бессильным сердцем. Да и сама уже осудила себя.
– Мария, что, по-твоему, честность?
– А-а, не надо… Вообще-то каждый думает, что он честный… Помню, первый раз мать пряников из магазина принесла. После войны уже. Дала один – остальные в мешочек. А я мешочек подрезала, ополовинила, а на остальных оставила зубы – мыши, мол. Так и матери сказала. Двенадцать лет было… Что скажете – украла? Украла… От страха ведь я…
– Ну вот, поговорили…
– Кокин ненавидит меня…
– Эх, голова дурная! А если б любил? Другим бы стал?
– Хоть бы работала спокойно. У меня ведь цель! Вы же понимаете… Одна в районе веду без домашних заданий. И верю в это, и ребята верят. А он…
– Знаешь, Мария, надо мечтать… Да, прости меня, старуху, – мечтать! И тебе надо, и мне, и всем. По-другому нельзя, тогда вот – крест.
– Я тоже мечтала. А Кокин все раздавил. У него власть…
– Драться, Мария, надо… А как ты думала? Почти в каждом талант сидит. Да не каждому суждено до цели дойти. У одних нервишки сдают, у других в личном – кось-перекось. Третьих бюрократы стирают. И уж это – позор… А знаешь отчего все? От трусости! Как ни крути – от трусости… Вот Грише моему бронь давали, и сынок у нас появился, а он – в военкомат. Попросил прощенья у меня, что одну оставляет. Всегда у меня прощенья просил, когда обижал. Эх, Мария, какие это были обиды! То на работе задержится, то в сельсовете на сессии до полуночи, а я одна да одна. Для людей прожил, потому и помнят его все…
Анна Ефимовна замолчала. В груди вспыхнул жар и поднялся к горлу – она ждала, что сейчас кольнет в сердце. Прислушалась к себе. И точно – сердце сдернулось с места, словно кто-то его ужалил, после прошло. Увидела низкое небо с крупными звездами – и ей стало стыдно своей слабости. Не хотелось, чтобы Мария узнала про ее сердце. Капли тумана садились на лоб, холодили, и это успокаивало. Чтоб проверить себя, прибавила шаг. Сердце примолкло, натолкнувшись на неведомую силу сопротивления, недоумевая, откуда она. Потом забыло про нее, стало стучать спокойно и ровно. Жар в груди угас, и в ладони зашла сила. И она поняла, что сердце сердилось на Марию. И ее радовало, что есть еще силы сдержать сердце, заставить подчиниться, значит, до смерти еще далеко.
В теплых огнях, в длинных пустых переулках стояла деревня. Они подошли к ней совсем близко. Лаяли глухо собаки. Рядом играли на гармошке. Гармошка скрипела, как дверь. Мария думала, как уедет туда, где не будет Кокина, и станет легче, жалела себя, обвиняя кого-то за то, что одинока, живет надеждами. И сегодня снова никто не ждал дома. Было страшно заходить в пустую чистую комнату. Она часто спрашивала себя: а что, если не выйдет в школе и не будет семьи? Внутри холодело. В школе выходило радостно, ребята ее любили за интересные уроки, считали самой хорошей на свете. На уроки ездили учителя из других школ, удивлялись: как это – без домашних заданий? А потом видели, как ребята все успевают на уроке – выучить правило, написать изложение, придумать примеры, и глаза у них горели, и у Марии стучало сердце, хотелось расцеловать их, как родных. А потом в учительской, разбирая урок, приезжие вздыхали смущенно, разглядывая ее, как знаменитую балерину, но в глазах их тоже стояла радость. И она жила этим, потому что ею гордились. Все разбил Кокин. Он сказал, что вести уроки без домашних заданий – глупо. Он может допустить, чтобы работала так опытная учительница, а она, такая молоденькая, и вздумала подражать Ушинскому!
Ее хватило только на слезы. И хотелось жалеть себя. И жалела. И теперь жалела. И в этой жалости ей было хорошо, точно плыла в теплой воде, от которой разжимался комок в горле, и в голове текли смутные мысли. Слова Анны Ефимовны были какие-то старомодные, давние. Вдруг резко услышала, как рядом в деревне играет гармонь, и сразу же запахло туманом, мокрой травой – и руки совсем ослабли, чуть не выронили корзину. А Анна Ефимовна опять заговорила горячо, сильно, слова покатились, как горох по полу, сколько горошин – столько слов, но нельзя их собрать, да и не хотела Мария, потому что пришла опять жалость к себе, и она пила ее по глоточку, а когда дошла до того, что скоро уедет, представила, как все ее будут жалеть, не отпускать, – и Мария умилилась, запрокинула голову, подставив лицо теплому запаху травы.
А Анна Ефимовна вдруг перестала думать о Кокине, радуясь, что прошла сегодня километров десять и ни разу не отдохнула. Значит, есть силы. Ведь она решила вернуться в школу. И как только решила, сразу стало легче, забылся длинный узколицый Кокин и то, что нужно с ним ругаться, и то, что придется работать пока почти даром – все классы разобрали, и то, что недавно ей исполнилось шестьдесят. Она всегда стыдилась быть старухой.
– Не уезжай, Мария, – сказала чуть слышно: хотелось, чтобы у всех было ясно. – А жениха найдем. В деревне-то не парни выбирают, а девки. Давай смелей… И Кокина давай вместе… – сказала она весело, засмеялась.
– Как вместе?
– А так…
– Куда мне… – вздохнула Мария, закутав горло тяжелым воротником кофты. Она всегда простывала.
Началась деревня. Бросились под ноги собаки с лаем, из окон лились белые полосы от света. По улице ходили тени. Анна Ефимовна обрадовалась жилью, светлым окнам, собачьему лаю, соскучившись в полях по живым звукам, по людским голосам, и теперь оглядывалась вокруг тревожно-радостными глазами, точно зашла впервые в эту длинную, бесконечную деревню, полную шорохов, тихих, вздрагивающих голосов в переулках, от которых делалось все вокруг милым и нежным. И в ее душе поднималась новая, молодая сила, от нее стало в груди горячо. Падали звезды. От этих угасающих звезд, от тихих осенних полей, которые еще жили в ней, от тумана, от слабых ночных звуков, от новых мыслей стало легко и просто.
– А страх, Мария, тоже проходит. Нельзя уйти от жизни, нельзя, поверь… Человек рождается для мечты… Это не высокие слова – пойми наконец. И пусть пройдет пять, десять лет, а мечта должна жить. Если потерял ее – значит, и не жил, а сидел в норе…
Мария закашлялась. Обрадовалась кашлю – можно было не отвечать. Под ноги падал теплый свет, на лавочках сидели пары, и, когда они проходили рядом, пары затихали, потом опять начинали целоваться – в тихую ночь все слышно.
Собаки этих двоих уже узнали, не лаяли, только забегали вперед и смотрели в глаза и скулили.
– Ничего, еще заживем… Еще заживем, Мария! Ничего от нас не уйдет, еще покажем… Покажем! И память о себе оставим! Эх, Мария, спасибо тебе, спасибо…
Они простились. Звезды падали чаще. Стало совсем холодно, сильней заскрипела гармошка. В деревню тоже пришел туман. Звезды над туманом сделались ярче и такие же синие, как там, за деревней. Где-то рядом фыркали кони, бились в стойлах, просясь на волю, – на них покрикивал сторож.
Мария свернула в угловой дом в переулке, а Анна Ефимовна пошла скорым шагом в конец деревни, где стоял ее белый, уже постаревший домик, который построил Гриша. Ноги неслись быстро, в висках звенело, и казалось, что она молода снова, полна желаний, предчувствий, может, жизнь сотворит ей какое-то великое чудо, точно вернется оттуда Гриша, спадет с головы седина, усталость, сгорят бесследно заботы.
Утром в кабинет нового директора школы зашли две женщины. Он увидел их и стал что-то долго писать в большой книге. Лицо напряглось, от шеи полезли вверх пятна, ручка еще сильней заходила в книге. Он думал, зачем пришли эти двое. И если сейчас старая будет ругать его, за молодую заступаться, то он уже знает, что ответить. Может, просто не будет слушать, выйдет. Так даже достойней. Но они принесли заявления. Мария просила ее уволить, а Анна Ефимовна – принять на работу. Кокин потерялся и, чтоб не принимать ложного решения, сразу же поехал в районо советоваться.
И как только уехал, Анну Ефимовну окружили учителя. Они смеялись, радовались, стали петь песни. И когда запели «Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги…», голос ее был самый слышный и звонкий. Не хотелось ей, чтобы песня кончалась.