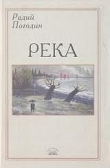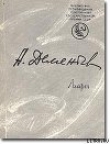Текст книги "На вечерней заре"
Автор книги: Виктор Потанин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
– Афоня, чего молчишь?
Но он только поежил плечами, как будто давила рубашка.
– Афоня?
И тогда сын вскипел:
– Ну что все Афоня, Афоня?! Тоже имя придумали…
– Не надо имени стыдиться своего, оно дано для божьего суда! – продекламировал отец своим тонким голосом. И еще что-то хотел сказать в том же духе, но махнул рукой, засмеялся. – Когда был помоложе, то состоял в драмкружке. Ты ведь помнишь, я служил тогда в строительном тресте и заведовал кадрами. Я всю жизнь, сынок, заведовал кадрами: то в тресте, то на заводах. И этим горжусь – значит, верили. Значит, доверяли. – Он опять смотрел на Афоню, и лицо было спокойное, ровное, и глаза совсем успокоились, и утихло в них раздражение.
– И кого же ты играл в драмкружке? Не Суворова? – спросил сын с лукавым намеком. И глаза не отвел и стал разминать сигарету. Отца передернуло. Он знал, что сослуживцы его часто называли Суворовым, а вот от сына не ожидал.
– Суворова я играл только раз. Дело было после войны. На меня надели парик из кудели и крепко-крепко напудрили. А в руки сунули трость – сосновую палку с сучком. Я ей упирался, потому что был на протезе.
– Всю историю, значит, нарушили. У Суворова ноги-то целые, – усмехнулся сын и вдруг стукнул ладонью по столу. – Вот что, отец, давай по-мужски? А то зубы мне затираешь, а сам на вопрос не ответил.
– На какой, сынок? Ты меня не стращай.
– Значит, не доверяешь соседа. Хорошо – я договорюсь с Журавлевым, но только… Только потом к тебе – ни ногой! – Он приподнялся и включил свет. И сразу волосы у него подернулись золотом, а в глазах мелькнуло что-то бойкое, детское. И опять отец на него засмотрелся, и сделалось ему хорошо. Но Афанасий был настроен решительно:
– Ты понял меня? Ни но-гой!
– Я понял. Но правильно, что тебя задело. А то совсем уж… – Он отошел от окна и осторожно присел на скамеечку. Ноги вытянул далеко, а руки скрестил на коленях. – Не сердись, сынок. Просто я хочу, чтоб он пожил. Да и заслужил сильно Федя… Это было в конце сорок третьего…
– И вдруг поперли «тигры» и «пантеры», – засмеялся сын и посмотрел на него снизу вверх, и в этом взгляде была насмешка. А лицо побледнело, и на скулах появилась краснота. И скоро краснота эта пошла на шею, а на щеках превратилась во что-то пунцовое, яркое, как сильный ожог.
– Почему не даешь рассказать, сынок?
– А ты почему мне не веришь? И почему унижаешь? Разве я виноват, что не сидел с тобой в том окопчике? Но сейчас же другое время…
– Другое, – согласился отец. – Но только тот окопчик не трогай. За него, сынок, дорого заплачено.
– А-а, ладно, – махнул рукой Афанасий, и лицо его выразило страдание. Он решил, что сейчас выйдет на улицу и пойдет куда-нибудь: лишь бы идти, лишь бы не слышать назиданий, укора, лишь бы вдохнуть в себя свежий вечерний воздух, освободиться от этого потолка, этой комнаты. Освободиться и забыть, забыть обо всем…
– Так, значит, о Журавлеве договорились? Как ты, сынок?
– Считай, что договорились. Но только это, отец, обида. Я ведь тоже хирург. Значит, все же не доверяешь? – спросил Афанасий спокойно и устало зажмурился. Болело сердце, затылок, и совсем не было сил.
– Не сердись, сынок! Я уж старый, я уж ни к черту. Но мне нельзя терять Федю.
– А зачем терять?
– Во-во! Незачем!
И вдруг с отцом что-то случилось. Он быстро поднялся, почти вскочил и забегал по комнате. И движения его были резкие, сильные, деревяшка снова постукивала, но теперь уже как-то весело, как будто отплясывала, и лицо разгорелось. Потом остановился и подошел близко к сыну.
– Ты прости, дурака! Я попытать тебя сдумал! Но ты-то… Ох, какой молодец, Афоня! Обида, говоришь, тебе – обида…
– Не понимаю.
– Потом поймешь, все потом… – Он суетился и опять заглядывал в глаза сыну и еще хотел что-то сказать, но не решался. И тогда положил на плечо сына руку. – Ты бы хоть погулял. То сидишь тут – угорел в духоте. А ко мне зайдет Федор. Или сам навещу. А дом не закрою.
Афанасий вышел в ограду, потом на улицу. В голове гудело, и нервы были, как струны. Он шел медленно, не разбирая дороги. В висках постукивало, и было странно – неужели тот смешной человек, который все суетился, пытал его и стучал деревяшкой, – это и есть его кровь, его отец, его самое дорогое? Нет, здесь что-то не так. И все-таки было жалко. Было жалко отца и одновременно обидно. Но как исправишь? И разве исправишь…
А вокруг смеркалась, ходили тени, и там, где днем сияло чистое и огромное небо, теперь бродило что-то зыбкое, молочное, что-то живое. Молоко звенело и на земле. И по всем оградам, загонам мычали коровы, призывая хозяев. И молоко кружилось, и пенилось, и заливало подойники, и во всех оградах кто-то смеялся, переговаривался, и отовсюду шли густые, знобящие запахи, и они застилали голову, таяли, и только сейчас Афанасий вздохнул в полную грудь. Потом посветлело и все обозначилось: и дома, и деревья, и дальняя изгородь. Он поднял голову – это вышла луна. Она висела холодная, чистая и какая-то бледная до синевы. Потом ее снова закрыло темное облако. Наступил самый главный, таинственный час. В домах уже зажгли электричество, а воздух на глазах изменялся: он был уже такой плотный и обволакивающий, что прямо давил на лицо, на руки, на волосы. И шло от него скрытое, большое волнение, и томили предчувствия. Афанасий закурил, постоял на месте. И опять стало грустно, печально, как будто у него умер кто-то из близких. И обида на отца росла, расширялась – и было стыдно. Отец разговаривал с ним, как с мальчишкой. И зачем приплел этого Журавлева? Но ведь ясно зачем! Ну и пусть! Не заплачем! Но чем сильнее он уверял себя, тем сильнее ему хотелось заплакать. Никто не знал, что с ним случались такие минуты. А ему бывало так беспомощно, как бывает с нами только в далеком детстве, и тогда слезы лились и лились беспричинно, и хотелось думать о себе, как о самом несчастном. Заснуть бы – и не проснуться. Вот и сейчас такое с ним повторилось, и он слышал, чувствовал, как его распирают слезы. И решил повернуть обратно. «Вот возьму сейчас и уеду. И уеду! Уеду!!!» – убеждал он себя и жадно курил.
В окнах горел яркий свет. Отец стоял у открытой створки. Афанасий отчетливо видел его в прямом освещении. Отец же его, конечно, не видел. Он стоял и покачивал головой. «Чудак! Познакомь его с Журавлевым», – усмехнулся сын и начал его разглядывать, точно чужого. Теперь, в ярком свете, отец казался совсем маленьким, сухоньким, как Суворов. А хохолок куда-то исчез, и голова вылезла из ворота высоко и болталась по-птичьи. «Господи! Какой он старый… Наверное, скоро умрет», – пронеслось в голове у сына, и опять ему стало печально. Отец подошел к столу и начал что-то писать. Голова его покачивалась в такт движению – у отца всегда был прямой отчетливый почерк. Афанасий еще раз взглянул на него и снова ступил на дорогу. Заходить в дом расхотелось. А деревня еще не заснула. Во всех почти окнах горело тихое, голубоватое пламя – то работали телевизоры. Афанасий шагал теперь крупным уверенным шагом. Ему хотелось посидеть у воды, отдохнуть. Сразу же за деревней было озеро – вот и манила вода.
Озеро лежало рядом с последним домом. Оно было широкое, круглое, вода блестела под лунным светом. На той стороне росла густая черемуха, вперемешку с ней попадались березы, кустарники – Афанасий знал это по прошлым приездам. Сейчас черемуха отцветала, отдавая прощальные запахи, потому он так спешил и на что-то надеялся, может, просто звала душа успокоиться, и он покорился душе. Луна сияла теперь широко и уверенно, и лунный свет над водой казался серебряным – даже больно глазам. Он подошел к самой воде, огляделся. Вокруг – пусто, бело, далеко в деревне перекликались собаки. Он хотел присесть на траву, но раздумал. Потом выбрал место под старым сломанным деревом. Здесь уютно, как в домике. Он зажмурил глаза и вздохнул полной грудью. И в тот же миг услышал что-то незнакомое, странное. Потом понял, что это пение, но все же не было полной уверенности, а звуки все дробились и таяли, и вместо них поднимались другие, и все это томило, укачивало, точно во сне. Иногда эти звуки куда-то проваливались, пропадали, потом опять возникали и уже были лучше, чище, сильнее. «Так это же соловьи!» – вдруг дошло до него, и он затаил дыхание. И сразу пение усилилось, и в тот же миг он услышал черемуху. Ее терпкий, дурманящий запах, наверное, приходил к нему по воде, и сейчас, ближе к полночи, цветы отдавали всю свою силу, энергию, словно прощались с кем-то или, наоборот, встречали. Афанасий вытягивал далеко лицо и прислушивался, и сейчас это пение как-то слилось, соединилось с черемухой, и душа затихла, прилегла. Он закурил опять, и в это время раздались голоса. И сразу – шаги. Афанасий заглушил сигарету и притаился. Говорили громко, с большим волнением. Один голос он сразу признал, да и с кем отца перепутаешь. А другой голос, широкий, басистый, он тоже слышал когда-то… Они были рядом. Остановились. Вначале он хотел окликнуть отца, но сразу раздумал. Что-то его сдержало, может, обида.
– Ночь-то какая, Коля! Не могу надышаться… – Это говорил чужой, не отцовский голос. Афанасий вспоминал его, ловил что-то в памяти, но так и не вспомнил. – Ночь-то какая досталась мне! – опять восхитился голос. – Главный мой наказ тебе будет один. Ты слышишь?
– Да слышу, – сказал чуть слышно отец, и Афанасий сразу представил его глаза, даже тот хохолок представил. И опять – жалко и горько. Так горько…
– Если умру там, Коля, то в городе не оставляйте. Привезите под наши березки… А медали мои фронтовые, все письма передай в школу, директору. Ребятишки меня любят, я у них выступаю. – Голос то поднимался, то падал почти до шепота. Наверно, мешало волнение. Потом совсем голос остановился.
И сразу – отец:
– Вот что, Федя, дорогой Федор Иванович! Не к лицу тебе панихиду петь. На фронте я такого не знал за тобой, не знали и командиры наши… Съездишь туда и вернешься здоровый. У Афони моего рука крепкая. У него еще никто никогда не помер. Никто, Федя, никто!..
«Во дает, старик! – подумал Афанасий с усмешкой. – Ну, какая там у меня рука? Чего он придумал?»
– Значит, согласился сын на меня?
– На тебя, на тебя, – передразнил отец. – Разговор-то вышел тяжелый. Ну, я сперва его попытал, про другого врача позакидывал – ну и обидел, конечно. Убежал Афоня куда-то, переживает. Не доверяешь, мол, мне, не веришь…
– Зачем ты, Коля? Зачем ты так по-худому? И сын все же, одна с тобой кровь…
– А я ему записку оставил. И наказал, чтобы сам тебя оперировал. И чтобы все по-хорошему. На все, понимаешь, сто.
– А не откажет? – опять спросил голос и замер. И в этот миг ударили соловьи. Они сорвались, точно с горы, и запели с шальной удалью, бесшабашно, точно были теперь на свадьбе, на какой-то счастливой гулянке – и забыли обо всем, обо всем, и только пели, пели и пели.
– Слышишь, Федя? Ты слышишь?
– Слышу. Это птички меня отпевают.
– Да брось ты, Федя…
– А он не откажет?
– Нет, ни за что! Наоборот, разозлил я его, обидел, а он в обиде-то сильно хорош. Так отделат тебя, что приедешь, как после баньки…
– Приеду, конечно, приеду. И стану тут помирать.
– Да брось ты свою чихню! Афоня мой не позволит. И не таких, поди, выручал!
Афанасий сидел, как связанный. И было то жарко, то холодно, то хотелось курить, то хотелось пошевелить ногой – она затекла совсем, но он боялся даже дышать. А в голове билось только одно. Только одно – так вот о чем отец писал за столом! А соловьи кричали теперь почти у самого уха. Но это вода виновата. Это по воде летят звуки, это по ней они несутся с такой быстротой. И летят, поднимаются выше, все выше, и там от них – одни брызги, одни уж осколки, и они надают в воду и погибают. И тут же родятся, и все снова, снова и снова…
– Ох, выпевают, – сказал отец и рассмеялся.
– Тебе весело, а я не могу. Нехорошо мне.
– Да брось ты, Федя! Сынок этого не допустит. Он из земли подымет, прямо ногтями выцарапат.
– Ты не говори – понимаю. Каждому свое. Мой тоже вчера приехал, как в кол колонул – в район, говорит, забирают. А я отвечаю: думай, у тебя повышенье, не все председателем-то колхоза. Но только за тобой не поеду. Здесь родился, здесь и помру. И ты меня не трогай, как пешку. Я тебе – не игра…
– Правильно! Нельзя тебе ехать.
– Что правильно?.. Вот сынок твой посмотрит и скажет – опоздали, товарищи. Он уже давно тебя съел…
– Кто он-то? Да кто он, Федя?! Да никакого рака нет у тебя. Иди на операцию с легкой душой. Сынок мой не ошибется.
Афанасий улыбнулся в своей засаде. «Ну-у, родитель, прямо векселя раздает», – к стало легко. Голова уже не болела, и дышалось свободно, и обида, та большая обида все уходила куда-то и уходила. И он опять зажмурил глаза, и все тело стало исчезать, исчезать куда-то и – полетело, как в полусне. И он бы, наверное, задремал, но снова ожили голоса.
– Ты меня, Коля, не пеленай. А хоть бы и что-то… Ведь пожил я, кое-что повидал… Вон как птички кричат. И чего они выпевают…
– А я тоже заслушался. И не надо бы там березы рубить. А то в войну, говорят, не рубили, а теперь, как одурели…
– Не ворчи, Коля. А то много ворчим все, состарились.
– Ну ладно. Ты состарился, а я не состарился. – Отец почему-то вспыхнул и постучал деревяшкой. Под ней хрустнула ветка – и отец сразу одумался.
– Ты не обращай на меня. Какой-то горячий я. То ли нервишки…
– Я и не обращаю. Давай-ка присядем, а то я устал. Вот и газету припас я, на газету и сядем.
– Ох, Федя, Федя. Ты у меня вечно за няньку. Кто у нас ботинки-то в прошлый раз покупал?
– Ты, Коля, ты!
– Ну, хорошо, вот придешь из больницы, так сразу тебя в обувной и пошлю, – отец засмеялся и зашуршал газетой.
– Ты меня, Коля, не утешай! И не старайся. Я все понимаю, и все может быть. Так что давай-ка на всякий случай обнимемся.
– А я не хочу, не хочу, – подал снова голос отец. Но потом, видно, не выдержал и притянул друга за плечи. Афанасий слышал, как они тяжело задышали, как отец притворно заохал, как его друг запокашливал – и опять успокоились. И снова ожили птицы. Они кричали теперь протяжнее, тише, наверно, устали. По воде шли дороги, дорожки, луна сияла весело и была точно живая.
– Господи, кто же это все придумал да на землю поставил! Вот живешь, живешь – и все мало и все не хватило. А ведь не в масле же мы с тобой, Коля, катались. Не в масле.
– Ну вот, заворчал.
– Э-э, нет, не ворчу. А вот ты родного сына обидел. Каку-то записку выдумал! А до этого, поди, накричал на парня…
– Не надо, не трави душу. Мне и так что-то муторно.
– Вот-вот, а то больно горяченький… И все же, Коля, давай встанем на ноги да по-фронтовому обнимемся. Помнишь, как в сорок третьем-то…
– Помню, помню, сержант… – Отец встал медленно, а тот уже был на ногах. Афанасий не выдержал и приподнял голову. Отец лежал у Федора лицом на груди, и лопатки у него подрагивали.
– Ну, хватит, Коля. И на всякий случай – прощай…
– Ты такого не говори! – Отец сразу отпрянул от него и застучал деревяшкой. – Не говори при мне! Не позволю!
– Ладно, ладно. Только есть к тебе одна просьбишка – давай походим по берегу да помечтаем?
– А зачем?
– Ты не бойся, не вздрагивай. Дело-то будет маленькое. Есть тут недалеко полянки, две полянки мои. Там я в молодости и оставил себя. Там и жену свою повстречал… Сегодня с тобой побродим, а завтра уж – по больницам.
Они прошли в двух шагах. Еще немного прошли – и отец заворчал:
– Нет, давай остановимся, что-то сердце покалыват. Как шагнешь – прямо шипом.
– Вот-вот. Меня гонишь в больницу, а сам того хуже. Вот приеду – поговорим.
– Приедешь, Федя, приедешь! – сказал отец возбужденно и засмеялся. – Ну, показывай давай, где поляны-то?
– А вон, Коля, вон! Лежат под луной да поляживают.
– А чего им! – И отец зашагал вперед.
Афанасий поднялся из-за укрытия. Они были уже далеко. И шли теперь обнявшись. Потом их спины слились в одну, и он услышал голос отца:
– По Дону гуля-я-ет… – И сразу ему подпел протяжный сильный басок:
– Казак молодо-о-ой…
Афанасий теперь стоял в полный рост, улыбался. Стало легко, как в детстве.
ЛЕГКАЯ
1
Говорят, к сорока годам в человеке что-то стихает и успокаивается, и все чувства, желания входят в свои берега. А если разобраться, то много ли сорок лет? Просто жизнь так коротка, быстротечна, что надо ловить свое счастье, пока еще можно, пока в тебе бродит горячая кровь. А если она уже не горячая, если все прошло, миновало – и вот уж рядом печальный закат… Об этом и еще о чем-то длинном, тяжелом думал школьный учитель Валерий Сергеевич и молча курил. Сигарета не успокаивала, да и мешала девочка. Она сидела напротив и смотрела в окно. Глаза были сухие, настойчивые, таили обиду.
– Пойдемте к маме… В последний раз.
Он вздрогнул от ее голоса и распахнул створку. В комнату залетел легкий воздух. Запахло мокрой зеленью, огурцами. Учитель вздохнул глубоко и нахмурился. Потом вспомнил девочку.
– Нина, чего тебе?
– Пойдемте к маме! Я боюсь одна на могилу…
Он поежился, точно от холода, закурил. Струйка дыма казалась голубенькой посреди большой комнаты. Таким же голубым и веселым переливался хрусталь, запертый в гладком дубовом серванте, даже ковры на полу и по стенам тоже оделись в голубое, зеленое – это солнце потревожило их. А учителю снова грустно. И снова в глазах родилось больное и темное, и чем сильнее вглядывался в эту девочку, тем больше делалось этого темного, и он опять сползал, погружался в свою тяжелую думу.
– Пойдемте?! – требует девочка.
– Ну, хорошо.
Он снова курит, вздыхает, а девочка хмурится, молча ждет у двери.
На улице солнечно и свежо. Ветерок какой-то обволакивающий. Он залетает под воротник, под рубашку и скользит, трогает тело, словно бы сам живой. «Эх, какой воздух!» – не может сдержаться учитель и поднимает высоко голову. В такой день хорошо оседлать машину и лететь в дальние леса, перелески, где шевелятся, поскрипывают под листьями белые грибы и синявки, где все дышит тишиной и покоем, и усыпляет, укачивает этот покой. Девочка идет рядом, смотрит под ноги.
Он выбрал самый дальний, окольный путь. Вот уже кончилась улица, и обступили поля. Но учитель свернул направо, в березы. Там, глубоко в лесу, был школьный трудовой лагерь. Там жил его сын – пятиклассник Сергей. Он любил приходить к нему неожиданно, да и сын всегда ждал. Вот и сейчас он решил повидаться. Нина чувствует его хитрость и как-то покорно стихает. Глаза сощурены и смотрят вперед.
Из-за берез показалось солнце, оно повисло так неожиданно, что он вздрогнул. Лучи были прямые и жаркие – опять возвращался зной. От земли, от листьев, от старых сучьев поднимался пар и пропадал в вышине. Влага, пролитая за ночь на эти травы, березы, опять уходила туда, откуда пришла. Девочка кашлянула, призывая к себе.
– Я уеду, а кто мне напишет?
– Я напишу. И мой Сережа напишет. Ты ведь дружишь с Сережей. Вот и пишите…
– А еще?
– Кто-нибудь…
Она обиженно замолчала. Сандалии неслышно опускались в песок, и она точно не шла, а подкрадывалась, и этот легкий шаг его мучил, потому что кого-то напоминал. «Ну, конечно, ходит, как мать…» – вдруг подумал Валерий Сергеевич, и сразу жалость пронзила. Ведь Нинка же теперь сирота, совсем круглая сирота.
– Тебе будет хорошо в детском доме! Да и город большой, театры… Я бы сам пожил в городе.
– Какие театры, – прервала девочка и улыбнулась. Улыбка была тихая: она снова хотела заплакать или в чем-то признаться, и нерешительность эта, видно, томила, мешала дыханью.
– Извините, я перебила.
– Ничего, Нина, ничего…
– Я попрошу…
– Говори, говори, – подбодрил он, а у самого все замерло, затаилось: «Чего опять выдумала, клонит к чему?»
– Я потом… – она замолчала. Учитель обрадовался молчанию и спокойно курил. «Какое тяжелое вышло лето, да кто поможет – никто. Вот уж целый месяц ни тетрадей, ни школы, а все нет желанного отдыха. Да и жена далеко, в Черкассы уехала. Хотела недельку погостить у родителей. Но разве обойдешься неделькой? А была бы рядом – все же горе полегче. Но откуда, за что это горе? За что же?!» – вопрошал он кого-то и нервно покашливал. Березы не шевелились.
– Вы завтра меня повезете?
– Завтра, Нина, не беспокойся.
– Я так… Все равно…
Она шла теперь, как молчаливое осуждение, да и лицо ее было сухое, серьезное, без кровинки лицо. Иногда посматривала на небо, точно бы ждала грозу, непогоду и заранее боялась грозы. А в небе уже шли облака. Они родились внезапно. Из ничего. И медленно потекли над лесом.
Девочка опять подняла глаза, и он усмехнулся.
– Чего там увидела? Запнешься! – он попробовал пошутить и отвлечь ее, но голос вышел мрачный, глухой.
– Не запнусь! – так же мрачно ответила и еще внимательней засмотрела вверх.
Облака были, странные: одни белые, другие темные, иногда два облака сливались в одно, и тогда цвет выходил какой-то серый, белесый, но все равно в этом облаке уже слышался дождь. «Хорошо, что дождь снова, значит, трава подрастет и покосим…» – подумал с облегчением Валерий Сергеевич и усмехнулся сам над собой. За годы жизни в деревне он стал совсем деревенским. Вот и сейчас он подумал вдруг о своей корове, об овцах, которым надо поставить сена, а в засуху разве поставишь? Зато после дождика любая травка пойдет, зарезвится. Может, и разрешат покосить по лесам. Девочка кашлянула, поправила волосы.
– Ну что, запнулась? – опять попробовал пошутить он, но та не поняла шутки, не поддержала.
– Я легкая, не запнусь…
– Какая?
– Легкая, – в голосе – новая досада и боль.
– Легкая, легкая, – он не заметил, что говорит вслух. И уж совсем не заметил, как опять ее вспомнил. «Как они похожи все-таки – мать и дочь! И походкой, и голосом… Ну и что из того – пусть похожи». Но все равно уже мысли эти стали опутывать, обволакивать, и не было сил от них отмахнуться, избавиться, да и зачем. И он совсем сдался на милость им, но все равно, чтоб отвлечься, стал считать деревья. Думал – дойдет, досчитает до ста – и полегчает, исчезнет боль, но вот уже до ста дошел, вот уж больше, а все так же ныла, болела душа. И он совсем, совсем покорился, стал думать о давнем, о прошлом. Но в этом прошлом опять поднялась она, а с ней и сам он в свои двадцать лет. Нет, не в двадцать уже, в двадцать семь. Институт он закончил поздно, не вовремя. Да и какая радость парню в педагогическом? Теперь бы не пошел ни за что, а тогда вернулся из армии и сразу – бух, как с обрыва, одно утешенье – институт в родном городе, а он любил городскую жизнь. И вот он – уже учитель. Сельский учитель. Как это трудно для него, непривычно, но что поделаешь – судьба… Зато повезло в малом – с квартирой, с хозяйкой. Вот она стоит перед ним, Антонина Ивановна, улыбочку на лице сделала, без причины состроила, зато в глазах – одна доброта. Потом привык и к словам, и к улыбочке, как-то сразу привык и доверился. А чего копать в человеке, раздумывать, если тот сердцем – к тебе.
– Ты Тоней зови меня или Тонечкой. Не остарела пока, поди, в сестры гожусь?
– Кому в сестры?
– На тебя потихоньку натряхиваюсь, а ты уж напужался, поморговал. А я ведь постаре-то немного, каких-нибудь десять лет.
– Сколько вам, Антонина Ивановна? – спросил он уже веселым голосом, ему стало очень легко.
– Кто ж у бабы про года спрашиват? Я совру, ты поверишь. А ты Тоней зови, называй. И чтоб без всяких там хвостиков, без чинов. Ты ведь можешь еще и посватать меня! Видишь, кака баска да молодинька, – сама засмеялась громко и весело. И вдруг что-то вспомнила, повернула лицо. И на лице извинение.
– А ты не сердишься, не сердись.
– Я ничего.
– Ну вот, хорошо, все правильно. Не всем быть молодым да красивеньким, а некрасивых куда? Че, в чулан на замок? – она засмеялась опять, но быстро сникла и опустила голову.
– Я в войну ведь так выхудала, а после и не поправилась. Видно, сжались тогда мои косточки от хорошей, сладкой еды… Ну, че замолчал. Валерей, Валерей?.. Ага, Сергеевич? Ты прямо у нас молодой да подсадистой, ну прямо офицер какой, капитан.
– Я не офицер…
Но она уже не слушала, прервала его, увлеклась. И слова, как горох:
– У меня муж тоже был офицерик. Такой бравой да сухонькой, руки в бок, шагом арш, – она опять засмеялась, потом смутилась, нахмурилась. А ведь недавно еще улыбка была на лице.
– Ну, ладно, смешно тебе, смешно, вижу. А ты, значит, хорошой, серьезной… И коровки, поди, нет у тебя? А в деревне как без коровки? Ну ничево. Не страдай, не тушуйся, молока принесу – хоть залейся, а живи давай поотдельно. Комнатка-то твоя бокова, есть друга дверь из сенок, ход-то будет другой. А то люди наврут на нас, обессудят… – она покраснела, засуетилась, – да, поди, чего на меня, ничего, – все это она враз выпалила и не запнулась. И пока говорила – прямо в глаза смотрела и не мигала. А на улице было ярко и солнечно, – и от слов ее, от настойчивости, от белой веселенькой комнаты, где сидели они, от самой летней деревни и раскидистой зелени, от теплого чистого воздуха, от всей теперешней жизни, такой новой и неустроенной, ему стало вдруг так хорошо, так радостно, что он любил уже всех, обнимал всех глазами: и хозяйку свою, и деревню, и школу, которую еще не видел, но верил уже, что и там хорошо, и все ждут его – не дождутся.
– И река у вас есть?
– Ты че! Поди, через мост ехал, на воду плевался?..
– Ехал, Антонина Ивановна!
– Ну вот, дознались, Валерей Сергеевич, – последние слова она произнесла медленно, с остановкой, потом совсем замолчала, задумалась. Но, видно, трудно было молчать.
– Ты че меня Тоней не называть? То ли трудно тебе, тяжело? Ничего, будет время – само придет. Я – баба легкая, не сердитая, и имя тако же легкое, тонко-тоненько…
– Магазин где у вас, Антонина?..
– Ну че ты, че ты – Тоня, Тоня я. Честно слово, как неродной. Давай деньги, сбегаю за покупками, только водки не покупаю. Нет, Сергеевич, нет и нет…
– Что вы, вас затруднять…
– Надо ж, надо ж, каки мы вежливы! «Что вы, что вы, вас затруднять!» – она передразнила его громким веселым голосом, подмигнула и подняла вверх оживленные глаза.
– А ты бы по-простому, по-нашему: «Ну-ко, Тонька, шаг – туда, два – обратно».
– Поди, далеко?
– Ох, смешишь ты, Сергеевич! Я ведь шагом не хожу, все бегом, как по воздуху. Я зарядкой занимаюсь, Сергеевич!
– Неужели?
– Неужели в самом деле, честно слово – не пойму, – она засмеялась, откинула голову. Видно, весело, что поразила и сбила с ног. А он смотрел, смотрел на нее, приглядывался, и все кружилось в нем, наливалось радостью. Что-то было праздничное в ней, забавное: то ли простоты вдоволь и мало ума, то ли, наоборот, что-то хитрит, заплетает веселое.
– Я и колесо делаю. Вертушку кручу! Тебе в армии, наверно, показывали?
– Знаю, знаю, показывали, – он уже еле сдержался, но смеяться боялся – еще заплачет, обидится, соберется в комок. «Но откуда она? Откуда взялась такая маленькая, веселая, с карими подвижными глазками, с пучком поседевших волосиков, завитых, скрученных в тугой узелок?»
– А ты не жалей Тоньку, приказывай. Я баба веселая, легкая, сухая палка, бараний вес. Я и в городе жила, побывала. Городских сухарей попробовала, ишь че с их расплылась.
– Долго жили там?
– Долго, долго, Сергеевич. У нас квартира на втором этаже была, так я на третий все пробегала. Разбегусь, бегу да убьюся. Да прямо в дверку чужую стукнуся. Подь ты к черту, – корю себя, – то ли птичка ты, то ли бабочка семикрыла? Куда летишь, спешишь, поди, никто и не рад.
– Вы с мужем жили?
– С мужем, да, – она на минуту задумалась. И снова осветилось лицо.
– Мой-то из военных был, с золотыми погонами. Капитан, может, даже майор.
– Может, генерал? – он засмеялся, не вытерпел, но сразу смолк, в руки взял себя.
– Зачем прибавил, Сергеевич? Ты видал генерала-то? Его, поди, не обхватишь по талии, да и росту отмеряно. А мой – кого – такой же легонькой, суховатенькой, от него и научилась гимнастике. По утрам соскочим, оботремся, обмоемся, потом уж на голове стоим.
– Оба стоите?
– А чем нам, Сергеевич! Я вначале – из угождения, потом вижу – на пользу мне. Здоровье-то не купишь у нас. Хочешь, покажу упражнение?
– Потом…
– Закругляюсь, Сергеевич. А то надоели слова да речи, надо и за стол.
А потом, за столом, ему стало опять покойно и весело, как будто приехал к родной матери на каникулы, и кругом – все родное, домашнее, – и оттого тепло и покой. А она все смотрела на него устало и ласково, как будто бы видела и желала ему вечной радости, многих лет.
Но Тоней так и не смог называть ее, как-то не получалось. Стеснялся, да и временами она выглядела совсем старой, уставшею, не помогала, видно, гимнастика, а может, просто давила жизнь.
Очень любила ходить по грибы. Правда, редко приходилось с корзинкой – в колхозе время всегда горячее. Работала много – то дояркой, телятницей, то замещала заведующего на ферме, – вставала рано, ложилась поздно, так что какие уж тут грибы. Но все равно выкраивала свободный часок. Лес-то рядом, и ноги свои. Да и любила эти лесные часы. Да и как не любить их, березы…
Валерий Сергеевич вздохнул глубоко, отвернулся. По дороге кто-то ехал на лошади. Лошадь весело фыркала: видно, попадал в ноздри сухой песок. Поравнялась телега, в ней сидела Валентина Корюкина – школьный завхоз. Он не любил эту женщину, избегал. Но сейчас – делать нечего – носом к носу…
– Пошел к сыночку, Сергеич?
– Туда! – он ответил отрывисто и замедлил шаг. Но телега тоже замедлилась, и он с раздражением закурил.
– Все собираюсь к вам да наглаживаюсь, поглядеть ваши ковры, гарнитуры…
Он опять промолчал, только в щеки бросилась бледность. Но она ничего не заметила, лицо веселое, круглое, и руки такие же круглые, толстые, они цепко сдавили кнут.
– На своих ножках нынче? Надоело на «Жигулях»?
– Надоело… – И снова затих разговор. Но ей, видно, не привыкать. Опять веселая:
– Говорят, вы втору коровенку заводите да пустили бычка?
– Ну и что?
– А я хочу к вам в работники! На полставки возьмешь?
– Мне сейчас не до шуток! – и он посмотрел долгим взглядом на девочку, и у завхоза изменилось лицо. Но девочка, казалось, не обращала на них никакого внимания, еще сильней присмирела, все мысли в себе.
– Худо тебе, Нинка, наступит без матушки! Ой, худо – не приведи. Да не вернешь…
– Кого? – спросил машинально учитель.
– Не вернешь нашу Антонину Ивановну. Да хоть бы не така смерть… – и Валентина поднесла к глазам носовой платок.
– Тебе-то что плакать, страдать… – оборвал он ее громким сердитым голосом и сразу пожалел, что вспылил. Не хотелось ругаться, еще больше расстраиваться, только хотелось побыстрей от нее отделаться.
– Ты мне не указывай, Валерий Сергеич! Ты мне рот не затыкай белой тряпочкой… Я вот правду возьму да выпалю.
– Давай, давай, – он махнул устало рукой, отвернулся. Им овладели апатия, безразличие, видно, сказались усталость последних дней, напряжение, и он закрыл глаза. Когда открыл, то сразу же в упор увидел печальное лицо девочки и злые, напористые глаза Валентины. В них было все: злая боль, осуждение и еще большое-большое лукавство. Но все равно он решил отмолчаться, не связываться, зато она не молчала: