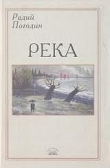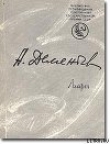Текст книги "На вечерней заре"
Автор книги: Виктор Потанин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
На вечерней заре
НА ОБРЫВЕ
Повесть
1
Март – месяц света, и этот свет и на душе, и на небе. Он даже вечером не проходит, не тает, и ты стоишь в поздний час у окна, а за стеклом – что-то тягучее, светлое, голубое: не то туман, не то тени каких-то небесных деревьев. И ты глядишь на это, вздыхаешь, а в горле – больно-больно, как будто перед слезами.
Так и было: я носил в себе тяжесть. А может, это не тяжесть – просто мне захотелось сделать поступок. И я его сделал, решился, а теперь болели нервы, терзались. Три дня назад я поехал в облоно и попросил себе назначение. И на меня сразу написали приказ, похвалили, так я стал директором Заборской школы. Эта Заборка – моя родная деревня. От нее до города – семьдесят пять километров. Ну и пусть, перебьемся без города! Но жена моя рассудила иначе. Я пытался с ней говорить, я пытался доказывать, но она откидывала голову и смеялась. И смех этот – надо мной. Надо мной, дураком, и мне было страшно. Вот и сегодня все повторилось: я стал хвалить эту деревню, расписывать, а жена схватила себя за виски и зашаталась от хохота. А глаза были больные, тяжелые. И все это влилось в меня по каким-то невидимым проводам…
С таким настроением я и вышел в тот вечер. Хотелось отдохнуть немного, забыться, и я шагал вперед, без разбора, а весна была уже где-то рядом, близко-близко, на расстоянии дыханья. От снега пахло спелым арбузом; и этот арбуз кто-то ломал все время, разбрасывал; и я стал пьянеть, закрывать глаза.
Так, в забытьи, и дошел до реки. Даже не заметил, когда дошел. Но только ступил на обрыв – чуть не вскрикнул: да где же я!? Что со мной?! Впереди мерцал и искрился снег, а над снегом скользили плавные тени – то шли тени от облаков. Я взглянул в небо и вздрогнул: луна висела какая-то тихая, огненно-рыжая, как лиса. Но так было недолго. На мою лису надвинулось облако, и она сразу спряталась и ушла, – и в тот же миг на реке потемнело. Над головой у меня зашумели деревья. То шумели, качались высокие тополя. Они росли, поднимались прямо на взгорье, рядом с ними стояла музыкальная школа. Она была сделана из красного старинного кирпича и вблизи походила на маленький замок. В этом замке обитал когда-то купец Веретенников, зато теперь из окон неслись звуки скрипки и детские голоса. Я любил приходить сюда, я любил этот высокий, обрывистый берег. Боже мой! Какие снега открывались отсюда, какие пространства!.. Вот и теперь я стоял на обрыве и слушал ветер. И вдруг кто-то меня окликнул. Голос был громкий, отчетливый, и я сразу узнал его. На школьном крыльце стоял Олег Николаевич, мой давний приятель. Он махал рукой, и я подошел поближе. Олег был без пиджака, в одной белой рубашке.
– Ты что-то по-летнему?..
Но Олег меня перебил:
– Кричу, кричу, а ты замечтался.
– Да я стоял, понимаешь…
– Ты не стой, не стой на горе-е-е кру-у-у-той… – последние слова он провел с веселым нажимом. – А мы, старичок, гуляем. А ты, значит… грустишь? Говорят, в деревню собрался? За того парня хочешь повкалывать, а как же семья?
– Нет, Олег, я серьезно.
– …Там же школа – из ряда вой, второй год без директора! Давай, давай, патриот! Дыши сельским воздухом, а мы уж как-нибудь на асфальте. – Он засмеялся, стукнул меня по плечу. – А мы сегодня пьем и танцуем!
– Что за пир?
– Через день же восьмое марта. А мы пораньше, с утра. – И Олег решительно кашлянул, и не успел я даже опомниться, как он уже приподнял меня на крыльцо и подтолкнул к двери. Через секунду я стоял в узеньком коридорчике, а Олег дышал мне в лицо:
– Я тебя, дорогой, приглашаю! Да, да, не поморгуй компанией. Наши бабы без тебя помирают, а жену твою я потом успокою… – Он уже стягивал с меня шарф, все время что-то шутил, приговаривал и скоро заразил своим настроением. Этого Олега я знал давно. Мы вместе с ним учились в педагогическом, вместе играли в одном оркестре, в один год завели семью. А годы – птицы, и вот уж нам скоро по тридцать, и мы живем с ним в одном городке. Все похоже и все совпадает, только я работаю в простой школе, а Олег – в музыкальной. Что поделаешь – все мы люди, но у всех – по-другому…
– Мы еще за стол не садились. Так что ты подгадал…
– Да я, Олег, не голодный.
– Ничего-о, привыкай! – И он тянул и тянул меня за рукав, пока мы не оказались в большой круглой комнате. У купца здесь, наверное, размещалась прихожая. Олег, наконец, меня отпустил, и я вздохнул полной грудью. И сразу же в уши ударила музыка. Она была, как гром, как обвал, – у меня сдавило виски.
– Ансамбль «Аракс»! Третий в мире или четвертый… – Олег засмеялся и подмигнул со значеньем – знай, мол, наших, мы любим громко… А музыка рокотала, шумела, точно в горной речке шли валуны. И вдруг вверху возник новый звук – прозрачно-нежный, печальный. Он рвался сквозь рокот, тянулся, – так пробивается часто травинка сквозь мертвый бетон. Я поднял кверху глаза – это тенькала люстра, вздыхала. А рядом со мной – только вытяни руку – двигались пары, смеялись и кто-то весело подпевал «Араксу». Я отчаянно озирался, искал глазами Олега, но вот все кончилось, смолкло и стало тихо, как в сосновом бору. И в это время взвился кверху тонкий вежливый голосок:
– За стол прошу всех! За стол!
Народ задвигал стульями, зашумел. На столе уже стояли рюмки, закуски. В высоком кувшине дышали вербы, прижавшись друг к другу… Все смолкло, погрузилось куда-то. Так бывает в театре перед самым началом. И вот пошел занавес – и поднялся директор. На щеках блестел еще летний загар, и глазки тоже блестели.
– Наш поваренок – умора! – шепнул мне в ухо Олег, и я не вытерпел, засмеялся. Директор взглянул жалобно на меня и тут же заговорил:
– Дорогие женщины! Наши сестры, подруги! Сегодня все смотрят только на вас, а я слегка припоздал, извиняйте. Понимаете, встречал племянника на вокзале. Четыре года не виделись, и вот бросил парня на чемодане… – и тут его перебили:
– Ближе к делу, как говорил Мопассан…
– Я о деле, Олег Николаевич. – И он снова сделал жалобное лицо. Его лиловые глазки то вытягивались в длинную ниточку, то округлялись.
– Значит, бросил Адика дома – и сразу к вам, в коллектив. И мой тост, конечно, за женщину. У нас их мало – всего одиннадцать человек.
– Нет, двенадцать! Я с утра посчитал…
– Вы – юморист, Олег Николаевич! – Он поднял высоко рюмку, зажмурился. На руке у него блеснул перстень рубином, потом снова погас. То ли от взглядов наших, то ли подвело освещение.
– В общем так, я скажу по-простому… Давайте пожелаем всем им, двенадцати, лет до ста расти, не зная старости… И чтоб детки были у всех, и чтоб деньги не выводились!
– А если нету деток? – засмеялась соседка Олега, молодая белокурая женщина.
– Это дело наживное! – повеселел директор и выпрямил грудь.
– В общем так. Прошу поднять всех за нашу прекрасную половину!
– Э-э, не пройдет! – возразил шумно Олег. – За это еще днем поднимали.
– Так я же встречал племянника! – почему-то рассердился директор. И опять он вызывающе сверкнул перстнем и выкатил глазки. И теперь он – с длинной рюмкой в ладони, с головой, похожей на спелую дыню, – походил на какого-то грузинского князя с картин Пиросмани. И этот князь не знал сейчас, о чем говорить. Но его выручила соседка Олега:
– А давайте подымем за вашего Адика! И чтоб детки у него были, и чтоб деньги не выводились!
– Да ну вас, ясное море! – директор обреченно махнул рукой. – За Адика так за Адика. Пусть ему маленько икнется.
Все чокнулись, закусили, только соседка Олега как-то брезгливо отставила рюмку. Ее толстые губы под черной помадой почему-то надулись, обиделись. Перехватив мой взгляд, Олег наклонился поближе:
– Познакомься. Это – Нина Сергеевна, народные инструменты. Самая красивая девушка в нашем квартале.
– Не в квартале, а на Урале! – Она засмеялась и посмотрела на меня, как малыш на конфету. Глаза ее просто притягивали к себе и что-то уже обещали. Я где-то видел это лицо, я запомнил. Крашеные волосы были подрезаны под мальчишку, а на щеках лежали густые тени от грима. Но самым замечательным были, конечно, глаза. Они смотрели на меня, голубые, лучистые. О таких глазах студенты пишут стихи. И в это время Олег достал вербу и церемонно вручил соседке:
– С весной вас, Нина Сергеевна!
– Вас тем же боком, Олег Николаевич! – она сказала тихо, протяжно, а сама все смотрела на вербу.
– Нет, я не могу… Какие почки-то! Прямо зайчата. Когда я училась в Москве… – Но договорить ей не дали, зашикали. Впереди, за столом, опять поднялся директор:
– Ну раз выпили за племянника, то я предлагаю теперь за племянницу. Да, да, дорогие! У нас – именинница! Сегодня нашей Елене Трофимовне бухнуло тридцать лет! – и он посмотрел на рыжеватую белотелую женщину. У той сразу вспыхнула шея, а на щеках проступили веснушки.
– За первый, маленький юбилей, друзья! – Но директора опять перебили:
– А мы уж поздравили нашу Елену Прекрасную. Не надо опаздывать…
– Так он же Адика встречал! – засмеялся Олег, и весь стол поддержал его дружным хохотом. И опять вверху долго звенело что-то печальное, нежное…
– В общем так, дорогие! Пейте, ешьте, закусывайте! Администрация разрешает… – Директор поднял рюмку и взглянул в пашу сторону: – За вас, Нина Сергеевна!
– Нет уж! Такую гадость не потребляем. Не тот разлив, не та пробка! Когда я училась в Москве, мы доставали «Золотое шампанское»…
– Молодцы москвичи!.. Золотое, серебряное… – Директор точно что-то вспомнил, запнулся, его круглые глаза излучали тепло и призывали к вниманию.
– А давайте подымем за женскую красоту! Только она – настоящее золото! – Он скосил спесиво глаза, сделал паузу, потом снова заговорил каким-то ленивым, растянутым голосом:
– Только красота спасет мир. Только вдумайтесь – кра-со-та!.. А ну-ка: чьи это слова? Чьи? – Он ловко, одним рывком поднял рюмку над головой. Даже не поднял, а точно выдернул ее из стола, как гвоздь.
– Так чьи же?.. Кто отгадает – даю отпуск без содержания!
– Во дает поваренок! – засмеялся тихо Олег, но на него взглянула в упор именинница, потом сама не удержалась и стала прыскать в ладонь.
– Вот вы и скажите, Елена Трофимовна. – Директор обиженно подергал нижней губой. Ему, видно, не понравилось ее легкомыслие. За столом стало тихо, и он опять повторил:
– Вот вы и скажите. Вам положено знать.
– За меня вон подруга скажет. – Именинница показала рукой на Нину Сергеевну. Та сразу чиркнула зажигалкой и закурила. Рука с сигареткой почему-то подрагивала, и рот тоже кривился нехорошо, точно все ей тут опостылели. И дымок она тоже выпускала сердито и с раздражением. Губы издавали торопливый звук: «пых, пых, пых…» Я насчитал восемь «пых», потом сбился со счета.
– Давай, Нина, посади их на место, а то обижают молодых да неопытных. Какой-то экзамен, понимаешь, устроили. – Именинница притворно вздохнула и опустила ресницы. – Нет, Нинка, я от тебя не отстану. Давай пособляй скоряя подруге, – она намеренно ломала слова, чтобы было смешнее, забористее. – А то ишь пристали ко мне, к бедной, к рыжей, к несчастной… – Она смешно швыркнула носом и достала платочек.
– Ух ты, печальная вдовушка! – улыбнулся Олег и подтолкнул меня в бок: смотри, мол, какие у нас кадры с натуры.
– А я не вдовушка! Ко мне вчера жених приезжал!
– Правда, что ли?! – оживилась Нина Сергеевна и раздавила о блюдечко сигарету. А именинница сразу нахмурилась.
– Дожила… Вот уж и не верит никто… – Она резко закинула голову и засмеялась нехорошо. Смех был такой горький, что я опустил глаза. Даже директор что-то заметил и медленно приподнялся.
– В общем так. Свои вопросы я убираю. Давайте просто выпьем и потанцуем. Прав я, Нина Сергеевна?
– Ну уж! – сказала она решительно и взяла сигарету. – Теперь мое слово, теперь я – Цицерон. Женщин мы с вами уважили, а теперь давайте чокнемся за мужскую красоту! Что за жизнь без мужчин…
– Далась им эта красота… – кто-то проворчал недовольно, и сразу повисла над столом неловкая тишина, но выручил всех Олег:
– А что, господа, давайте подымем за мужиков! У нас в деревне так поговаривали: мужику надо такую красоту, чтобы кони не боялись.
За столом кто-то фыркнул, и этот смешок точно сблизил всех и согрел. Сразу наклонились все над тарелками, и в эту минуту ожил магнитофон. Кто-то нажал на кнопку, – и запел Булат Окуджава. Не могу слушать его без слез. В горле все сжимается, закрывается, и вот уж нет дыханья, жизни нет, а кто поможет – да зачем помогать, и зачем нам все утешения, если уж другую песню начал певец и все печальней, глуше, все нежнее слова. Но это… Это – дорогая печаль. И если б мы были друзьями, если б просто даже знакомыми, я бы повез его в свою родную Заборку, я бы повез его с собой на луга. И хорошо бы, если б это случилось в мае, ранней-ранней весной. Но нет-нет, не случится… Не сбываются наши сны.
2
Пел Булат Окуджава, а я думал: как стану жить? И еще я думал о своей маленькой Кате, которую оставят с матерью, если будет развод… Но почему развод, почему же? И неужели работа для меня лучше дочери, лучше жены?.. Я слушал музыку, я страдал, волновался, вокруг меня стучали ножи и вилки, и от этого стука у меня мерзла спина. «Но почему, почему я здесь? В какой-то чужой, незнакомой компании, за чужим столом, на чужом пиру… Нет, дорогие мои, я вам – не слуга! Вот сейчас встану и хлопну дверью…» Но меня что-то удерживало. Может, кто-то околдовал меня, может, и музыка мучила – этот печальный певец. А вокруг все громче шумели и чокались, и я зажмурил глаза. Так прошло секунд пять – мне стало легче. Я попробовал совсем успокоиться и даже подвинул к себе салат – и вдруг заметил, что за мной наблюдают. На меня смотрела в упор Елена Прекрасная, под глазами у нее встали тени и почему-то сильно блестели зрачки. Наконец, не выдержала:
– А я вас знаю, не отпирайтесь. Вы в нашей газете помещали стихи…
Я засмеялся:
– Был, был грех, но я уже замолил…
– Господи-и, в такой-то Чухломе и стишки! – Нина Сергеевна посмотрела на меня осуждающе, потом перевела глаза на Елену:
– Нет, ты объясни… Это серьезно? А может, все врешь?.. В наше время писать стихи – надо рехнуться. Ни навару и ни товару.
– С тобой, Нинка, свяжись, дак… – начала именинница, но ее перебили:
– Нет, Елена, я знаю, что говорю. В Москве меня сводили с одним поэтом. Господи-и, он на хлеб у меня занимал…
– Может, пропился?
– Вот-вот, Елена, хорошо ты сказала. Как черту провела. А ты почему, дорогая, не ешь?
– Я бы поела, а что потом? Во мне и так сто килограмм. Меня от еды надо на веревках оттаскивать. Как начну, только вожжи натягивай…
– Ешь, питайся, Еленка. Когда и поесть, как не в тридцать лет. – И Нина Сергеевна протянула ей большую тарелку, где лежали соленые огурцы вперемежку с капустой.
– Однако нас уже на солененькое… – тихо сказал Олег, но его все услышали. Директор засмеялся тонким, дребезжащим смешком, а Нина Сергеевна сразу обиделась:
– Ты пошляк, Олег Николаевич!
– Спасибо, милая, я запомню.
– Да ладно уж, не пугай! Я с детства пугана-перепугана. О-о, донна Анна! И зачем только я сюда примотала?! Третий год живу, а только пьем и едим. Нет, милые, я скоро брошусь с того вон обрыва, – она показала рукой на окно.
– Ты, Нина, не бросишься. Ты сама упадешь… – Олег наклонился к ней близко-близко, к самому уху. – Давай лучше выпьем на брудершафт. – Он взял ее ладони и стал их целовать. Ему кто-то зааплодировал, а он уже подавал своей соседке большой кусок пирога.
– Ой, девочки, как угодил-то! – засмеялась Нина Сергеевна и протянула вперед обе руки. Она взяла пирог бережно, со значением, и долго держала тарелочку на весу. Глаза у ней переливались, блестели, как будто ждали какую-то радость – и вот дождались. Она откусила сразу много от пирога и не могла прожевать – закашлялась. Лицо стало, как помидор.
– Ой, Елена, постучи меня по спине!
Но именинница даже не пошевелилась. Нина Сергеевна погрозила ей пальцем:
– Я тебе, дорогая, припомню. – Она рассмеялась.
– Когда я училась в Москве, не могла пройти мимо кондитерской. Ох, бедная, как я тогда объедалася! Прямо пухла, как булка. – Она опять откусила от пирога.
– Нет, братцы-кролики! На чем его жарили?
– Терпи, Нина! – засмеялся Олег.
– Да, бог терпел и нам велел, но это ж колесная мазь?
– Привыкай… – тихо сказал Олег и опять улыбнулся. – Ты у нас, как Марья Волконская. Добровольно в Сибирь пошла.
– Вот именно – добровольно. А кого винить – поддалась демагогии. Распустила уши – поверила. – Она чиркнула зажигалкой, скривила губы. Сигарета у ней запуталась в пальцах, сломалась. Она сразу взяла другую. Но и эта сломалась. Табак покрошился на стол.
– Дай, Олежка, твою. Не могу раскурить.
– Доработалась – руки дрожат… – улыбнулся Олег и подал ей зажженную сигарету.
– Во-во! Неврастения, гипертония, скоро будет склероз. По ночам собак вижу. Всю ночь лают в ухо, а проснусь – никого… Нет, девочки, – анекдот. Если бы знала…
– Если бы молодость знала, если бы старость могла… – подговорился директор. Его глазки вспыхнули и потянулись вперед. – А ну-ко? Чьи это слова? Кто сказал?
– Мопассан!
– Нет, Олег Николаевич! У вас все с каким-то намеком… – Директор покачал головой и уткнулся в тарелку.
– Правильно! – поддержала его Нина Сергеевна. – Я сама ненавижу намеки… – Она еще хотела что-то добавить, но ее перебил Олег:
– Опоздала, Нина. Не в струю говоришь. Сходи нынче в театр, включи телевизор – там только намеки. Это подтекст называется, а бывает и второй план, даже третий, четвертый.
– Спасибо, милый, просветил меня на досуге. А меня и без тебя просвещали… да намекали. А обещаний-то – целые горы… Через месяц, мол, отдельная комната. Через год квартира с балконом. И вот поехала ваша дура насаждать большую культуру. Начиталась газеток… – Она усмехнулась горько, подавленно и всадила сигарету прямо в кусок пирога.
– Ох ты! Спикало тесто!.. – охнула старая женщина, которая сидела в дальнем конце стола.
– Верно, Феша! Верно, родимая! С подтекстом тоже говоришь… – усмехнулась Нина Сергеевна. – За такие пироги надо к стенке!..
– Я вот ела – так поглянулось. На солидоле в войну шаньги пекла. И ниче – хоть бы хоба! – Тетя Феша задумалась.
– Ты уж, Феша, привычная, – блеснула на нее взглядом Нина Сергеевна. – И деготь примешь за мед. А что тут видели, а, в этой дыре?! Только Марью Волконскую… – Она снова скривила губы и закатила глаза.
– Правильно, девушка! Только Марью да Дарью… – На ее узком желтеньком личике промелькнула печаль.
Я давно знал эту женщину. Она работала в школе уборщицей. И жила здесь же, в угловой темной комнатке. Как-то я заходил туда вместе с Олегом. У него были с Фешей какие-то свои отношения. Вот и сейчас он за нее заступился:
– Хватит, Нина, стареньких обижать. Расскажи-ка лучше про московские рестораны.
– Ну вот, вот и сознался наш Олег Николаевич! Все рестораны ему подавайте, а на солидоле шанег не надо? – Она закинула голову, захохотала. Потом опять занялась едой.
– А может, все-таки потанцуем? – взмолился директор. Его миндальные глазки просто мучались в тоске, изнывали. Он не привык, видно, сидеть без движения. Но все внимание было снова на Нину Сергеевну, – и ей это нравилось, поощряло к веселью, и она выглядела здесь самой живой.
– Нет, голуби, танцевать мы не будем. А сейчас я расскажу… Фу, черт! – Она хотела прикурить сигарету, но в зажигалке что-то заело. Тогда через стол ей бросили спички, и она успокоилась и обвела всех глазами:
– Значит, на чем мы?
– Мы с тобой перешли на «вы»…
– О, миленький, неужели? Ты, Олег, мне кого-то напоминаешь. – Она на секунду задумалась, потом опять обвела всех глазами. – Да-а, мои голуби, я же вам обещала. – Она кокетливо сморщилась и покачала несколько раз головой.
– Значит, дело было такое. В Москве я тоже с одним стала на «вы», а потом сошлись покороче. Его звали Толик Ветров – молодой альпинист.
– Альпинисты все молодые.
– Не скажи, Олег, не скажи. И веселый, и щедрый, прямо мешок с деньгами. Он и джинсы достал. И ни копейки с меня – за спасибо…
– А потом к тебе Боренька Журавлев прилепился. У того – дядька в главке и дача в Красной Пахре… – снова перебил ее Олег.
– Ты давай уж про Толика… – попросила Елена Прекрасная.
– Ладно, Ленка, буду тебе про Толика… Кстати, кто расшифрует мне слово «муж»? – Она вскинула весело голову, и глаза ее опять сияли, пронизывали, и я даже боялся в них посмотреть. Она чем-то нравилась мне и чем-то притягивала, только пугал почему-то ее голос – немного хрипловатый, прокуренный. Такие голоса обычно нахальны, упрямы, но в жизни все, конечно, по-разному.
– Ну что, братва? Угадали?
– Ты сама гадай, девушка. А то людей будоражишь, нехорошо… – сказала Феша в дальнем конце стола. Нина Сергеевна враз отбросила сигарету, и глаза напряглись, в них встало зеленое:
– Чей-то голос из-под печки… Значит, не знаете? Эх, вы, вахлаки! Ну так слушайте, и ты, Феша, себе на лбу запиши: муж – это мужчина, угнетенный женой!.. – Она громко расхохоталась, ее поддержала Елена Прекрасная, потом еще кто-то хохотнул для приличия. И опять от этого шума вверху дохнул, отозвался хрусталь. Слушать эти шутки не было никакого желания, но что-то меня удерживало, что-то не отпускало отсюда, как будто выполнял я какой-то долг. Стало тихо – звон вверху прекратился. Олег сидел молча и разглядывал ногти. На него иногда нападала хандра. А Нина Сергеевна опять что-то задумала, она хитро смотрела в дальний конец стола.
– Интересно, Феша, какой у тебя живой вес?
– Я не баран, девушка, и не скотина. Тебе бы вот походить с моим сердцем-то…
– Да не о том, Фе-е-еша! Мой Толик, например, весил пятьдесят килограмм…
– Ну и ну! – враз очнулся Олег. – Довела же ты его! – Все опять засмеялись, а Олег стал разливать вино. Нина Сергеевна закрыла свою рюмку ладонями.
– Не тот разлив, что ли?
– Да ну тебя, остряк-самоучка! Я же вам хотела про Толика… Ну вот: как-то встречаю его в Елисеевском, магазин есть такой в Москве, а он: «Ты меня, Нинель, не преследуй!» А я ему: «Почему? Кто же нам запретил?» Он глаза прищурил и даже как будто подрос. Потом положил мне ладонь на плечо – ты, мол, Нинка, давно в зеркало не смотрелась… «А что такое?!» А то, говорит, все то, золотая моя и бронзовая, что в тебе теперь – пять пудов, а я рядом с тобой – просто сухарик… Да-а, голуби мои, так и сказал. А мне стало весело, будто сто рублей потеряла. Нет, говорю, Толик, ты словами-то не кидайся, я ведь прямо завтра худеть начну, – и сама так глазами ему играю, перебираю. А он – мужчина, конечно, – ну и повеселел сразу, отмяк. А потом и букетик купил в метро…
– Со мной тоже было!.. – оживилась весело именинница.
– Да вы дайте ей досказать! – заступилась Феша за Нину Сергеевну.
– Ты сама, Феша, перебиваешь, – нахмурилась именинница, и на щеках у ней проступили сильные ямочки. До них почему-то хотелось дотронуться, поцеловать. Я даже покраснел от своей тайной решимости, но мое внимание опять отвлекли.
– Ну вот, просили, умоляли про Толика, а сами с Фешей…
– Раньше парни девок-то выбирали, а теперь все перепуталось.
– О-ох, Феша, ты меня уморишь. Раньше были времена, а теперь – моменты. Так что ты помолчи.
– Молчу, молчу, девушка. Я че – могу помолчать, – сказала Феша и запахнула на себе теплую кофточку.
– Вот тебе и чё-почё… – передразнила ее Нина Сергеевна. – Когда я училась в Москве, то на «БТ» – Большой театр – налегала. А билеты туда, как Райкин говорит, – ди-фи-сит…
– А мы в войну – по сено и по дрова в твои годы, – подала снова голос Феша…
– Ой, Феша! – засмеялась весело именинница. – Тебе за мир бороться пора, а ты все про войну, про войну… – Все оживились, загремели посудой, и по комнате прошел точно бы ветерок. И этим воспользовался директор. Он встал и по-хозяйски посмотрел вдоль стола:
– Дорогие мои женщины! Я прошу вас – веселитесь, закусывайте…
– Администрация разрешает? – перебил его Олег.
– Вот именно! – встрепенулся директор и поднял глаза к потолку. – Сегодня праздник, большой праздник, товарищи. Можно, понимаете, и выпить еще, снять напряжение…
– К легкомыслию призываете… – сказал тихо Олег, но его услышала Нина Сергеевна:
– Во-во, он нас вниз тянет: пьяными-то проще командовать.
– Но позвольте? – удивился директор, его глазки остановились, как будто замерли. – Я ведь могу и обидеться. Но ради праздника… – Он взглянул вверх, на люстру. – Одним словом, прощаю… Я не злопамятный. А на вашу реплику, Нина Сергеевна, имеется притча…
– Что, что? Я глухая…. – подняла голову именинница. По ее полным щекам скользнула улыбка.
– Притча, говорю, хорошая притча, – повторил гордо директор. Его глазки повеселели, просили внимания. – Я вам приведу, а вы скажите – откуда? Вам положено знать. Мы же много читаем. Так? Или я ошибаюсь? – Он посмотрел на всех с вызовом, его глазки смеялись. Потом гордо прищурился и покачал головой.
– Не интригуйте женщин, не мучайте! – попросила кокетливо именинница, потом что-то поддела вилкой. Директор потянулся взглядом за ее полноватой красивой рукой и вдруг резко повел плечами:
– Значит, не интригуйте? Хорошо, подчиняюсь… Но я ведь тоже о женщине?..
– Валяй! – попросил Олег, но его не услышали. Директор заговорил уже громко, уверенно:
– Одна женщина, не слишком хорошего поведения, подошла однажды к Сократу и обратилась: «Что ты здесь ходишь со своими учениками да хвастаешься? Достаточно мне только поманить пальцем, и они побегут за мной и тебя бросят». А Сократ ей ответил: «Возможно. Потому что ты зовешь их идти с собой вниз, что очень легко. Я же зову их идти со мной вверх, что очень трудно…» Ну как, дошло? – Директор обвел всех взглядом, потом обмахнулся платком. Щечки у него горели, на лбу выступил пот.
– Ну и мораль сего? – спросила Нина Сергеевна. В руках у ней опять была сигарета.
– Ах, мораль? – точно бы удивился директор. – Но прежде скажите мне, кто написал?
– Мопассан! – громко крикнул Олег. И все засмеялись, а директор поморщился, точно съел кислое.
– Вы – озорник, Олег Николаевич. А я ведь всей душой, понимаете… Мое хобби – мудрые мысли. Собираю их двадцать лет. Да, да! – Он сжал ладони и похрустел пальцами. – Да, мои милые. Я всей душой к вам и на себя наступаю… У меня же гости дома, приезжие…
– Во-во! – встрепенулась Нина Сергеевна. – А давайте выпьем снова за вашего Адика?!
– Нет уж! За это было… – возразил ей Олег и поднялся с рюмкой в руке. – Я предлагаю выпить за то, чтоб женщины нас водили только наверх…
– На беседы с Сократом, значит! – поддакнул Олегу директор и почему-то весело посмотрел на меня. – А вообще-то, Олег Николаевич, давайте не забываться. У нас на вечере есть посторонние. А это нас призывает… – он запнулся и сразу нахмурил лоб. Лицо его стало надутым, обиженным.
– А это нас призывает выпить! – нарушил молчание Олег и посмотрел на всех победителем. Все засмеялись и чокнулись. Кто-то снова направил музыку. Она была веселая, современная. Женские голоса о чем-то просили, выкрикивали, а им отвечал густой бас – он что-то приказывал… А над всем этим еще стояла мелодия, и она повторялась с разными промежутками: чак-чак, та-та-та…
– А вы почему не танцуете и не кушаете? Я вам подкину грибочков?
– Нет, нет! Мне достаточно… – Я отодвинул пустую тарелку. И сразу же почувствовал, что за спиной у меня стоит человек. Это оказалась преподаватель сольфеджио Клавдия Ивановна, пожилая молчаливая женщина. Она и сегодня весь вечер сидела помалкивала, и вот теперь стояла возле меня и намеревалась опять что-то спросить. Я улыбнулся, она подалась ко мне всем телом:
– Что ж вы мало покушали? Я вам все же грибков положу? Это мое творение – сама солила, мариновала. С чесночком, с черным перцем, а сверху – вишневая веточка… Подвигайте вашу тарелочку.
– Да мне достаточно, – я попробовал отказаться, но меня сразу одернула Феша:
– А ты ешь, поправляйся. У нас за столом тут нет посторонних. А запас брюхо не дерет.
– Что за слово! – пристыдила ее Нина Сергеевна. Она подошла к нам и теперь остывала от танца. – Выражаться надо цензурно, а то вон какие портреты: Моцарт, Бах да Бетховен…
Феша сразу обиженно сжала рот и покосилась на стену, где висели портреты. Она их стала разглядывать, точно живых, точно каких-то начальников. И в глазах у ней был уже страх, удивление. Ее глаза заметила Елена Прекрасная:
– Не горюй, тетя Феша. Они, великие-то, тоже выражались по-всякому.
Все зашумели и засмеялись, и под этот смешок как-то робко приподнялся директор. Лицо было потное, виноватое.
– Нина Сергеевна, умоляю, позвольте откланяться? И вы позвольте… – Он печально посмотрел вдоль стола. – У меня гости дома, четыре года не виделись.
– Ничего, перебьется племянничек. Сегодня – наш день. Сегодня – я за директора!
– Нина Сергеевна! Адик мне не простит.
Но она уже точно его не слышала, она уже доставала тюбик помады из сумочки. И вот на глазах у всех, не таясь, не стесняясь, она подвела губы жирной, толстой чертой. Потом облизнула их язычком – и все это вышло ловко, доверчиво. И так же ловко, любовно поправила волосы.
– Отпустите меня, Нина Сергеевна! Христом богом прошу… – Директор хотел улыбнуться, хотел сказать, видно, смешное, приятное, но, наверно, уже не мог, не хватало терпения. В его черных миндальных глазках что-то тлело уже и плавилось – это ходила обида и заставляла страдать. Он налил себе рюмку вина и быстро выпил, не думая, и лицо его совсем побледнело, а на лбу проступила испарина. Мне стало жаль его, но мои мысли остановила Нина Сергеевна:
– Ну вот что, доскажу вам про Толика. А то отвлеклись на Сократа. Нехорошо. Значит так. Я уж говорила, что у него началось отклонение…
– Ой, Нинка, такой фильм есть у болгар. «Отклонение» – да. – Именинница загадочно улыбнулась и перевела глаза на портреты. И мне показалось, что портреты ей подмигнули. Я за всех не ручаюсь, но за Моцарта точно – он наклонил голову и блеснул глазами.
– Не мешай мне, Елена. Я в Болгарии не была. А тут иду как-то по Тверскому и – обомлела: это же мой Толик! А рядом с ним такая, прости господи, тумба на двух подставках. И он тащит ее и пыхтит. И пыхтит и гордится. Да-а, братцы-кролики, такие делишки, – она сказала это с какой-то внезапной решимостью и сразу раскурила сигарету, и вдруг выкатила глаза. Они налились злостью, отчаяньем – два больших синих блюдца, два озерца, – еще миг, секунда, движение – и разлетятся блюдца в разные стороны. Так и есть:
– Нет, я не могу! Завяжите глаза мне, закутайте! Я хотела их угробить, товарищи!.. А что?! Мое сердце – не железо, не дерево. Почему замолчали? Не нравится?.. А я подошла и всадила ей по щеке!
– А чем всадила-то? – спросила Феша испуганно.
– А вот этой рукой. Вот этой, Фешечка, но только в перчатке. Фу, черт! Вспоминать неохота, даже глаза заело, противно. А та заорала: «Милиция!» Ну я тогда и совсем. Нет, увольте меня, не могу.