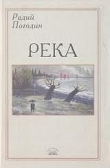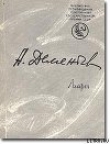Текст книги "На вечерней заре"
Автор книги: Виктор Потанин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
– Теперь уж нельзя, бумаги составлены.
– Сама знаю – нельзя. Просто подумала, чтоб тебя порадовать. Из уваженья, считай, к тебе. А может, попробуем…
– Нет, нет, – он испугался тогда. Даже и теперь испугался воспоминаний. Он всегда боялся любой обязанности. Как легко иметь дело с машинами! Над ними легко командовать и подчинять себе. Например, «Жигули». Хороша машина! Один раз показал на станции – там залезли в мотор, почистили, и гоняй год – ни заботы, ни переживаний. А с людьми – одно мученье, забота. Если что-нибудь сделают, то уж сразу ждут чего-то взамен. Вот его пригрела, пустила на квартиру Антонина Ивановна, а вот чем кончилось. Надо дочку ее пристраивать, надо мучиться и терзать себя. Но при чем здесь Антонина Ивановна? Ее нет сейчас, и она не просит, не лезет. Так на кого же он обижается? – подумал с досадой и закурил. Пальцы подрагивали, он слышал это и еще сильней злился: «Надо же, так довел себя». Стал смотреть в небо, чтоб успокоиться, но и это не помогло. Небо было хмурое, невеселое, вдали собирался дождь. Нина молчала. «Почему она все время молчит?» – подумал учитель про девочку, и в этом мелькнуло опять раздражение, и он закурил: «Но чем же виновата она? Чем же меня обидела, такого большого, взрослого, умного?» – усмехнулся над собой с ехидной иронией, и вдруг опять стало стыдно. Даже и не стыдно, а просто грустно, неловко. Почему не поговорит с ней? Вот уж целый час на дороге, а он все как чужой, посторонний. «И она чувствует это, наверно, потому и молчит… Не о чем говорить, а все же…» И он повернул к ней голову.
– Устала, Нина? Надо было на машине…
– Не хочу на машине, – и опять замолчала.
Хорошо бы вспомнить какое-то доброе слово, приласкать и утешить, но это слово не шло на ум.
– Скоро дойдем. Я еще к сыну…
– Я знаю… – и только успела ответить, как впереди зашумела машина. Она вырвалась из-за березы как-то радостно и внезапно, из кузова неслась песня. Напев был стройный, напористый, как у солдат. Пели школьники, они сидели в кузове плотной гурьбой. Среди них он увидел сына. Сергей тоже его увидел и поднял руку. У сына было большое счастливое лицо, и это счастье сразу передалось ему. И вот уж нет машины, умчалась. «Куда поехали? А поют-то, боже мой, – голоса-а! Мужики уже, мужики…» Потом подкралась тревога. «Такая скорость, еще врежутся в дерево. Куда же они?.. Да о чем это я, зачем все думаю? Наверно, просто на Тобол за водой… – он улыбнулся. – А ведь сын-то совсем большой, да и ростом скоро догонит. А вот Нина эта, наверно, так и не вырастет. В кого ей? Вон мать у ней маленькая, сухая. Дунет ветер – взлетело перышко. Но ведь мать-то ей неродная. Да о чем я?» – и сразу мысли приподнялись упругой змейкой, потом скользнули в другую сторону. Словно бы опасность услышали. Так и было – пришла опасность.
– А теперь к маме. Сережа проехал… – и, не дожидаясь, повернула в другую сторону. За ней машинально пошел учитель. Теперь бы отдохнуть, постоять под березами, покурить. Но Нина двинулась вперед крупным шагом, и он молча повиновался. А девочка что-то решила. Она уже не шла даже, почти бежала. Лицо побледнело и заострилось. «Куда торопится, зачем торопится?» – усмехнулся учитель. И стало грустно. «Будет ли сын потом ко мне так бежать? Если что со мной случится? Но что случится? О чем я думаю? Смешно и нелепо. Вся жизнь еще впереди, вся жизнь. И то, что прожил, хорошо прожил. Все было, и все испытал. И был счастлив…» – и он опять усмехнулся и опять посмотрел на себя, как на чужого, и рассердился. «Счастлив, счастлив…» – зашептал про себя с ехидным злорадством. У него бывали такие минуты злорадства. Он знал их в себе, знал и боялся. Так было, когда завел в ограду машину, так было, когда построили флигель для сына, так было, когда заходил в конце года на почту и проверял, сколько набежало процентов на книжку. Всегда в эти минуты горько восклицал про себя и так же горько смеялся: «Все живот набирам, Сергеич! Скоро через ремень перевалит». Так говорила Антонина Ивановна, когда наблюдала их очередную покупку. Потом и сам стал повторять эти слова, потом сделал их поговоркой.
3
Девочка шла быстрым упругим шагом. Он еле поспевал, запыхался. Лес теперь кончился, началась большая поляна. В конце поляны снова были березы. Лист на березах обуглился и свернулся.
Еще издали он услышал запах дыма и тот самый, едва уловимый, запах смерти и запустения, который всегда остается после пожаров. Забилось сердце, и стало страшно. Девочка выглядела теперь старенькой и серьезной. «Но кто виноват? Жара виновата. Или ребятишки курили, и выпала искра? Может, провода пробило, замкнуло? Наверно, это провода виноваты… так объяснила милиция, прокурор. Но кто же виноват еще, кто же? Неужели только эти жалкие проволочки замкнулись, и сразу взвилось в небо пламя, закрыло небо? Закрыло и саму ее, унесло с собой. А ведь они встретились только за час до той страшной минуты. Если б знать, если б чувствовать!» – и снова в голове те минуты…
Он пошел тогда в школу – приехал инспектор. И зачем приехал? Зачем тащился сорок верст из района? Ребята все давно на каникулах, учителя в отпуске, а он решил проверить школьный участок. И всех вызвали в школу. Прибежал и за ним посыльный. С тяжелой душой шагал он по улице – не дают отдохнуть, зачем тогда отпуск. И вдруг догнала сзади Антонина Ивановна, затронула за плечо, засмеялась. Он вздрогнул.
– Не пугайся, идешь потихоньку, – и догнала, напугала.
– Ты любого догонишь.
– Так легонька же я, Сергеич, всю дорогу такая… А че Нина не пришла из похода? Девчонок-то зачем отправляете? А че случится – учителя в стороне, так оно будет, Сергеич? Получай от меня замечание.
– Куда бежишь? – решил перевести разговор на другое.
– Бегу прямо да забегуся. У меня два теленка в профилактории заболели со вчерашнего вечера. Такой жар – забило все глазоньки – поди, че поели, то полизали. Николай, фельдшер, смотрел, да кого он? Сам знаешь Николая, ему бы только акты подписывать, нехороший у нас Николай. Ну, ладно, обгоню тебя, а то заждались телятки, поди, мычат да поглядывают в окошечко, где, мол, та стара дура, где задержалася, – глаза заблестели ярко и радостно, и в тот же миг она обогнала его, и это ему не понравилось. И он подумал тогда устало и с раздражением: «И что бежит, чему радуется? Старая уж, а все – под молоденьку…» А он-то, мол, почему не смеется, не задирает голову. И все есть у него: и жена, говорят, красивая, и сын есть, и машина в гараже быстроходная, и скота в пригоне полно, и на сберкнижке накоплено. Ну что ему надо, ну что еще?! Почему он не смеется никогда и не радуется, почему жить ему тяжело-тяжело?.. И за что ему эта кара?..
Потом стали заседать в кабинете директора. Пришло их всего пятеро, а он был шестой. Инспектор приехал говорливый, молоденький, все курил маленькую ореховую трубочку и часто выбивал ее о полированный стол. В окнах виднелись березы. Они покачивались из стороны в сторону.
Вначале он слушал инспектора, потом наблюдал за трубочкой, потом совсем забыл, где сидит, – задремал. Но глаза были открытые, они все видели и вбирали в себя. И глаза не удивились почти, когда над березами встал дымок. Он был маленький, чуть заметный, голубенький. И когда Валерий Сергеевич очнулся, голос инспектора звучал бодро, почти торжественно, – и вдруг дымок круто выстрелил и превратился в густой настоящий дым. В первый миг это не испугало, не потревожило, только подумалось с удивлением: опять жгут костры ребятишки, зачем допускают в лес. Но дым опять выстрелил – и сразу туча огня. Учителя заметались, забегали, он тоже выскочил за ними на улицу, закричал. И рядом с ним уже все кричали, бежали к лесу. Казалось, ринулось все село. А он уже давно понял – горит ферма, горит. Потом ударило в голову – надо бы обратно теперь, обратно. Да подготовить воду, лопаты – вдруг огонь пойдет в улицу – такая сушь, все сметет… Опять кричали, гудели машины, и вдруг напал страх. Он вспомнил, как она спешила на ферму, как поговорили, как встретились, как блестели ее глаза, как пожалела теляток. И родилось предчувствие. Оно было тяжелое, нехорошее, да и люди кричали по-дикому, кто-то рыдал.
Вот и лес, вот и ферма, вот и страшный огонь. И все кружится, вертится, и ничего не понять. И он стоял оглушенный, потерянный, люди что-то кричали, рассказывали, он слышал слова, но не понимал этих слов. Потом понял. Подошел ветеринар Николай и сказал, что сгорела Катайцева. И сказал так просто, обыденно, что до него не дошло. Потом и другие сказали, и он опять не поверил, не захотел.
Огонь шумел, рвался к небу. Огня много потому, что взорвались баллоны. Первый взрыв он увидел еще в учительской. Это был тот дымок, чуть заметный, голубенький.
Не хотелось верить, что там она. А Николай курил, и рассказывал, и вытирал глаза. Она подбежала, когда ферма уже вспыхнула. И Николай подбежал. Она кинулась на него с упреками, почему, мол, не вывел теляток, они больные, им страшно, не вытерпеть. Николай защитил себя: когда, мол, вывести, сам сейчас подбежал. И тогда она – прямо в огонь. Только голос оставила: «Я их вынесу, вынесу!» С теми криками и ушла. И только исчезла в проеме, как стали рваться баллоны. Их было много на кормокухне. От них еще больше огня.
Пламя сильное, да не вечное. Вот огонь стал стихать, гореть-то нечему – все зола. Потом снова ветер поднялся, но теперь уж не страшен он, огонь кончился, одна зола полетела, один прах. Приехал Копытов на газике, бродил кругом, сам с собой разговаривал: «Что же ты, Тоня, наделала… Жизнь свою отдала… Отдала за теляток!» Но никто не подговорился к нему, и председатель совсем расстроился. Потом подошел к толпе, поднял голову. Голос хриплый, сухой: «Вот, товарищи, дорогие товарищи! Какие люди у нас работают!» И опять не подговорился никто.
Потом появилась милиция. Он удивился тогда, зачем приехали, упали, как с неба коршуны. Лейтенантики были молодые, упрямые. И эта молодость оскорбила всех, все пытали, выспрашивали, но никто не отвечал им, все отворачивались. Но не унывала милиция, да и двое их было. Все записали, общупали и опять бухнулись в свой мотоцикл – и в район. После них и народ стал расходиться. Все говорили – хорошо, мол, что дочка ее в походе, а то бы с ума теперь помешалася. А он, учитель, все спрашивал кого-то невидимого, могучего: «Где же Антонина? Еще недавно шла рядом, смеялась, за плечо трогала – и вот теперь ее нет. Неужто нет? Может, просто куда-то уехала, может, поднял ее ветер, такую легкую? Поднял и снова опустит…»
Вот о чем думал тогда. Об этом же думал сейчас. Лес теперь кончился, еще больше пахло дымом, горелым. «Все еще дым», – стал жадно курить. Вот уж видно пожарище, девочка закрыла лицо.
Сгорело не все, но лучше бы все сгорело – так было тяжело, сиротливо. Кругом зола и несколько бетонных опор. Огонь их только задымил, не потрогал. Девочка пошла вдоль пожарища, он следовал за ней издали. Далеко поднимался гром. Из-за грома не заметил машины. Из машины вышел Копытов.
– Где б ни езжу, а тянет… – он обратился к учителю, но тот промолчал. Обида не прошла еще. Председатель нахмурился, стал разглядывать девочку. И насмелился: – Нина, иди-ко!
Она подошла. Учитель прислушался к разговору. Копытов стоял бледный, подавленный и почему-то оглядывался.
– Нина, не ходи ты на головешки. Кого тут глядеть… Поди, меня в чем обвиняешь? Ты прости… Я хозяин, не доглядел огонь.
– Вы ни при чем.
– А все равно болит душа, Нинка. Снится мне Тоня, мать твоя дорогая. Только ночь – и приходит. Все стоит надо мной, похохатывает, а то за руку тянет. Ты прости за нее, сними грех…
– Вы ни при чем, – девочка усмехнулась и опустила глаза.
– Ладно, пошлю бульдозер, сметем головешки и нову ферму построим.
Девочка промолчала, и Копытов опять нахмурился. Потом отвел учителя в сторону.
– Как с дочкой-то? Давай думай – ты им человек близкий.
– Она в детдом пожелала.
– Сама, что ли?
– Сама… – ответил тихонько учитель и отвернулся.
– Решай, ты – педагог, разберешься… – еще больше поник Копытов. Потом рванул «Волгу» с места. Учитель зажмурился от стыда – вдруг их слышала Нина. Не хотел ведь соврать, не думал, но вопрос был поставлен в упор, – и язык повернулся. И было стыдно, просто невыносимо. Но это вскоре прошло, да и отвлекло другое. За спиной у себя услышал странный звук, и он делался все громче, слышнее. Потом догадался – то плакала Нина. Она даже не закрывалась, не прятала слезы. Она просто не замечала их, и эта безнадежность, покорность опять на него навалились, и в нем снова рванулось к ней сердце, но он быстро справился, заглушил его. Зато потом пришло раздражение. Не ждал он, не ведал. Таким он себя не помнил. Он злился и на себя, и на девочку, и на жену свою, которую где-то внутри побаивался, злился и на председателя за то, что пришлось лгать, изворачиваться. Давила обида и на Антонину Ивановну, которая сама ушла, распрощалась, а дочку оставила – и вот теперь мучайся да устраивай… «Да и стоило из-за телят? Как все глупо, нелепо!» Только так могла Антонина Ивановна… А дочку-то зачем к нему привязала? И вон как получилось! Да что получилось?! «Ничего, в детдоме хорошо будет, везде люди, везде…» И эта мысль его успокоила.
И хлынул дождь. Большая туча опустилась над лесом, и деревья потянулись к ней, выпрямились и стали выше еще, стройнее. Дождь был теплый, парной. Они еле успели стать под березу. Все лето – ни капли, а сейчас с неба – реки. Словно смерть ее была данью кому-то, святым откуплением, и вот дань эту приняли – хлынул дождь. Нина тоже смотрела на дождь благодарно, видно, тоже ждала его, а теперь наблюдала, забылась… Вблизи глаза ее были крупные, синие, таилась в них мысль, и он пытался поймать ее, разгадать. «Все пройдет, все исчезнет. Как этот дождь, облака…» Девочка подняла голову и вдруг решилась:
– Не отвозите меня в детдом. Можно у вас остаться? – она снова заплакала.
– Как «у вас»? – не понял Валерий Сергеевич.
– Я бы пожила у вас. Я бы все делала, прибирала. Вам тяжело на два дома…
Он вздрогнул и огляделся. За спиной никого не было, один дождь, как тугая стена. Он не ждал такой откровенности, таких прямых слов. Вдали тяжело заворочался гром, и дождь стал слабеть. Ему даже показалось, что это не гром, а гудит самолет.
– Я на все бы пошла. Хоть чего заставляйте. Только бы возле мамы…
– Но ведь нет уже мамы! Надо в сердце держать… – возразил потихоньку он.
– Есть, есть она! – заволновалась девочка, и он опять замолчал. Небо стало светлеть. Лучи солнца еще слабо пробивались сквозь тучу, но уже ясно было, что дождь закончился, непогода прошла. И лес ожил от ветра. Он был еще слабый, чуть слышный.
Они пошли опять по дороге, сейчас он шел впереди, она – сзади. Он смотрел себе под ноги, а она смотрела вперед. Почти у самого поворота в деревню учитель насмелился. Вначале он остановился и отдышался. Девочка поравнялась с ним. Сердце его тяжело стучало, ему хотелось где-то присесть, отдохнуть.
– Вот что, Нина. Тебе надо обязательно ехать. Там – коллектив, воспитатели. Там будет лучше.
– Сами и поезжайте туда! – она ответила вспыльчиво, отвернулась.
– Ты почему грубишь?
– Не надо меня – так и скажите! Так и скажите! – стала повторять девочка, потом снова расплакалась.
– Я знаю, почему отправляете, – опять ожила она, еще громче заплакала.
– Почему?
– Вы думаете, что объем вас. У вас денег не хватит.
– Ладно, достаточно! – рассердился учитель и сразу прибавил шаг. Она осталась далеко позади, и он больше не оглянулся. «В конце концов все справедливо. Не было у ней родителей, подобрали в больнице, сейчас опять вернулась к исходному. Видимо, нужно судьбе. Нужно так, вот и все. Да и мне еще надо пожить. Сорок лет – невелико число. Все еще будет – и горе, и смерти, и потери…» – подумал он с грустью и сразу стало жалко себя. «Да, все еще будет… Зачем лишние гири. Жизнь и так тяжела. И довольно терзаться. Чужой ребенок – всегда чужой…» – и эта простая мысль совсем успокоила.
Девочка зашла поздно вечером и прямо с порога:
– Извините, я вам днем нагрубила. Я согласна в детдом…
– Согласна?
– Да, согласна! Не беспокойтесь. Только вещи мамины перенесите потом к тете Вале, завхозу. И ключи ей от нашего дома отдайте…
– Так и мы бы посмотрели за домом.
– Не надо. Я потом к ней в гости приеду. Не сердитесь. Вы и так много сделали… – она говорила, как взрослая, ему опять стало грустно. Ночью почти не спал, вспоминал жизнь свою, вспомнил Антонину Ивановну, и только одного хотелось: чтоб скорей наступило утро, чтоб завести машину – и в город, в детдом.
Утром девочка спокойно выпила чаю, и лицо было доброе, тихое.
– А теперь встали, поехали, – она улыбнулась даже, но потом что-то вспомнила и нахмурилась.
– Вы мне дайте от дома ключи. Я сама их отнесу тете Вале.
Она сбегала быстро, вернулась с маленьким желтым ковриком.
– На память взяла. Мама берегла его. Говорила, что жизнь ее пошла с этого коврика.
Валерий Сергеевич распахнул дверцу, включил мотор. Девочка притворно удивилась:
– Ох, какие у вас сиденья-то! Можно, я коврик под себя подстелю, а то запачкаю…
– Можно! – он громко ответил, он понял иронию.
– А со мной машина-то сдвинется?
– Что тебе?
– Ничего. Я говорю, легкая я, не тяжелая. Машине будет легко, – она засмеялась, говорила как взрослая.
«…Легкая, легкая», – опять поднялось в голове у него, и он побледнел. На улице светило большое солнце после дождя. Девочка молчала, смотрела вперед. Учитель тоже молчал. Пока ехал по улице, все втягивал в плечи голову, точно бы убегал от кого-то, таился. В степи поднял голову, но на девочку не взглянул. А она уже ничего не видела, устало прикрыла глаза. Да и мотор успокаивал. Он работал мягко, бесшумно, и машина мчалась легко. На поворотах ее слегка заносило в сторону, и она подрагивала и приседала на новые колеса.
ОГОРЧЕНИЕ
На крыльце сидел Семен Расторгуев с внуком. Старик был худ, костляв, будто сох на корню. Внука звали Коля. Он уже ходил в школу, но рост имел маленький, зато лоб – большой и круглый, как у бычка. И сам тоже походил на бычка – коротконогий и толстый, и очень любил бегать на четвереньках.
В ограде тюкал топором Павел, отец Коли. Он строил баню. Она была почти готова: потолок настелен, землей засыпан, и каменка сложена, осталось на крыше сложить два ряда досок. Павел с утра, довольный собой, мурлыкал под нос: «Ух, ты! Ах, ты-ы! Все мы космонавты…» И опять сначала: «Ух, ты! Ах, ты-ы!..»
Коле скучно, он поднялся на четвереньки и зарычал на старика. Тот кашлянул:
– Будет тебе.
Коля подставил ему кукиш, старик не видит. Он уже давно не видит ни сына, ни снохи, ни внука, глаза устали жить и потухли. Но слышит Семен хорошо.
– Как банька, Паша? – ему хочется подольше поговорить с сыном, но боится его огорчить: тот работает, а под руку грех кричать. Сын кончил петь.
– Готовь рубаху, Семен Петрович. Вечерком поскребем тебя.
– Вечерком?
– А чо резину тянуть? В первый жар и пойдешь.
– Пойду! – радуется Семен и тянется ладонью к внуку. Но Коля увертывается, потом вздрагивает, услыхав шаги. На крыльцо выходит высокая спокойная женщина. Коля становится на четвереньки, лает и зубами тянет подол ее короткого платья. Платье высоко задирается, и Павел глядит искоса на круглые матовые коленки жены и опять начинает петь: «Ух, ты! Да ах, ты!»
– О чем поешь, Паша? – смеется женщина, заслоняясь рукой от солнца и забывая поправить платье. Но муж посерьезнел и сказал громким голосом:
– Валя, ему рубаху готовь!
– Будет сделано. – Она сразу понимает, о чем сказал муж, но еще долго не уходит с крыльца и вдруг зовет Павла купаться.
Но тот опять хмур:
– Видишь, дела…
Женщина грустно поправляет платье, успевая потрогать ладонью круглую белую голову сына. Павел громче затюкал, чтоб отогнать от себя лишние мысли.
Семен улыбается: одно желание исполнилось, он поговорил с сыном, и тот с ним тоже поговорил. Сейчас у старика другое желание – сходить к реке, подышать у воды. В ограде душно, вокруг нее плотный тесовый забор, и свежий воздух сюда не заходит. А между тем наступает полдень, и солнце бьет старику прямо в темя. Он поворачивает голову, тогда солнце бросается в глаза, и так больно, будто нажали на зрачки твердые пальцы. Семен опять крутит головой, но солнце гонится за ней, и в висках нехорошо. А у реки теперь прохлада, там и кустики растут, можно и под яром найти притулье, – и желанье у Семена крепнет и сильней мучит. Но его трудно исполнить. Старика надо вести за руку, а сыну некогда, со снохой идти стыдно, а Колька не поведет – для него это такое огорченье. Он смотрит в ту сторону, где дышит внук. В ограде жарко, и в глазах плавает какое-то серое молоко, – то в одну сторону льется, то в другую.
– Колька, своди к реке?
– Пойдем! – тот соглашается мгновенно, сразу берет его за руку и тащит с крыльца.
Старик не понял, что Колька рвется купаться, но теперь все равно радостно, и он кричит на прощанье сыну:
– Не сверни без нас баньку! Запнешься за угол – и падет…
Сын не видит насмешки и хохочет. Он рад, что все уходят: уже давно любит плотничать в одиночку.
Старик с мальчиком идут медленно. Семен при ходьбе смотрит в землю, спина у него крюком, но и такой он высок ростом и так худ, что его шатает. Коля нетерпелив, он весь стремится к реке, но только взглянет на деда – и сразу запинается. Коле немного страшно. Старик протягивает каждую ногу вперед осторожно, будто впереди – яма, и вдруг мальчику заходит в голову: хорошо бы разогнуть деда, он стал бы в их деревне самый высокий.
Дорога далека и опасна. Навстречу им бредут гуси. Стадо качается медленно, утомленно. Вожак крутит шеей и чутко всклактывает.
– Кто это?
– Курицы! – кричит Коля, стремясь обмануть деда.
– Это гуси, – поправляет тихо Семен, а сам рад, что его обманывают.
Мимо проехал на велосипеде молодой учитель Степа Ужгин. Он спешит, остается после него пыль и слабый ветер.
– Кто проехал – мужик или баба? – спрашивает Семен и щурит глаза.
– Баба! – кричит Коля громко и радостно.
– Это учитель. Он вчера заходил ко мне. Про большака пытал…
Но Коле страшно. И чтобы совсем убедиться, теперь сам задает вопросы:
– Так кто бежит?
– Собака.
– Нет, кошка!
– Нет, собака, – сердится старик и опять спрашивает: – А вон кто у завалины?
– Лошадь.
– Болтай. Теленок трется, – смеется громко Семен.
И Коля молчит, надувает щеки. Он забыл про жару и думает о деде.
Они выходят на травяную поляну. Поляна большая, домов здесь нет, они ужались по сторонам и стоят вдали скромно и тихо. Трава выросла высокая, но с одного краю ее кто-то выкосил, и теперь здесь пахнет прелой крапивой. Старик тянет Колину руку и ступает уже одной ногой на поляну, но мальчик хнычет.
– Хочу купаться…
– Успеешь, отмоешь грехи, – посмеивается Семен и так смотрит на Колю, что тот стихает и покорно идет на поляну.
Ему кажется, что глаза у деда живые.
Посреди поляны стоит белый памятник со звездой, возле него ходит с ведром учитель. Семен слышит его и кричит издали:
– Степа, к сынку пропустишь?
– Ворота не заперты, – тоже кричит учитель и улыбается.
Зубы у него веселые, яркие, так же блестит алюминий на памятнике. Учитель наклоняется над ведром, достает тряпку и начинает жадно протирать белую жесть.
– Чо, мужичкам банька? – говорит Семен, придвигаясь самой грудью к ограде.
– Да, помывка солдатам. Скоро нагрянут пионеры, туристы. Каникулы, каникулы – веселая пора! – декламирует учитель и подмигивает Коле.
Потом, что-то вспомнив, смотрит на старика, затем на медную пластину на памятнике и громко читает: «Расторгуев Иван Семенович, Герой Советского Союза…»
– Точно так! – говорит старик, подвигается к памятнику поближе и гладит ладонью пластину: – Сколько тут наших ребяток?
– Восемьдесят девять, – отвечает хмуро учитель.
– Девяносто без одного, – говорит старик и вдруг наступает на Степу: – Худо моешь. Ты так, чтоб до зеркала. Сынок заслужил…
– Все заслужили, – говорит тихо учитель и отворачивает глаза, потом опять долго смотрит на Семена, и глаза у него теплеют: – Скоро гостей жди. Расскажешь пионерам о сыне.
– Это всегда, – говорит Семен и берет мальчика за руку.
– Поддай им парку! – кричит на прощанье старик, хоть Степа и стоит рядом, но тот не сердится. Старик опять останавливается: – Ваня летчиком был!
– Все знают, – говорит учитель тихо, но старик слышит, и ему не нравится. Вздыхает и что-то бормочет, но Коля чуть не отрывает ему руку.
Они идут дальше. А в лицо уже дует свежестью, уже слышны смех и бульканье, лай собаки. Скоро они выходят на берег. Коля сразу раздевается и ныряет с обрывчика, а Семен садится под куст и поднимает вверх голову. Он слушает крики купающихся, крики гусиной стаи, веселый лай собаки, потерявшей в воде хозяина, ржанье коней с того берега, слушает прохладу с воды, – и ему хочется спать. Он бы уснул сразу же, но стыдно Коли. И он старается не заснуть, старается что-то вспомнить, и ему уже кажется, что все это с ним было: и баня в ограде, и сын Паша с женой, и внук, круглый и нетерпеливый, и эта река, и крики, и гуси, и лошади, и сам он уже тоже, видно, был когда-то, и он даже знает, что будет с ним дальше, как он пойдет скоро домой, потом помоется в бане, потом умрет через месяц, а Коле не скажут об этом, а отправят его в город к тете на это время. Семену чудно, что он знает, что с ним будет, и опять кажется, что он уже не живет, а повторяет что-то, а что повторяет, он и сам не знает. Но после этих мыслей ему стало еще лучше, спокойней, в голову вошла пустота, и опять захотелось спать. Но нельзя – огорчится внук. И он ложится на спину и смотрит в небо. Над головой, над самой головой гудит самолет. Чем ближе он, тем беспокойней Семену, и так хочется увидеть небо. Самолет уже совсем близко, и уж ничего больше не слышно, кроме него, и старик вспоминает большака – Ваню. Ему хочется думать о сыне долго, задержать воспоминанье, но вдруг слышит в себе голоса ребятишек, слышит и свой медленный голос, который говорит им о сыне. Говорит, как давно в детстве упал Ваня с лошади и сломал ногу, но потом оказывается, что это не сын, а он ломал ногу, но его просят говорить дальше, и он сообщает, что Ваня десять лет пас коров, а за пастьбу брал молоком, но нет, опять напутал – это не сын, а он сам пас коров и продавал молоко приезжему землемеру, а ребятишки просят вспоминать еще и еще, – но в этот миг гул исчез, самолет пролетел над речкой, и голоса ребятишек тоже исчезли. Но он знает, что скоро они снова придут к нему и запишут все его слова о сыне. Приподнял голову. К нему бежал Коля.
– Обратно, дедушка? – Но тот его перебил:
– Как помывка?
– Тепла вода, – сияет мальчик, заправляя майку.
Они пошли обратно. Впереди Семена ждали баня, горячий полок и распаренный веник, и он шел теперь быстрее и плохо слышал, что делалось по дороге и в дальних переулках. Баня всегда была его радостью. Раньше, когда видели глаза, он ходил в баню один, всегда в первый жар и парился по целому часу на зависть всей семье, а больше на горе. В двери бани все время заглядывали, торопили, – баня была чужая, соседская, и ее берегли от злого случая и пожара. А когда погасли глаза, в баню стала водить сноха Валя. Это радовало и пугало. Он любил теплые, обходительные руки снохи, но стеснялся ее глаз: все же баба. И теперь он опять горевал, как будет перед ней раздеваться, как она не вытерпит и станет помогать ему стягивать рубаху и развязывать тесемки у самых щиколоток – это ж такое для нее огорченье.
Когда зашли в ограду, Семен услышал запах дыма, – такой едкий, пронзительный дымок от осиновых дров, – и опять ему стало хорошо, и он наполнился ожиданьем.
Но вначале был обед, даже не обед, – полдник, время шло к вечеру. Семен почти ничего не ел, чтобы не взяла в бане одышка, только попил молока. А потом все ушли в ограду, он остался один на лавке. Сквозь полую створку он слышал смех снохи и сына и совсем успокоился. Потом сноха с внуком стали таскать из колодца воду, дымом запахло сильнее, и у Семена как-то нехорошо забилось сердце, прежде он не знал даже, в какой стороне у него сердце, но в последние годы оно частенько поднималось к горлу, принося с собой переполох в голову, – и зябли ноги, но потом отпускало, только оставался страх. И теперь опять стало страшно, но из ограды пришел крик Кольки – он звал кого-то играть, и голос внука был такой сильный, что Семен улыбнулся, а в голову вошло забавное, что он опять улыбнулся: «Ранний растет внучек, скоро по девкам зашарится. А вот большак не успел…» – и старику стало грустно.
Но через час сноха повела его в баню. Вышло, как и думалось Семену: Валя сняла с него рубаху, потом стала на колени и развязала тесемочки. Потом подсадила его на полок. Баня пахла свежим тесом, и от запаха кружилось в голове, но это круженье было не больное, а веселое, и Семен растянулся в полный рост и закрыл глаза. Сноха намылила ему голову, облила ее из ковшика теплой водой, так же осторожно обмыла тело и взялась за веник. Семен кашлянул.
– Развернись, сношка!
Валя засмеялась и ударила легонько веником по спине. Он опять кашлянул.
– Жарь, не жалей!
– Ну уж, – усомнилась сноха, но веник заходил быстрей, и Семен успокоился. Спина у него распарилась, и веник стучал по ней, как по резине. Видно, прошло уже много времени, потому что в дверь заглянул Павел:
– Уходишь старика-то.
– Ухожу… – согласилась сноха.
Семен слез на пол. В теле была легкость, какая-то незнакомая легкость, как на лугу.
– Вроде выше стал, – сказал он и схохотнул.
– Вроде выше, – ответила спокойно сноха и начала его одевать.
Сейчас особенно было стыдно Семену принимать услугу, и он стал думать, как бы не огорчать ее, но сноха уже просунула его руки в рукава, потом склонилась на коленки и завязала тесемки у штанов.
– Ну, мы готовы.
Чистая рубаха прильнула к горячему телу, принесла прохладу, и Семен вздохнул полной грудью. Сноха взяла его за руку, сама вышла первая, но старик вдруг закричал:
– Голову оторвала!
– Кого? – не поняла Валя и заглянула в баню. Лоб у старика был выше притолоки, и Валя захохотала: – Ты пригнись, пригнись!
– Не могу!
Она не поверила и больно дернула его за руку, но Семен опять вскрикнул.
– Да пригнись ты, Семен Петрович!
– Не могу. Спина разогнулась, распарили…
Опять захохотала сноха, думая, что от радости старик шутит.
– Ну, хватит, – и опять дернула за руку, и опять старик вскрикнул и слабо сказал:
– Пашу позови…
Пришел сын, заглянул в баню, потрогал притолоку и так громко захохотал, что Семен замотал головой. Павел скомандовал:
– Пригнись, гренадер!
– Прости, Паша, не могу.
– Да не мучай ты его, – сказала тихо Валя и вышла.