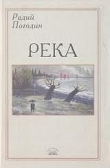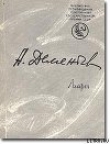Текст книги "На вечерней заре"
Автор книги: Виктор Потанин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
– Нинка! На самом интересном-то…
– Ладно, Елена, только ради тебя… – Она глубоко затянулась и почему-то посмотрела внимательно на меня. Потом перевела взгляд на директора. Он сразу потупился, забарабанил пальцами по столу… Через секунду она заговорила опять:
– Я тогда еще подошла и по другой ей щеке…
– Ну, Нинка! Я уж тебя боюсь, – засмеялась нервно Елена Прекрасная.
– Бойся, бойся. Я и Толику смазала. А что делать? Вот вы бы что? – Она снова на меня посмотрела. – А я постояла за женскую честь.
– Молодец, Нина! – сказал Олег. – Вот за это нам положено выпить, а потом закусить.
– А меня отпустите… – взмолился директор. – Меня уж дома потеряли, а на улице ночь.
– Пусть в морг позвонят, – усмехнулась Нина Сергеевна и капризно вздернула плечи. Потом лицо ее просветлело, она что-то придумала:
– Ладно, идите, но только с условием…
– С каким? – испугался директор.
– А приведите завтра вашего Адика. Он что у вас – холостой?
– Конечно, конечно… – затараторил директор и поспешил к двери. За ним еще кто-то вышел, не помню. Просто этих людей я не знал, а Олег меня не знакомил.
Теперь в комнате стало просторно – и сразу включили магнитофон. Зазвучал вальс, печальный и нежный. Старинный. Я слушал эти звуки, затих, а в голове что-то медленно колыхалось из прошлого. Что-то свертывалось в слабый клубочек, потом снова развертывалось. И вдруг я вспомнил, как этот вальс играл мой Ленька Шабуров. Он жил тогда прямо через дорогу, и мы вместе дружили и купались, рыбачили. А потом он от нас уехал. И я вспомнил, как шла по Заборке машина, как в кузове сидел с отцом Ленька, как на коленях стояла гармошка. За спиной у них громоздились какие-то мешки и кровати, а Ленька смотрел на дома, на заборы и перебирал легонько басы. Нет, это было невыносимо. Его провожала вся наша школа, и он сидел такой грустный, точно его хоронили. И вот поехала, заворчала машина. Она даже не поехала, а точно пошла пешком. А Ленька сидел в кузове и растягивал хромку. А глаза его кричали нам: прощайте, прощайте… И вот теперь опять звучал этот вальс, но уже не Ленькины глаза, а мои глаза кричали кому-то: прощайте, прощайте…
3
Им оставаться здесь, а мне скоро ехать. Так, значит, значит – прощайте… Вальс был нежный, печальный, как будто кричали надо мной осенние птицы. И опять в душе все напряглось – прощайте… Но так длилось недолго. Нина Сергеевна подбежала к магнитофону и очень резко убавила звук. Потом подняла руку, призывая к вниманию:
– Прошу слова! Прошу…
– Ой, Нинка, только тебя и слышно, – проворчала про себя именинница и взяла сигарету.
– Ленка, ты меня не сбивай! Тебе скучно, а я подниму настроение. Я вам сейчас что-то исполню, желаете? Когда я училась в Москве, то читала со сцены. У меня голос, как у Тамары Макаровой. «Люди и звери» видели? Кто видел? Ну, сознавайтесь! А-а, жизнь собачья, никто не видел?
– Нинка, ты убавь обороты. Я видела, я знаю эту актрису.
– Елена, ты умница! Ты сама, как артистка! Куда мужики смотрят? Куда!? – Она на миг замолчала, потом опять встрепенулась, откинула голову. С ресниц у ней что-то посыпалось – я сразу зажмурился. Но она уже читала, наклонив набок голову. Глаза у ней казались снова огромные, а ресницы не двигались:
Клен ты мой опавший,
Клен заиндевелый…
За столом стало тихо, протяжно, как будто все притаились.
– …Или что увидел, Или что услышал?.. – читала она, и голос был протяжный, рыдающий. Еще миг, еще секунда, другая – и сорвется рыдание. И треснет голос, а что тогда? Но она читала еще громче, громче, точно хотела напугать нас, – и тогда Елена не выдержала:
– Нинка, ты у нас лихоманка! Не мытьем, так катаньем. Но это ведь петь надо, а ты читаешь. А все равно – какие слова! – И вдруг по лицу у нее пробежал какой-то нервный испуг и сразу задергалось веко. «Господи, да у ней же тик! Доработалась, милая…» – подумал я с сожалением, и у меня больно екнуло сердце. Везде, видно, учительская судьба одинакова – хоть в простой школе, хоть в музыкальной. Как говорил один мой знакомый: детки, мол, они везде – детки… И каждый учитель когда-нибудь – инвалид… Я взглянул опять на нее и сразу отвел глаза. Отвел потому, что наша именинница плакала и промокала платочком лицо. Над ней наклонилась Нина Сергеевна. Стала гладить ее по голове, по плечам, но та еще больше заплакала.
– Чего зарыдала-то?
– Сама, Нинка, не знаю. Ты начала стихи, и мне что-то привиделось. Нервы это, конечно, они. – Она подняла лицо, улыбнулась. Никогда не забуду ее лицо. Оно стало вдруг красивым, притягивающим. И губы сделались припухлые, виноватые. Они что-то шептали сами себе, но я услышал:
– Прямо не знаю… Наверно, с ума схожу, – и она глубоко вздохнула. Потом перевела глаза на подругу. Нина Сергеевна покачала насмешливо головой:
– Детей надо тебе, Елена, тогда и нервов не будет.
– А это, Ниночка, вас не касается. У тебя тоже, вижу, полно сыновей.
– Верно, слушай, что верно, то верно. Не везет, гадство, хорошим людям. Дайте, что ли, огня? У меня табак не горит… – Она взглянула на меня, но я отшутился:
– А мой огонь похитил Прометей.
– Что-о?! Не пьющий, не курящий, а попугай говорящий. – Она почему-то обиделась и стала внимательно смотреть на портреты. Потом опять на меня перевела глаза, и теперь глаза ее были лукавые, длинные.
– У вас подбородок, как у Бетховена.
– Гордись, старичок, так и влезешь в историю!.. – засмеялся Олег, и все за столом уставились в мой подбородок. А я покраснел, как школьник, и не знал, куда деть лицо. Но в этот миг кто-то включил музыку – спас меня от позора. Я откинулся на стуле и сразу ушел в себя.
Тихий бархатный голос выговаривал дорогое, знакомое: «С берез неслышен, невесом слетает желтый лист…» – какая чудная, какая возвышающая печаль! Под нее прошли и детство мое и юность, и мне всегда казалось, нестерпимо казалось, что лучше этих звуков и нет ничего. Ведь такая сила, такая грусть… А рядом, рядом совсем – надежды… И пусть проходят годы, и пусть время несет утраты и расставанья, и пусть никогда-никогда уж не встанут солдаты из тех глубоких братских могил, но все равно однажды вернется радость, а вместе с нею придет любовь… И эти звуки входили в душу и отнимали дыханье, и мне хотелось их слушать вечно-вечно, и чтоб каждый миг они были рядом, и чтоб даже потом, после смерти, они все равно б остались во мне, звучали… И как хорошо бы потом снова воскреснуть, как хорошо бы потом снова открыть глаза в какой-нибудь новой, небесной жизни, и чтоб снова эти звуки были в тебе, продолжались. И они сейчас продолжались… А я смотрел на всех и опять шептал кому-то: прощайте, прощайте… Но все равно было их жалко. Звуки наплывали сбоку, клубились, а я уже любил всех и всем желал счастья. И Олегу желал, и Феше, и нашей рыженькой имениннице, и этой старой учительнице, у которой муж погиб на войне, и она больше замуж не выходила, желал я счастья и самому себе, и Нине Сергеевне, и тем моим деревьям на высоком желтом обрыве. И опять душа шептала: прощайте, прощайте… А вальс все еще звучал, продолжался, казалось, что он будет вечно и так же вечно будет сжиматься моя душа…
4
Я подошел к окну и стал смотреть сквозь стекло. Мне казалось, что я вижу деревья. Они качались и гнулись под ветром. Но почему ветер? Ах да! Весна же за стеклом, и теперь с юга, с далеких теплых равнин, приходило к нам ровное, теплое, сокрушающее все морозы дыхание. И в этот миг сменились звуки – пришел какой-то «Аракс». И под него сразу все пошли танцевать. А я хотел пойти на крыльцо, но меня кто-то затронул. За спиной у меня стояла Нина Сергеевна.
– Я вас приглашаю. И ради бога извиняйте меня за Бетховена. Черт попутал – обидела человека. – Глаза у ней были понурые, виноватые, и я ее успокоил:
– Вы не обидели…
Она повела меня в танце и смотрела прямо в лицо. А я от нее отворачивался и почему-то смущался. Она заметила это и стала загадочно улыбаться. И не вытерпела, спросила:
– Я вам надоела?
– Ну что вы, что вы… – и я снова смутился.
– А вы еще неопытный, да-а?..
– В каком смысле, не понимаю?..
Но она не ответила – засмеялась. На пальцах у нее сияли два золотых кольца, потому ладонь была очень тяжелая. Она лежала у меня на плече, как какое-то наказание, и кольца ехидно сияли.
– А я через год уезжаю! Не могу дождаться – так бы и полетела. В Москву, в Москву! И только туда!
– Если мечтаете, значит, сбудется…
– Я не мечтаю, я – деловая женщина, я все рассчитала. У меня в Москве тетка похоронила мужа. Теперь одна – на двухкомнатной… Она меня впишет в эту площадь. А если не впишет – прямо в метро буду спать возле урны. Ей-богу, займу метро!
– Значит, здесь надоело?
– А разве тут люди?! Нет на них Володи Высоцкого. Господи, как он ненавидел мещан! Я подам ему руку даже в могилу…
– Значит, поедете? – я спросил ее почти машинально, но она схватилась за мой вопрос…
– Не говори! Так бы и полетела – прямо на крыльях или даже пешком… Как-то Олегу призналась: давай, мол, со мной, собирай чемоданы! А он же трус, его уже засосало…
– У Олега здесь родина…
– Что? Что? Повтори! – она закинула голову, засмеялась. – Родина там, где не зябко. А я тут мерзну все время, и, понимаешь, нет человека. Я ведь к Олегу тянулась. Фу, черт! Не то слово, тебе интересно?
Я промолчал. Она продолжала:
– Он три года назад походил на оленя. И рост хороший, и голос… Да, даю слово – я почти погибала. Приду в школу, а сердечко – тук-тук, нет терпенья. Ну и призналась. А он сдвинул брови: у меня же жена! Негодяй… Так и ответил. Не понимаю. Ты слушаешь?.. А я ему: «Что такое жена? Ты что у ней в клетке?» Да бог с ним… Его уже засосало. Да, да! Даю шею на отсеченье!.. Ты понимаешь, он копит деньги на «Жигули»… – и она опять засмеялась. И в это время кончилась музыка. Мы отошли к окну и сели на стулья. Лицо у ней дышало духами, а по щекам блестел пот, зрачки сильно блестели. Она походила теперь на пьяненькую, хоть и совсем не пила.
И у меня тоже в голове кружилось, болело в затылке. Так бывает, когда идешь в гору: один час идешь, другой, третий – и вот уж близко, где-то рядом – вершина, а у тебя уже нет сил, нет желанья. И повернуть назад тоже не можешь, ведь тебе надо вершину… И тут я усмехнулся: ну там, мол, горы, и душа требует испытанья, а здесь-то, здесь-то? Почему я не встану, не попрощаюсь?.. Но она прервала мои мысли:
– У тебя кто жена?
Я не ответил. Мне стало грустно, еще больше захотелось домой. И в тот же миг я вспомнил про свою Катю. Она, наверно, не спит, беспокоится, где же отец…
– Значит, не отвечаешь. Значит, жена красивая, молодая.
– Простите, Нина Сергеевна…
– Ах, ах, не прощаю… – Она покачала головой и закатила глаза. – Не умеете вы, мужики, жить по-московски. Там муж – в один конец, а жена на такси – в другой. И у каждого – свои удовольствия. А что? Раз живем… Ты молчишь? Ты какой-то, слушай, не серо не бело…
– Я серенький, Нина Сергеевна.
– А вот этим, миленький, не гордись. За это нынче в президиум не посадят. И пиджачок тебе надо сменить. Нынче носят вельвет, понимаешь? А в твоем – только по сено. – Она крутнулась на стуле и поднялась. Через минуту она уже танцевала с Олегом. А наша именинница танцевала одна. Она просто стояла на одном месте и вскидывала ладони.
– Как козлухи, куда же годно! А еще детей учат. Не стыдно…
Я оглянулся. За спиной у меня остановилась Феша и тихонько ворчала. Кофточка на ней топорщилась, и она пыталась застегнуть ее на груди, но никак не могла:
– До че́ мы дожили и еще до че́ доживем…
И в этот миг закончилась музыка, и Нина Сергеевна опять подошла ко мне. У ней было хорошее настроение. Она весело щурилась, играла приклеенными ресницами, и эти ресницы походили на быстрых весенних стрижей. Стрижи то поднимались кверху, то сразу падали, и я не мог их поймать глазами, да и стеснялся долго смотреть ей в лицо.
– Значит, скучаем? Может, покурим?
Я замотал головой. Она усмехнулась:
– Ух, забыла! Ты ж не пьющий у нас, не курящий. Тебя, поди, на руках носят жена?
– Где уж… – Я улыбнулся, потому что не знал, что ответить.
– И меня ценили, в ручки белые целовали. Ах, Нина, Нина, ах, дорогой мой Нинок! – она кого-то передразнила, потом сухо-сухо посмотрела мне прямо в лицо.
– Ты меня осуждаешь. Вижу, знаю, не отпирайся. А мне наплевать! Я не хочу скрывать, что страдаю. Порой так тяжело… – она остановилась, точно не хватило дыханья. – Часто думаю, хоть убил бы меня кто-нибудь по дороге. Я далеко живу, на окраине… А что? Никто не заплачет. А нам все равно. – Она засмеялась. И вдруг оборвала смех, пропела:
– А нам все равно-о-о, а нам все равно-о-о, пусть боимся мы волка и сову… Вот так, миленький! Хочешь загадку?
– Про что?
– А про волка? Вот скажи, бывает ли у волка ревматизм?
– Бывает, наверно!
– Ай, молодец! Конечно, бывает! Если волку устроить человечью жизнь. И не вынесет серенький… – Она засмеялась опять, потом наклонилась ко мне близко-близко и задела рукой мой подбородок. – Значит, как у Бетховена! Ха!..
– Зачем вы? Не понимаю… – я еле сдержался. Но она уже о другом начала:
– А ты хитрый. Тебе говорить со мной надо, а я, а я уже не хочу. Да что говорить. Я уж не живу сейчас – доживаю.
– Так я и поверил.
– Верь не верь – дело сделано. Но мне нечего обижаться. В Москве у меня все было – и розы, и апельсины. Да, милый мой, была любовь во все лопатки. А что еще бабе?.. Меня даже заметил сам Боренька Журавлев. Все поглядывал да поглядывал, и подойти не решался. На одном курсе учились… Ну что это, думаю, за парень. И дача у них в Красной Пахре, и дядька в главке, ну а смелости – никакой. Фу, черт, где б достать сигарету?
– Много курите, Нина…
– У кого табачок, у того и праздничок. Но ты не лезь в это дело. Борька тоже не курил, да я научила. А что? Пусть хоть запах мужской, я так полагала… А потом мой Боренька схоронил того дядьку, а зимой и я с ним рассталась… – Она посмотрела в упор на меня, как будто я – прокурор, а она – подсудимая. Потом губы поджала.
– Так надо было, так надо… Бросила я его, отказала. И вся любовь, говорю, Боренька, и ты меня не ищи. А весной направление в зубы – и прямо сюда.
– Где ж теперь Боря? – спросил я тихо, спокойно. Надо ж было о чем-то спросить.
– Бог с ним, не знаю. Да и зачем мне этот Боренька? Не понимаю… Не умри у того дядька – и жил бы он, как бог. А так, нет – смехота. Нам пришлось бы с Боренькой только на зарплату.
– Значит, вы не любили?..
– Ты серьезно? Ха-ха! – Она передернула рот и подмигнула мне, как ребенку: чего, мол, выдумал дуралей. Я сразу закрыл глаза, потому что больно стукнуло сердце. Когда открыл их, ее уже не было рядом. Она стояла теперь в дальнем углу и что-то доказывала Олегу, а тот был хмурый, печальный… Я пододвинулся поближе к окну и стал смотреть на деревья. Но я не увидел деревья, я ничего совсем не увидел в этой черной весенней тьме… Иногда эта тьма точно падала куда-то и отступала, и тогда я замечал за стеклом что-то живое уже и белесое, точно блестела там, переливалась вода. А потом – опять густое и черное, опять ветер постукивал по стеклу, и опять надрывалась душа в вопросах, и сам я точно был уже приговоренный, простреленный, точно стоял уже на высоком-высоком обрыве, и еще миг, секунда, другая – и я сорвусь с него, и никто не спасет…
5
И никто не спасет меня – ни жена и ни дочка. Ведь я сломаю их жизнь, потащу их в глухомань. А ради чего? Ради себя? Да, да, ради себя одного, чтобы выполнить какой-то несуществующий долг, какую-то муку, чтобы понять себя, испытать… Но ради чего? Ради чего все эти мучения, горе это, тоска? А ведь я еще молодой и мне бы нужно жить, жить и не искать утешений. Да, да, жить! Но как? Как?! И чему отдать свои лучшие годы? А они ведь – не вечно. И что после них? Один дым, только дым, пустота… Но ведь можно иначе? Но как решиться, как выбрать свой подвиг? Да, да, свой подвиг, свое испытание!.. Вон Чехов жил свободно, размеренно, а потом метнулся на Сахалин, на край света! Да, на край света… И мог сотню раз умереть по дороге, ведь его уже съедала чахотка. Мог утонуть, мог погибнуть, но он бросился сквозь сибирскую тайгу, сквозь распутицу… А ради чего?.. – и я рассмеялся. И точно бы сразу проснулся, обрел себя – ну он-то, мол, знал, зачем ему Сахалин, а вот мне-то зачем эта Заборка?.. И кто оценит мое геройство, да и никто не оценит. У великих, видно, свои законы, а у других, видно, тоже свои. Но почему? А душа? Да и какой пример подам дочери? Но она ведь маленькая и пока не поймет… И вдруг мне нестерпимо захотелось увидеть свою Катюшу, и я даже весь замер и сжал себя, но это… это не проходило. И тогда я снова и снова смотрел в окно, я искал свои деревья, приглядывался, но вместо них на меня оборачивались, тянулись ее глаза… Прости меня, Катя, прости… И чтоб больше не терзать себя и не мучиться, я направился к двери, но на пути встала Клавдия Ивановна и загородила проход.
– А у нас чай еще… Куда вы? Мы же обидимся. Сейчас торт нарежем, самый свежий, домашний. – Она взяла меня бережно за руку и усадила за стол. Ее доброта меня как будто связала. Мне хотелось уйти, но что-то мешало опять, не отпускало. А может, я боялся ее обидеть – так и было, боялся… Рядом с Клавдией Ивановной сидела Феша. На ней было теперь одно старенькое темное платье. Кофту она уже сняла, потому что в комнате стало жарко. Да и Клавдия Ивановна была тоже в темном, печальном платье. Всю жизнь она носила траур по мужу, а познакомилась она с ним еще давно, на фронте, в полевом южном госпитале, где работала санитаркой. Я знал об этом, потому что жил с Клавдией Ивановной в одном подъезде, только наша квартира была на втором этаже, а у ней – даже на пятом. Я часто видел, как она лезла к себе, на пятый, точно покоряла какую-то гору, и дышала она запаленно, как лошадь. И еще я часто видел ее на лавочке у самых дверей подъезда вместе с другими старухами. Они подробно обсуждали каждого, кто входил в дверь и кто выходил. И я всегда на них злился и нервничал, и на Клавдию Ивановну злился: еще, мол, была на фронте, а теперь опустилась… И все это мелькнуло в голове сейчас, как дуновение, и я почувствовал не то вину перед ней, не то даже стыд. Она смотрела на меня живыми притягивающими глазами, и голосок был такой же притягивающий, глухой:
– А я вот что придумала. Не обессудьте… – она замолчала, потом опять начала. – А давайте помянем наших мужей. Им уж с нами не праздновать, им уж снами не кушать. Но все равно – они вот где сидят! – Она притронулась к горлу. – Так что помянем. Они заслужили.
Она налила всем немного вина, потом внимательно посмотрела на Фешу.
– Всю жизнь мой Коленька был вот тут. – Она снова притронулась к горлу, вздохнула. – Но я всегда, Феша, знала…
– Что знала-то, договаривай! – Феша решительно подвинула к себе рюмку, потом так же решительно ее переставила. Вино она, видно, совсем не пила.
– А то знала, Фешенька, что я переживу Колю. И буду хранить об нем память, пока не помру…
– Так оно. Мы все заранее знаем. Голова не знает, а душа знает. Ее, голубушку, не обманешь, – Феша подняла голову и громко чихнула.
– Вон, вишь, душа-то простуду ворожит.
– А вам надо чай пить в калошах! – подговорился Олег и подмигнул мне: держись, мол, старичок, пока все нормально. А Феша весело посмотрела на Олега, потом пододвинула поближе тарелку.
– Я, Клавушка, тебя перебила. Да я что? Давайте помянем, помянем… – Феша наморщила лобик и снова задумалась. А Клавдия Ивановна подняла глаза на меня и как бы пригласила в сообщники.
– Может, я что не так. Кругом – праздник, а я – поминки. У старого, говорят, все по-старому. Может, что и смешно… Я вот и костюм храню Колин, все рубахи-перемывахи. Да их немного – всего две штучки да маечка. Бывает, запылятся, дак я стираю да глажу. А к дню Победы – это закон…
– А я опять все медали его храню, документы, – подговорилась Феша и посмотрела мне прямо в глаза. – Я целый год зарплату откладываю, а потом еду в мае к своему Михаилу Петровичу. Он у меня под Ленинградом лежит. Есть такая деревня Мхи. Там их много лежит да поляживает – могила-то братская. Нынче тоже вот собралась. Осталось мне до поезда ровно пятьдесят восемь дней… – Она мечтательно закрыла глаза.
– Хорошо мы жили с Мишей, Ивановна. Как птички жили, ясноё море. Поклюем свои зернышки да оберем свои перушки – и опять живем, друг на друга глядим… А нынче вон че, – она посмотрела долгим взглядом, на танцующих, – как козлухи скачут… – Она подергала недовольно плечиком, как будто на спине что-то мешало и беспокоило. Она походила теперь на синичку, которая встряхнула крылом.
– Я ведь с Мишей в одну школу ходила. Вспоминаю часто, если не сплю.
– А ты расскажи давай, не стесняйся… – Клавдия Ивановна посмотрела на меня прямым взглядом, точно приглашая снова в союзники: не осуждай, мол, старых-то, а лучше посиди с нами, не уходи. А Феша уже начала медленным голоском:
– Вместе, вместе училась я с Мишенькой. Ну дак че – дело было… Как-то оказался против меня мальчишко. Я мимо его, а он возьми да и подставь ножку. Захотел, наверное, поиграть. Ну и что бы! А я, дура, тогда закричала, и никто мне рот не зажал. Сколько лет прошло, сколько зим миновало, а я себе не прощу. – Она шмыгнула носом и утерла платочком губы. Потом посмотрела на меня, потом – на подругу:
– Дура, дура и дурой покрыло. Закричала ему тогда: убирай, мол, грабли свои, второгодник. А он сразу вроде обжегся: а пошто, мол, ты так? А пошто ты кричишь? А я че… Я хохочу, а сама на него наступаю да наступаю, а он уж к стенке жмется, а он уж рукой стал огребаться, – а мне забавно, а я пуще того: что, не любят мышки кота? Откуда и смелость взялась. Да и не смелость это – позор. А он как на меня посмотрел, а он так вот бровки дугой изладил: мышки-то, мол, мышками, так ведь я же болел. Потому на другой год и остался, что я заболел… Ну вот. Я сразу в класс побежала. За парту села, а что-то муторно. Я же его обидела. На доске что-то пишет учитель, а я точно буков не вижу, в глазах моих – метлячки. И вот так и эдак раскладываю – я же сильно Мишу обидела. Он болел, пропускал, а я обзывать начала. Ну так, хорошо… На другой день пришла в школу и взяла с собой яблоков. Я, поди, заговорила вас, а вы молчите – не скажете, – она обвела стол усталым взглядом, потом обратилась ко мне:
– А вы танцуйте, танцуйте. Чего вам старуху слушать. Вон и Олег Николаич танцует с Ниной Сергеевной. Вон че она проделыват – неуж не козлуха… А я ведь с вашим дружком в одной деревне родилась. Он-то помнит, да и я не забыла. Это теперь мы городски все, куда там. А раньше – сельски были, колхозны. Так оно? – Она посмотрела на меня со значением.
– Так, так. Но бывает по-всякому, – ответил я Феше.
– Все быват. У нас как-то в деревне кошка щенят принесла. Оправды! Лежат беленьки, бултыхаются… – Она засмеялась, приглашая меня к шутке, но я промолчал. Тогда она посмотрела куда-то вбок долгим взглядом, а я все молчал и молчал. И вдруг она опять засмеялась:
– Еще че бывало в деревне, чисто умора. Мы же куриченок, конечно, держали и уток немного. Так вот одна парунья жила, нет, я не могу. – Она схохотнула. – Вы не поверите: така умна была, прямо из умных умна. Захожу, бывало, в ограду, а она: ко-ко-ко да все ко-ко-ко. А то случится подбежит да крыльями схлопат, ну, а я не могу! Да умница ты моя, говорю, да разумница, тебе бы надо не курицей, ведь все чисто знашь.
– Феша-а, ему, поди, надоело, – прервала ее Клавдия Ивановна и посмотрела на меня. Я почему-то смутился:
– Что вы, что вы…
– Ну, раз что вы, то доскажу. – Феша вздохнула глубоко и покачала головой.
– Прямо из умных, говорю, умна, а сама маленька – не из тучи гром. А только с крылечка сойдешь – она сразу за подолом закружится, да все ко-ко-ко. К вечеру, глядишь, и яичко снесет. И опять подзыват человека. А я ее схвачу за крылья да кверху подброшу, да все приговариваю: «Матушка ты моя, да в кого ты така…» Да только недолго мы с ней порадовались. Парунью нашу телега стоптала. Кого – она же доверчива. А доверчивым-то – быстро конец… Вот такой же Мишенька был доверчивой. Вот и… вот и… – она не докончила, а я не расспрашивал. Она тяжело вздохнула и собрала в сухую ниточку губы. Не то обиделась на что-то, не то просто устала. И я тоже прикрыл глаза и стал покачиваться на стуле. Не хотелось ни вставать, ни шевелить языком… В двух шагах от меня запел Булат Окуджава. Эта пленка была, наверное, старенькая, заигранная. На ней теперь что-то шуршало, потрескивало, точно мышки скреблись, шебаршали соломой, но мне как раз и нравился этот треск. Он меня почти усыплял, успокаивал, и я впервые за этот вечер отвлекся от своих мыслей, я впервые услышал в себе какую-то твердость, уверенность – в конце концов, мол, все образуется. И когда, мол, и испытать-то себя, как не в молодости. Да и жена, мол, все равно поймет, оправдает меня. А может, ей Заборка эта даже понравится… И мне стало так легко, хорошо, как будто все заботы сползли с меня, все тяжелые думы оставили. И теперь, наконец, все наладится, все исправится. Да и Феша снова говорить начала, ее голос сливался с моим любимым певцом, и все это меня усыпляло, укачивало. А Феша свою подругу воспитывала:
– Че же такое, Клава. Ты сидишь за столом, а ничего не попробуешь. Или талию соблюдать?
– Ой, Феша, какая же талия? – улыбнулась та. – Я ведь тебя приготовилась слушать. А ты с Миши начала, а курицами закончила…
– Нет, не закончила! – Феша нахмурила бровки и вроде обиделась. Но через секунду уже отмякли глаза:
– Значит так, принесла тогда этих яблоков, перебираю, значит, в коленях, а сама маленько задумалась. Ну че, мол, думай не думай, а ведь знала, зачем принесла. И вот выбрала хрушкое такое, бокатое, да обтерла платочком его… Ну вот и подношу тому второгоднику: на, мол, Миша, да не сердись. А то ишь вчера набутусился, а за че. Он опять побледнел, поберестенел, даже в пятнах весь сделался, а сам яблочко взял, откусил и опять вроде задумался, а сам смотрит на меня, не моргат. А я тоже ни жива, ни мертва, то ли напугалась я, то ли предчувствие. Так и вышло, Ивановна. Прошло время, и мы поженилися. Вот чё сделало то румяное… – Феша задышала глубоко, во всю грудь. А музыка все еще кружилась возле меня и кружила мне голову. Фешин голос сливался с ней в один ручеек:
– А как жили-то, господи! И какой был доверчивой! Он ни разу даже не вскричал на меня, не ударил. А только подойдет да погладит по волосам. Да-а… Как жили-то мы с тобой, Мишенька! Да святится имя твое… – Она всхлипнула, и я зажмурил глаза. И в тот же миг на меня наступила обида. Как будто дохнул ветерок, какая-то гарь, и это вошло в меня – и сразу сжалось дыханье. Ну почему меня вот так же не любят? Ну почему? И почему не всем попадают такие женщины? Ну почему? Или мы другие? И я другой?.. – Феша опять тихо всхлипнула, а Клавдия Ивановна наклонилась над ней и зашептала что-то и стала показывать на Олега. Он стоял с Ниной Сергеевной и что-то рассказывал, наверное, анекдот. Феша тоже посмотрела в их сторону и сразу перестала плакать, замкнулась. Губы она опять сжала в сухую жесткую ниточку, глаза сердито щурились. А я так жалел, что она замолчала. Мне было так покойно, как будто я в своем доме сидел, в своей далекой-далекой Заборке, а рядом со мной печка топится, и там сухая осина потрескивает, и все больше разгорается огонек. И вот замолчала Феша – и опять беспокойно стало и нехорошо задвигалось сердце. И то, что держалось, пряталось в душе под замками, опять встало к горлу, опять стал мучить меня этот тяжелый и горький вопрос: хорошо ли я сделал, что решил возглавить отсталую школу? Может, права жена, что играю в Павку Корчагина? А ведь прошло то время, те трудные дни… Я поднялся со стула, потом снова сел и оглянулся на Фешу:
– Что же вы замолчали? Или я вам мешаю…
– Нет, нет! – встрепенулась Клавдия Ивановна. – Вы – свой человек, по одной лестнице ходим. – Она, видно, намекала на наше соседство по дому. И опять улыбнулась:
– Вам потанцевать бы немного, а то к старушкам прильнули. Вон девушка наша томится. – Она показала глазами на именинницу. Я сразу поднялся:
– Ну что же, пойду.
– Ты че соскочил? Ты не сколь не мешашь! – успокоила меня Феша. – Я вот когда сижу возле нашей Ивановны, то хорошо, сильно хорошо. Просто душа отдыхат, испарятся. Недавно че она высудила… – Феша засмеялась громко, откинула голову. – Ну че – говорить или обождать?
– Говорите, говорите! – поддержал я ее. – Сегодня праздник. Можно все говорить.
– Ну ладно, коли есть разрешение… Она че, Ивановна, высудила, как гвоздик в каблук забила: ты, говорит, Феша, редкая женщина. Таких людей, как ты, больше нет нигде. Вот так, молодой-интересный. А я училась-то – всего ничего. А потом замуж вышла да полюбела…
– Не отрекаются любя… – вдруг услышал я возле себя. Я даже вздрогнул от этого густого громкого голоса. Возле меня стояла Нина Сергеевна и покачивала головой:
– Значит, променял нас на старух. – Она бесцеремонно взяла меня за руку и сразу повела в танце и что-то запела. Я улыбнулся, она нахмурилась.
– Сейчас кончится эта тягомотина, и я поставлю свой любимый «Аракс».
– Нет, нет, я устал.
– Устал, ха-ха! Рановато вы с Олегом хомуты-то надели. Надо было еще гулять да гулять. Жена теперь – не проблема. Вон смотри – наша Елена! Чем не жена? Груди-то платье рвут… – Она хмыкнула, прикусила нижнюю губу.
– А я уезжать собрался… – почему-то вылетело у меня, даже сам не ждал.
– Что, в Москву пригласили?! На повышение?! – Глаза ее загорелись азартно, взволнованно. Она теперь смотрела мне прямо в лицо, две золотые коронки тоже горели.
– Нет, в деревню Заборку. Отсюда – три часа на автобусе.
– Ссылают, что ли? – она хохотнула и сразу с ресниц что-то посыпалось. Она скривила рот, наверно, чтобы не расхохотаться, и это меня вывело из себя.
– Никто меня не ссылает! Я сам с усам!
– Хорошо, хорошо. Это, что за бором, ваша Заборка? – она хихикнула.
– Был когда-то и бор, была большая река, а теперь все изменилось. Поеду родную природу спасать и ребятишек учить по Ушинскому… Всё в руках человека.
– Бедненький. А сам, наверно, давно в руках тещи.
– Наверно, наверно, – ответил я машинально, и она надула губы. И танцевал я тоже теперь машинально, точно во сне, в каком-то тумане, а ноги мои заплетались и останавливались, как будто я лез по сугробам. И музыка уже тоже была другая – какая-то нервная и напористая, как штормовая волна. От нее болело в висках, и по всему телу двигалась, наступала какая-то щемящая пустота, а за ней шло безразличие. Я закрыл глаза, я устал. Я хотел избавиться от этой песни, забыть ее, и мне почти удалось, но потом снова, снова любимая певица страны опять с кем-то прощалась и никак не могла. Она прощалась в песне, а я думал, что все это в жизни уже, наяву, и это не она обращается к своему дорогому, любимому, а это я обращаюсь, но меня не слышат, не понимают…