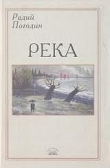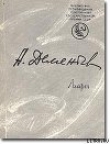Текст книги "На вечерней заре"
Автор книги: Виктор Потанин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
– Жди и помни меня,
Улыбнись на прощанье…
Помни песню мою.
Нина Сергеевна покусывала губы, ресницы ее моргали быстро-быстро и вызывающе, она точно кому-то мстила сейчас в своих мыслях, наказывала…
– Жди и помни меня.
Не тревожься – не надо… —
Она задышала часто-часто, как будто устала, как будто забиралась по лестнице, и в глазах у ней стало темно, безразлично. Что с ней? Почему? Но в ту же секунду закончилась музыка, и Нина Сергеевна подвела меня к Феше:
– Вот ваш кавалер.
Я сел с Фешей рядом, но она даже на меня не взглянула, она продолжала свой разговор:
– Не дай бог, Клава, еще войну пережить. Меня бы уж сейчас не хватило, я уж сразу бы померла…
– Не померла бы. Мы б еще с тобой поработали. В войну-то надо сильнее работать.
– Ну если бы так, конечно, бы поработала. А только я сильно этой войны пошто-то боюсь. Да и ту войну еще не забыла. – Феша обвела всех глазами, то ли приглашая себя послушать, то ли ища поддержки. И пришла ей поддержка.
– Ты права, Феша. Как же забудешь то время… – сказала Клавдия Ивановна. Голос у ней был уже глуховатый, усталый. Наверное, ей уже хотелось домой.
– Вот-вот, – обрадовалась Феша ее словам, – мы все тогда старались для фронту. А колхозик у нас был малюсенький. Но планы-то все равно большие. И налогов – по горло. А мы, Клавушка, держали только одну коровешку. А с нее надо и самим попитаться, и триста литров молочка отнести, да яиц сотню штук, да килограмм сорок мяса, и шерсти – даже забыла сколь… Так и жили – не помирали. Да еще картошки надо было по три центнера сдать. Накопал не накопал, а тащи на весы. А робили-то, господи, боже мой. Придешь, бывало, на конный двор, а саней нет, телег нет, ярмов нет. Друг у дружки отбирам да воруем – ехать надо, а не на чем… – Феша нахмурилась, потом по лбу провела платочком. Лицо стало серьезное, как будто осунулось. Потом тяжело вздохнула и плечи поежила, как будто мешало ей что-то на спине. А я опять поймал себя на том, что она напоминает мне аккуратную птичку-синичку. Порой смотришь – сидит та на кустике и перебирает клювиком перышки. Перебирает их и думает какую-то свою думу. Так же и Феша… Но она заговорила опять:
– Иногда с внучкой вспоминаю то время. Но куда там – не верит. Что, говорит, это такое – быки? – Феша засмеялась и оглядела стол. – А мы, значит, поставим быка в оглоблю, потом надо ярмо ему на голову поднимать, а мне не поднять это ярмо. Рога-то у быка – выше меня. Но как-нибудь дело сделать. А все равно – бык есть бык. Он то стоит упиратся, а то рванется, и ниче нипочем. А если оса, а если шершень укусит – тогда он совсем, как зверь… Но иногда добры были быки, хороши. Помню, как-то пилили лес, а у нас Нюру Сокину березой ударило. А зима была. Мне и положили Нюру на сани, отвези, мол, как хошь, в сельсовет, а там пускай обмоют да перевяжут. Вот и погнала свои сани, да боюсь, тороплюсь, как бы с Нюрой чего… А надо километров десять по целине. А быка-то моего звали Цыганом. Я его погоняю да приговариваю: „А ну, Цыганушко, давай поспевай. У Нюры-то пять ребятишек в доме, и мы с тобой выручать должны…“ Потом я бегом побежала, тогда и бык за мной побежал. Видно, понял мое положение. За какой-то час всего добежали и спасли Нюру нашу…
– Хватит, Феша, об этом, – прервала ее Клавдия Ивановна, – у людей ведь праздник, а мы с тобой все о себе, о себе.
– А мы же никому не мешам! – возразила ей Феша и опять обтерла платочком лицо.
– Я ведь, Клавушка, и на прицепах была. А тракторишко у нас – вечно худой. Пять дней заводим, а на шестой только ездим. Так что бороны мы всегда чистили на ходу. А как делали, как сейчас вижу: мы их цепляли в два следа: один ряд – впереди, а второй – позади, а посередке тросик положим. Мудрили, значит, бабешки… – Феша улыбнулась и головой покачала. Клавдия Ивановна стала делать ей какие-то знаки глазами, но Феша опять начала:
– А у меня подружка была, Тося Захарова, молодая еще, незамужняя. Вот Тося чистила как-то первый ряд, а тракторишко-то большой ход набрал, да еще поле пошло под уклон. А Тося маленько отвлеклася, задумалась, а может, и головушку обнесло. Наверно, головушку… Ну че, она зашаталася – и кувырк. А вторым следом тоже бороны шли. Вот и затянуло нашу Тосю под бороны, а сверху еще тросом пришлось. Всю одежку на ней придрало, а сама – ничего. Какой-то ангел хранил. А может, судьба. Да и молодая была – умирать не положено.?. – Феша расстегнула на платье верхнюю пуговку, потому что в комнате было жарко. Потом перевела глаза на меня:
– Смешно сказать, да грех утаить, а я ведь еще десять лет прожить собираюсь.
– Да живи хоть двадцать, – улыбнулась Клавдия Ивановна. – Но только поменьше болей. А то сильно ты, Феша, стала болеть. А от болезни – не то настроение.
– Конечно, Клава, хворь и поросенка не красит, а мы еще люди… Только я уж кого. Но пожить-то охота, цепляюся. Недавно в деревню родиму приехала, долго собиралась да собралась. Думаю: погляжу на наши заплотики и наберу здоровья маленько. Да только кого… Да еще добры люди расстроили. И расстроили крепко – чего скрывать. Я тебя, Клава, опять перебила?
– Не перебила. Рассказывай…
– Ну хорошо… – Феша повела плечом и голос повысила: – Ох, не могу! Зашла там в домик к Ивану Петровичу – раньше в детстве мы вместе играли, он и мужа, Мишеньку, знал. Ну вот, дело такое… Я и зашла. Здесь, говорю, проживает Иван Петрович? Здесь-то, мол, здесь, отвечает его сын Анатолий, но только отец уже месяц в отъезде. А какой же, возражаю, нам старым, отъезд? А сынок-то как на меня посмотрел-посмотрел, да еще к нему с пол-литрой в то время зашли – вот и не до меня. А потом соседи ихни все равно рассказали… Увезли, мол, Ивана Петровича в инвалидской сиротской дом, А за полгода до того он, родной, обезножил. Стал на руках скакать с места на место. Передвигаться-то надо жо. Он ведь на фронте был раненой. Вот раны и подвели. А че делать теперь? А делать-то нечего. Да и Анатолию, сыну, не глянется. Скачет, мол, отец на руках, как пружина, только соседей пугат… – Феша откинула назад голову и закрыла глаза. – Охо-хо… Строгой у него сынок. Вот он и подогнал к дому машину и отвез отца в инвалидской дом. А тот, говорят, сильно не хотел, все кричал, бился: не избывай меня, Толенька, я ведь руками-то все могу. Любой, мол, гвоздь прибью тебе, любу жердину поправлю. А сам ревет, бьется, руками машет. Так силой и увезли. На носилки силком положили, на которых назем-то таскают на гряды. Вот оно – наше-то дело. Доживай, мол, до старости, а потом на назем. Вот я тогда и расстроилась…
– А ты не расстраивайся, – заговорила Клавдия Ивановна, – у каждого, видно, свое. У тебя, тоже свое будет. И от этого не уйдешь… Лишь бы войны только не было.
– Так оно, – согласилась Феша. Потом рассмеялась. – Да каки наши годы! Мы еще с тобой вон сидим да пируем. – Феша залилась мелким-мелким смешком. – Вот раньше и на нас парни оглядывались. – Феша хмыкнула, но ее прервал чужой громкий голос:
– Раньше были времена, а теперь – моменты. – За спиной у Феши оказалась Нина Сергеевна. Она с обидой хлопала себя по карману. По губам скользила гримаска. – Закурить нет, конечно?
Я покрутил головой. Феша прикусила нижнюю губу и усмехнулась:
– До че дожили – кругом бабы курят, прямо едят его – и ниче. А вот мы с Клавой не курим, – Она посмотрела на меня, приглашая к шутке. – И никогда не курили. Оправды!
– Не курили, а воевать собрались. А кто ж воюет-то без цигарки?
– Что-то не поняла тебя? – воскликнула Феша и взглянула в упор на Нину Сергеевну.
– А войну-то зачем ворожите?
– Да очнись ты, девушка. Не греши. Я, к примеру, все готова отдать, последне платье сдернуть с себя, и разулась бы, лишь бы не было этой проклятой… Я даже в телевизор-то не могу. Как увижу там солдат с ружьями, с пулеметами – так и затрясет меня и бегу напролом на улицу. Нет, я бы и комнатенку свою отдала, где-нибудь бы на вокзалах ночевала, по лавкам, но только… нет, нет, не война.
– Неуж комнатку свою отдала бы? – подцепила Фешу Нина Сергеевна.
– А че, если надо. Конечно, я привыкла уж к ней, хоть и тесновато, да ниче…
– Почему тесновато? Вечеров ты не собираешь, старичков к себе не приводишь. Так зачем тебе шире-то? – Нина Сергеевна рассмеялась и подмигнула мне, точно призывая в свидетели. Потом опять на Фешу напала:
– Ты ведь живешь, как буржуйка. Одна всего, а комнату занимаешь. И прямо в центре, рядом все магазины. И театрик наш рядом. Мало-мальский, а все же театрик…
– По тиятрам я не ходила. У меня у самой были всяки тиятры. – Феша теперь смотрела в упор на Нину Сергеевну и хмурила брови. А я слушал их голоса, слушал насмешливый голос певицы, а сам опять о своем думал, только о своем, о своем. И я знал, что на улице уже ночь, что давно дома меня потеряли, но что-то все же мешало встать и проститься, что-то мешало мне сделать эти три шага до двери. Наверно, усталость меня одолела, а может быть, задремал. Ну конечно, я дремал уже и куда-то проваливался, и только закрывались глаза, смежались – мне сразу виделась моя родная Заборка, та далекая улица. А за улицей – степь, и степь эта белая-белая, как простыня. И мне казалось уже, мне чудилось, что будто иду я, бреду по глубокому снегу и на мне полушубок, на ногах широкие лыжи, а следом за мной все идут и идут ребятишки. Много-много их, наверное, полдеревни. Я веду их в ближние сосны, а потом мы выйдем на озеро, а потом мы покатим дальше на наши луга, а еще дальше будет деревня Покровка. И там, возле этой деревни, мы найдем высокий обелиск с большой красной звездочкой. Там когда-то убили колчаковцы моего деда Николая Захаровича. И вот уж нет деда – одна только звездочка… И мы снимем шапки и будем слушать эту тишину и снега. И, может быть, услышим голос моего деда, голос крови моей, голос преданий… И сразу в горле поднимаются и встают слова: дорогая моя, милая родина, дорогая моя деревня… И моя родная Катюша, моя родная жена… Вы все без меня пропадете, завянете. Но как же вас всех соединить вместе, связать? И чтоб всем было хорошо и чудесно, и чтоб все любили друг друга и помогали… Как все это соединить вместе, и чтоб не болела душа?..
– А я улетаю, но скоро вернусь… – опять обещала кому-то певица.
И я открыл, наконец, глаза. Я был все в той же комнате и на том же стуле сидел. Но все равно… Все равно что-то сдвинулось во мне, распрямилось, что-то перестало мучить, терзать. Я точно спокойнее стал и сильнее, точно очнулся сейчас после какой-то болезни, – и теперь все прошло, и ничего мне не страшно – ехать, ехать! Надо обязательно ехать в мою Заборку! Надо испытать себя в большом деле – иначе жить зачем, зачем и рождаться… Надо, надо! – все кричало во мне и рвалось из горла. А в груди стало легко… легко-легко. И я вздохнул полной грудью. А вокруг нас все еще танцевали, кружились, но как-то уже медленно, обреченно. И вдруг снова – Феша:
– Я ведь, Клавушка, молоденька-то была толстушша!
– Да ну! Не поверю.
– А ты не верь… – Она рассмеялась. – Надо мной все соседи шутели: «Ой и Феша – щеки видно со спины…» А я покушать любела. А как чай пила – никто не догонит! По шесть стаканов бывало… А шестой провожу, то еще попрошу. А надо мной все мрут да хохочут, все мрут да хохочут. А че? Мне не стыдно. Я и работать любела. Раньше-то на пашне мы с темна до темна… Эх, Клава ты моя, ты одна понимашь. Мне бы вот не тут жить, а мне бы в деревне. Да держать бы коровушку… – Феша замолчала и на меня оглянулась. Я глаза отвел, и она опять про свое:
– Часто мою в классах, че-нибудь подтираю, а потом к вытяжной трубе пойду да прижмуся. А там воет че-то, на все голоса свистит. То ли ветер там, то ли метель… А я и задумаюсь да еще сильнее прижмуся. И легко мне сделатся – не поверите? Нет уж, я не совру тебе, как мне станет легко… И в голове-то всяко, разно пройдет. Раньше-то в деревне сильны были ветра. Ох и ветра, всем ветрам ветра. Как почнет мести, как закрутит, завертит – так, глядишь, на неделю. А я маленька-то еще че придумала. Вы не слышите? – она опять на меня покосилась.
– Слышим! Слышим! – откликнулась Клавдия Ивановна.
– Ну хорошо. А я че придумала. Мне уж лет восемь было, а может, поболе. И вот сижу как-то, смотрю в окно. А там – белым-бело, шумит бела падера. А я и подумала: это, мол, не ветер за окном стучит, выпевает, а это, мол, волкушки воют, ощетинили свою шерсть… Правда, правда, все время думала так. Воют, мол, они с голоду, и к нам, к людям, просятся. А мы их гоним, пужам. А надо бы пожалеть. Но кто меня, малу, послушат. А все равно я жалела их. Пусто место, видно, жалела. Да че – кого говорить… Никому в жизни я зла не желала – ни кошке и ни собаке, ни птичке и ни травинке. Раз живое – пусть и живет. Значит, надо кому-то, зачем губить?.. Вот стоишь возле трубы и обо всем передумашь. А потом хорошо сделатся, а почему?..
– Не знаю, Феша, не знаю…
– Вот и я, Клавушка, не знаю. Не все, видно, знать, а надо и сдогадаться… – Она засмеялась, оглянулась по сторонам. Глаза у ней были веселые, легкие и что-то еще обещали.
6
И мне тоже дышалось теперь легко, и в голове не кружилось. Клавдия Ивановна принесла опять чай и позвала всех к столу. Олег подошел к магнитофону, нажал на кнопку.
– Вот хорошо-то. Не могу слушать, уши болят. Да хоть бы че-то добро поставили, а то «улетаю да уезжаю…» А куда уезжать-то? Я тридцать лет тут живу и все еще не пропала. – Феша прищурилась и посмотрела на всех, точно бы с высоты.
– А тебе сам бог велел сидеть в этой дыре. Тебе бы даже Москвы не понять.
– А че Москва? Я и в Ленинград езжу, я и в Свердловске бывала, меня и в Челябу приглашали два раза, так что… так что вы, Нина Сергеевна, в меня сильно не тыкайте, а то у меня тоже остры локотки. Мне вон даже Клава и то часто «вы» говорит…
– Надо же! Мадам Фу-фу с городской окраины. А что имеешь-то, чтоб на «вы» навеличивать?
– А что имею, то все при мне. И под меня не подроетесь. – Феша стала похрустывать пальцами, потом сняла платок с головы и сжала платок в ладони. Вокруг замолчали. Волос на голове у ней было не много, но все они были свернуты в аккуратную, ладную шишечку. И теперь Феша смахивала на учительницу, которая занимается с первоклассниками. Она сидела чистенькая, опрятная, как синичка на жердочке. Еще миг – и чирикнет, и улетит. Но она повторила снова ровным, сдавленным голоском:
– Что имею, то все при мне. И вы, девушка, не указывайте…
Нина Сергеевна засверкала глазами:
– Да брось ты мне в глаза капать! Да много ли тебе надо, чтоб полы мыть да занавески стирать. Да любая сделает не хуже тебя… Ну ладно, и так все нервы с тобой потеряла!
– А зачем нервы терять? У нас тут не принудиловка, никто никого не неволит. Встала бы да оделась, да ушла бы поране – вот бы и нервы целехоньки. – Феша расправила на коленях платок и надела его, подвязав крепко под подбородком.
– Ну вот, – вздохнула Нина Сергеевна, – я плохая, а вы хорошие… – Она притворно всхлипнула, потом выдохнула сигаретный дым прямо Феше в лицо. Та заморгала испуганно и затрясла головой:
– Кара те в руку, бесстыдница! Я и так здыхать не могу. Весь денек не ложилася, не знаю, как до постели доковыляю.
– А вы идите в свою отдельную… У вас же есть номер «люкс». И у дочери вашей тоже квартира трехкомнатная, – Нина Сергеевна подчеркнуто назвала ее на «вы» и захохотала, как будто смешное увидела. Но этот смех повис одиноко, печально, а у меня сжалось сердце и опять захотелось уйти. Но встала Феша со стула. Губы у ней подрагивали:
– Знашь че, девушка! Ты на меня не кати. Я тебе не погибалка какая, за меня и люди заступятся. – Она покраснела и стала трогать щеки, точно они у ней распухли и заболели. – И к дочери не посылай меня. Этот огород не ты городила, не тебе его разгораживать. У моей дочери уже трое ребяток, да муж есть, да свекровь лежит – ноги не ходят, не движутся. И каждому из них угол надо да отдельну кровать, а я не хочу, милая, к ним на загорбок. Они, конечно, примут, не выгонят, но я сама не хочу. А тут я никому не мешаю. И все ко мне с уважением… Так что ты меня понимай.
– Счастье какое… вас понимать, – Нина Сергеевна покрутила головой, призывая всех нас в сообщники, но никто не поддержал ее, никто не откликнулся.
– А мне и счастье! Кого еще, люди уважают, и ладно. И дни длинней кажутся. И мне уж теперь кажна минута, как божий дар. – Феша замолчала, передохнула. Краснота на лице у ней стала спадать. Да и голос был ровнее теперь, спокойнее: – И не надо бы тебе надо мной выкомуривать. И хоть бы позаочь, без меня, а то прямо в лицо мне садишь и садишь. А еще комсомолка. Ну как же так? Давай мне объяснение.
– Не твое дело, техничка Феша! И не тебе учить меня, переучивать! – Нина Сергеевна задышала шумно, пронзительно, и все тело ее точно задергалось. Я посмотрел ей с испугом в лицо. Ресницы у ней не мигали, а глаза стали, как яблоки. Еще миг – и разорвутся глаза.
– Нинка, кто тебя укусил? – вмешалась Елена Прекрасная. – У тебя шарики скоро вылетят. Кто их пойдет собирать.
Нина Сергеевна захохотала грудным нехорошим смехом. Все ее тело опять заколыхалось, задвигалось, и только сейчас я заметил, какая она широкая, полная. Любое платье на такой треснет, разлетится по швам.
– А ты не хохочи! Ишь какая – захохотала! – покачала головой Феша и снова села на стул. Откуда-то сбоку появился Олег. Он, наверное, выходил на крыльцо.
– Все кричим, значит. От чего ушел – к тому пришел, – сказал устало Олег и прищурил глаза.
– Ой, Олежка, – посмотрела на него Нина Сергеевна. – Одолжи мне сигаретку. Прямо уши пухнут – курнуть охота.
– Да, да… – пробормотал неопределенно Олег и покачал головой.
– Думал, что мы свежи, а мы все те же, – схохотнула Феша и стала помешивать чай.
– Вот-вот, – отозвался Олег и приподнял голову. Лицо у него сделалось какое-то пустое совсем, безразличное. На верхней губе висел бисеринками пот. А брови были теперь черные-черные, почти что угольные, нависшие. И этот уголь выделялся на белом лице.
– Что с тобой? – спросил я тихо его. Он рассмеялся и показал глазами на Нину Сергеевну. Потом наклонился ко мне к самому уху:
– Ты понимаешь, в ней что-то есть. И мне все еще ее жалко. Честное слово. Войди в мое положение… Ты меня слышишь?.. Она же скоро сорвется, она же на обрыве, ты понимаешь?
– Все мы, Олег, на обрыве… – сказал я тихо, потому что у меня опять заныло в груди, как будто сидел там злой червячок и вставал на дыбы и покусывал. Я хотел про него забыть и не мог. Потом к нам подсела Елена Прекрасная.
– Почему, мужики, замолчали? Заговорила вас княжна Нинель Воронцова?
– А ты осторожней, Ленка, с моей фамилией. Я, может, и правда княжна. – Нина Сергеевна засмеялась, откинула голову, и все ее большое, мягкое тело тоже вздрогнуло и пошло ходуном.
– Может, все может… – посмотрела на меня именинница. На лице у ней еще больше стало веснушек. А голос теперь был тоже усталый, она еле-еле ворочала языком:
– Когда я занималась в училище, у нас литературу вел Синебрюхов. Ей-богу, не стоять мне на месте! А потом паспорта поменяли, и он стал Ленский Герольд Александрович. Сменил, конечно, фамилию. И ты, Нинка, сменишь. Вот выйдешь замуж и сменишь.
– А за кого?
– Ладно уж, за меня… – как-то обреченно ответил Олег и стал медленно разливать вино. Рука у него печально подрагивала.
– А ты не гордись, Олежка. Лучше у жены спроси, можно ли тебе у нас задержаться? Спроси, спроси, может, и разрешит. Охо-хо, – она притворно вздохнула. – Глаза мои бы ни на что не глядели. Быстрей бы в Москву!
Олег посмотрел на нее внимательно и отвернулся к окну. Лицо его совсем побледнело, осунулось. Возле губ образовался синеватый злой полумесяц, как будто траурное кольцо. И вот траур дрогнул – и Олег рассмеялся:
– Не по средствам, княжна, живешь. Москву надо выстрадать, а потом уж… Я ведь тоже мечтал… Меня и сейчас жена укоряет. Да ладно не буду об этом.
– Жена – не стена, можно отодвинуть.
– Зачем ты…
– А затем, Олежка, затем, мечтатель мой дорогой… Знаю, как ты мечтал, Олежка. Говорят, деньжонок уже скопил на две «Лады». И построил гараж и баню. Поди, и венички к зиме припасаешь?..
– Нинка, ты сегодня затихнешь?! – взмолилась Елена Прекрасная.
Но та, к кому она обращалась, опять засверкала глазами:
– Господи, помилуй мя грешную. И зачем только заехала в эту дыру?! Провинция – страна чужая, страна чалдонов и собак… Ха-ха! – она захохотала и далеко выдохнула сигаретный дымок. – Когда я училась в Москве, это написал Костя Лямин. Все ручки целовал мне, лизался, а сам худенький, маленький, как стручок.
– Тебя послушать, Нинка, кто за тобой не бегал? Один король аравийский не бегал… – именинница говорила медленно, потому что жевала конфеты. – Хоть бы мне кого-нибудь подыскала. Костя Лямин-то теперь где?..
– А ты завидуешь, да, Елена? А я вина хощу-у настоящего! Где моя большая соска? – Она сморщила лицо и зарыдала притворно. Потом пискнула, как ребенок. Все засмеялись, даже у Феши напряглось личико, оживилось.
– Ты, Нинка, артистка! Ты наш золотой фонд, наша гордость! – произнесла напыщенно именинница и раскурила медленно сигарету.
– О, да-а! Когда я училась в Москве, то снималась с Эрастом Гариным.
– В массовке-то из-за будки выглядывала? – рассмеялся Олег. – Видели мы там народную артистку Воронцову Нину.
– Именно из-за будки, ты прав. Но кто выглядывал-то? Может быть, ты? Или она? – Нина Сергеевна посмотрела в упор на Фешу. И та усмехнулась:
– А мне че выглядывать, прятаться? Мы с Клавой ниче в кармане не держим. Все, че есть, – все у нас на виду.
– А вы, Феша, не волнуйтесь, поберегите себя, – сказал Олег усталым просящим голосом, – мы поспорим тут, пошумим, а на вас отразится…
– Вот хорошо-то, – оживилась сразу Феша и посмотрела на меня со значением. – Хоть один, наконец, нашелся, сказал добро слово… А я ведь, товарищи, давно знаю Олега-то Николаевича. Я ведь еще с мокреньким с ним водилася… Вот так, скажу вам откровенно. Мы с ним даже с одной деревни и нам… – но в этот миг Фешу перебила Нина Сергеевна:
– Я не знаю, кто тут сухой или мокренький, но я вам доскажу про кино. Да! А с Эрастом Гариным я стояла вот так!.. – она указала ладонью прямо мне в лоб, и я сжался, как школьник. А она опять повторила:
– Я вам докажу… Нашлись знатоки.
– Ладно уж, убедила, – рассмеялся Олег и сразу же погрустнел. Синий круг возле губ у него стал еще жестче, отчетливей. И лицо напомнило какую-то птицу.
– То-то же! В кино ходить надо, а то слушаем тут старух…
– Мы не старухи, – покачала головой Клавдия Ивановна, – мы – ветераны труда.
– Мы с Клавой еще за себя постоим! – подговорилась Феша и стала что-то подбирать на столе.
– Годы, годы – вышел порох, переходим на песок… Так, что ли, поставим сейчас вопрос? – засмеялась Нина Сергеевна и хлопнула пудреницей. И сразу же как-то весело, энергично стала пудрить себе нос, подбородок. За столом запахло сладким, ванильным.
– Ну и командирка! – вздохнула Феша и посмотрела на дверь, точно ждала кого-то. – Директора нет, так она за директора.
– Да хватит тебе, Феша, паясничать! Прямо лезешь, управы нет! – не сказала, а почти выкрикнула Нина Сергеевна. Она еще хотела что-то добавить, но Олег поднялся со стула.
– Мне пора! Я – по домам.
– Да как же уходить-то с таким настроением! – взмолилась Клавдия Ивановна. – Эта вот ревет уже. – Она показала глазами на Фешу. – А ее слезы сильно дорого стоят. Она давно на таблетках да на уколах. У ней уже был инфаркт…
– Знаем, знаем. Тогда работать не надо, а то и пенсия и зарплата. А все деньги – на книжку. Это ж народный капитализм, дорогие…
– Нет, Нина Сергеевна, я сберкнижек не знаю. За мной – одна комнатенка, и больше нет ничего, – сказала Феша тихим, подавленным голосом и опять сняла с головы платок, стала распрямлять его на коленях.
– Надоела ты со своей комнатенкой. Живи в ней, я же не выгоняю. Хоть и право есть. Я же – молодой специалист, ха-ха…
– Какие вы быстрые нонешни. Вам сразу вынь да положь. – Феша стала крутить головой, как будто искала поддержки. Но Олег промолчал, а Клавдия Ивановна разглядывала внимательно портрет Баха и была отсюда далеко-далеко. Именинница тоже была не здесь. В левой руке она держала зажженную сигарету, и та дымилась и догорела почти до ногтей, по рука не чувствовала огня. Смотреть на это было мучительно.
Я поднялся со стула и вопросительно посмотрел на Олега – давай, мол, провожай меня. Сам завел сюда – сам же и провожай. Но Олег даже не пошевелился. Я обиделся и начал смотреть в окно. На улице все еще было ветрено и темно, может, даже темнее, чем час назад. Но постепенно глаза различили деревья. Тополя клонились из стороны в сторону, а потом на какой-то миг замирали, а потом снова и снова их обхватывал ветер. Бедные тополя… Как, наверно, им сейчас тяжело! Но это же временно, не вечен же ветер. И я представил эти деревья через неделю. Их облепят грачи снизу доверху, а потом появятся гнезда. И эти гнезда кому-то в городе помешают. Их будут сбрасывать дворники прямо на тротуар тяжелыми длинными баграми, а птицы будут кричать вверху и бить крыльями… Но кричи не кричи… А все равно больно это, невыносимо. И никто за них не заступится: ведь птицы – не люди… Я отодвинул штору пошире. Деревья гнулись, точно просили о помощи. Но кто поможет и кто пожалеет, ведь деревья – тоже не люди… Возле меня остановился Олег и стал разминать сигарету. Ему хотелось что-то сказать мне, поговорить, а мне не хотелось. Он понял это и отвернулся. А я постоял еще чуть-чуть для приличия и вернулся к столу.
Именинница опять разливала вино. Оно было густое, лиловое, как птичье крыло. Нина Сергеевна подняла глаза на меня и вдруг – рассмеялась:
– И чего мы, дураки, все держимся за работу?..
– Верно, Нинка. А по мне – лишь бы семья была, – сказала задумчиво именинница. – Для меня женщина – это семья, а мужчина – это работа. Вот наступит мой день – и нарожу своему черненьких, рыженьких…
– А-а, Елена… Тебе бы только семья да пеленочки, а я жить хочу, моя дорогая! И чтоб широко, по-русски, чтоб лучше всех! – У ней обиженно задрожал подбородок, а глаза покрылись густой темной пленочкой, и эта пленка то пропадала, гасла, то вспыхивала, то переливалась ярко, как ртуть. А Феша медленно покачала головой:
– Детки – это хорошо, я за них. Я вон внучку часто беру к себе. А она у меня сильно ласкова. Прямо кошечка, ясноё море…
– Сама ты кошечка! – захохотала Нина Сергеевна. – И коготки еще сохраняешь. А что! Прямо проходу нет от ветеранов труда. В магазине им – в первую очередь, и квартиры им – в первую очередь…
– И на кладбище им – в первую очередь, – сказала Клавдия Ивановна и устало зевнула.
– О да-а!! – поправилась Нина Сергеевна. – Но если уж честно, товарищи, то за нами – завтрашний день, а за ними – песочек.
– За кем – за ними-то? – обиделась Клавдия Ивановна и прикрыла глаза ладонью. Эта ладонь была старая, как сухая кора, по ней шли толстые синеватые жилы. Я перевел взгляд на Олега, но тот от меня отвернулся и уставился в стол. Что с ним? Таким печальным он еще не был. И таким скучным, подавленным… А может быть, это уже безразличие?.. Ведь мы так давно с ним откровенно не говорили, не спорили… Но мои мысли перебила Елена Прекрасная:
– А вот я не боюсь ложиться в песочек. Были бы дети, а так, что оставлять?
– Рано, рано вы нас отпеваете, – вздохнула обиженно Феша и подняла кверху голову. Ее невидимые бровки тоже приподнялись, и лицо стало похоже на желтую луковку, с которой сдернули кожицу. И голосок тоже вышел обиженный. Она говорила и смотрела на Нину Сергеевну, точно впервые увидела, точно бы изучала:
– А если мы сильно не глянемся, то зачем сюда ехала? В таку даль поплелась да из самой Москвы? А зачем? Неуж за деньгой? Тогда уж сознайся.
– Чистосердечное признанье – половина вины… Так, что ли? – Нина Сергеевна хмыкнула, кто-то включил музыку. Звуки поднялись высоко, оглушили, и опять нежно, тонко отозвался хрусталь. О чем он?.. Но меня оборвали. И оборвал опять смех:
– Ну и Феша! Ну, прокурор!.. За деньгой, говоришь? Ха-а-ха… – Нина Сергеевна откинула голову, сигаретка дымилась:
– Не знала я, а то б разбогатела.
– А хохотать не надо… – сказала Феша тихо и посмотрела через стол на Олега. – Зачем хохотать. Не люблю я… не по себе… А деньги надо заслужить. А то заробят нынче в день по десятке, а все равно недовольны. Деньги, што ли, снова надо менять?
– Надо, милая, надо. А то техничка со мной наравне…
– А хотя бы что и техничка, – Феша круто повела головой. – Я вот тоже техничка, а внучат своих я б тебе не доверила. И Москвой ты мне не хвались.
– А я бы прямо заплакала…
– А хоть прямо, хоть криво, а никогда!
– Да замолчи ты, стара чернилка! А кому б ты доверила? – Нина Сергеевна даже соскочила со стула. – И Москву ты не трогай, не тереби! Я за нее вот так вот дралась! Я только в институт два раза пыталась, только на третий раз приняли… – она вздохнула и схватилась за сигареты. А Феша тоже поднялась на ноги и молча смотрела в пол. Так прошла минута-другая. Я оцепенел и почти не дышал. Потом Феша подняла глаза и спросила чужим голосом:
– Ты объясни, что такое чернилка? – Феша поглаживала щеку ладонью и уже жевала таблетку. Клавдия Ивановна поддерживала ее за локоть. Нина Сергеевна надула губы и что-то ворчала, не разобрать. Олег показывал мне глазами на дверь, но я прирос к стулу, и какая-то странная тяжелая апатия наступала теперь на меня.
– Ты объяснишь мне или же так? – Феша громко охнула и схватилась за грудь. И тогда я не выдержал:
– Да помири ты их, Олег! Ты же здесь хозяин!
– Сиди, сиди, перемелется. – Он устало махнул рукой, усмехнулся.
– Во-во! Перемелет меня эта старуха, – сказала Нина Сергеевна, и в это время Феша вдруг зашаталась и повалилась. Ее уже на лету подхватил Олег и довел до дивана. Нина Сергеевна трясла головой и жадно курила:
– Ой, нервы-нервы! Скоро буду такая же… Быстрей бы вылезти из этой норы…
Над Фешей наклонилась Клавдия Ивановна и поманила глазами Олега:
– Надо бы «скорую». Где у нас телефон?
– А-а, успокойтесь, – засмеялась Нина Сергеевна. – Когда я училась в Москве, у меня часто шалили нервишки. Но я элениум все глотала. Да-да, помогало. У кого он есть, может, дадим?
– Да уйди ты с глаз от нее! – сказал с раздражением Олег, но та уже не слышала его, она звонила по телефону:
– Галочка, сейчас телефон наш займут. Я приду в общежитие минут через двадцать. Ты не спи, будем кофе пить.
В это время на рычажок надавил Олег:
– Отойди, надо «скорую».
Нина нехотя отдала ему трубку:
– Нашелся, гадство, брат милосердия. Я тебя, Олежка, больше в упор не вижу… Товарищи, а где же музыка? Мы, что ли, больше не будем…
– Нинка, сдурела! У нас человек на диване, а ты плясать, – сверкнула на нее взглядом Елена Прекрасная, но та ей ничего не ответила, она жадно курила и смотрела в окно.