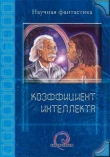Текст книги "Паутина (СИ)"
Автор книги: Весела Костадинова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц)
5
Холодный дождь бил по щекам, стекал с мокрых прядей на шею, пробирался ледяными струйками под одежду, обжигая спину. Он падал тяжелыми каплями, смываясь со слезами, растворяясь в них, становясь неотличимым. Плачущий вместе со мной. Плачущий вместо меня.
Боль.
Такая, от которой внутри все сжималось в тугой узел, от которой невозможно было дышать, говорить, даже просто существовать. Она была в каждом вдохе, в каждом движении, разрывала изнутри, не давая ни минуты покоя. Ни днем, ни ночью. Мучила. Убивала.
Я почти привыкла к этой боли. Она стала частью меня, вплелась в мысли, в кожу, в кровь. Научилась жить с ней, ходить, говорить, выполнять механические действия, словно запрограммированная кукла. Я звонила, отвечала на вопросы скорой и полиции, собирала документы, подписывала какие-то бумаги, пыталась подобрать слова для мамы.
Но она не слушала.
Она сидела в кресле, глядя в одну точку, словно застывшая фигура из воска. Пустая. Отдаленная. Нерушимая в своем молчании.
Даже сейчас, на кладбище, она стояла над могилой, не шелохнувшись, не реагируя ни на что. Грязные комки земли падали вниз, ударяясь о гроб с глухим, давящим звуком, но она не отрывала взгляда. Ее глаза, когда-то такие живые, полные темного огня, сейчас казались пустыми, бездонными. В них не было даже проблеска разума, только холодная, бесконечная тьма.
Разумом мама была где-то далеко отсюда. Где-то очень далеко. Туда, куда и я бы хотела последовать за ней.
Закрыла глаза, позволяя дождю стекать по лицу, смешиваясь со слезами. Он был единственным, кто меня сейчас утешал, кто не оставлял меня одну.
И вдруг холодные капли исчезли.
Вода больше не падала на мое лицо.
Медленно открыла глаза – это стало неприятно. Я хотела, чтобы дождь продолжался, чтобы смывал, уносил с собой хотя бы часть той боли, что поселилась внутри. Чтобы он лил так же неустанно, как сейчас лилась по мне боль утраты.
Скосив взгляд, я оглядела тех, кто стоял рядом. Их было много. Слишком много. Люди, пришедшие проститься с отцом: друзья, враги, коллеги. Те, кого я знала с детства, и те, чьи лица видела впервые. Казалось, их объединяло лишь одно – черные одежды и скорбные выражения лиц.
Они что-то говорили, шептались, переглядывались между собой. Кто-то пытался выразить соболезнования, кто-то просто стоял, склонив голову.
Но их голоса звучали будто из-под воды – далекие, глухие, искаженные. Они не достигали сознания, не пробивались сквозь тяжелую завесу, окутавшую меня.
Будто до меня они больше не могли достучаться.
Я смотрела вперед, но не видела. Взгляд цеплялся за мельчайшие детали: как капли дождя стекали по гладкой поверхности надгробия, как рыхлая земля оседала на закрытый гроб, как белые лилии на венке уже начинали терять свою свежесть, лепестки выглядели тяжёлыми, напитанными влагой. Но ни одно из этих изображений не откладывалось в памяти по-настоящему.
От запаха сырой земли и мокрых цветов волнами накатывала тошнота. Воздух был плотным, влажным, пропитанным ароматом увядающих роз, сырого дерева и чего-то тяжелого, неуловимо горького. Я попыталась вдохнуть глубже, но это только усилило спазм в горле.
Все происходящее казалось мне чужим, далеким, каким-то ненастоящим, будто я наблюдаю за всем со стороны, не имея сил сделать ни шага, ни вздоха, ни даже попытки осознать, что именно происходит.
Бабушка. Она стояла рядом с мамой, обняв ее за плечи, поддерживая, оберегая, словно хрупкую фарфоровую статуэтку, которая могла треснуть в любой момент. Я доверила бы это только ей. Только бабушке.
Дашка и Лена. Они стояли чуть позади меня, бледные, с мокрыми от слез глазами. Их губы плотно сжаты, будто они боялись сказать хоть слово, боялись нарушить это тяжелое, вязкое молчание, в котором мы все оказались. Обе знали, что сейчас мне не нужны ни слова, ни соболезнования. Обе просто были рядом, готовые подставить плечо, но только тогда, когда мне это буде нужно. Не сейчас.
Где-то на периферии сознания мозг продолжал работать. Автоматически отмечал пришедших, запоминал, кого нужно будет поблагодарить позже, с кем переговорить. Судорожно соображал, что делать после кладбища, как провести организованные поминки, кого предупредить, куда идти дальше.
Но душа…
Душа хотела одного.
Остаться одной.
Уйти.
Хоть на минуту избавиться от этой всепоглощающей боли, которая впилась в меня ледяными когтями и не отпускала. А еще – понять, кто оградил меня от настолько нужного мне дождя.
Я медленно повернула голову и встретилась с ним взглядом. Темные, спокойные глаза. Роменский стоял рядом, держа над моей головой свой раскрытый зонт. Вода барабанила по темной ткани, стекая тонкими струями по краям, поэтому я не чувствовала холодных капель на лице.
Почему-то это злило. Злило до сжатых кулаков, до едва уловимого дрожания пальцев. Но я ничего не сказала, просто отвернулась, загоняя чувства еще глубже в себя. Будь на его месте кто-то другой, я бы, наверное, сделала шаг в сторону, вышла из-под зонта, снова позволила дождю скрывать слезы и холодом заглушать боль.
Но сейчас… Сейчас это казалось глупым и неуместным.
Закрыла глаза, борясь с внезапно накатившей усталостью. Три дня на ногах, три дня на одном ужасе и адреналине. Сон приходил урывками, короткими мгновениями, когда я проваливалась в черную бездну беспамятства, но даже там боль находила меня. Внезапно свалившиеся на плечи ответственность, проблемы, задачи… От них не было спасения.
Мама, не реагирующая на слова, застывшая, словно кукла с пустыми глазами. Бабушка, которой несколько раз приходилось вызывать скорую – я боялась, что она просто не выдержит всего этого. Организация похорон, в которой я ничего не понимала, тыкаясь, как слепой котенок, принимая десятки звонков, делая то, к чему никто не готовил.
И ни минуты спокойствия.
Ни секунды, чтобы просто остановиться и вдохнуть.
И после их не будет тоже.
Папа… Он был центром нашего мира, нашей опорой, тем, кто держал все воедино. А теперь… Теперь этого центра больше не было, и мир вокруг медленно, но неотвратимо расползался по швам.
Я не знала, как жить дальше.
Все, что оставалось, – механически двигаться вперед, словно по инерции, делать то, что требовалось, не позволяя себе упасть. Только гордость, только осознание того, что сейчас на мне сосредоточены десятки, если не сотни взглядов, удерживали меня от того, чтобы сорваться, взорваться эмоциями, зверем завыть, упасть на колени перед могилой отца.
Я сжала кулаки так сильно, что ногти врезались в кожу, раздирая ладони до крови. Хоть эта физическая боль могла бы привести меня в чувство, удержать в реальности. Пошатнулась, но устояла на ногах.
– Я отвезу вас домой, – услышала я тихий голос над ухом, теплый, спокойный, почти отстраненный. – Потом прослежу, чтобы поминки прошли спокойно.
Повернулась на этот голос, такой раздражающий своей уверенностью. Тем, что словно знал, что будет лучше для меня, решал за меня.
– Нет, – ответила коротко и резко, обжигая его взглядом. Не ему решать, что мне делать дальше. Никому больше. Такое право имел только папа.
Роменский даже не моргнул.
– Если ты свалишься от усталости, – его голос оставался ровным и спокойным, словно он разговаривал не со взвинченной, истощенной девушкой, а с упрямым ребенком, – никому лучше не станет.
– Я сказала – нет, – отрезала я, отворачиваясь и давая понять, что разговор окончен.
А после вышла из-под его зонта и подошла к бабушке.
– Бабуль, – мой голос звучал ровно и тихо, не выдавая ни напряжения, ни усталости, ни боли. – Отвези маму домой. Ей нечего делать на поминках… Да и ты едва на ногах держишься.
Бабушка подняла на меня бесцветные от горя и слез глаза. Она не стала спорить, не пыталась возразить, не задала ни одного лишнего вопроса, просто молча кивнула. За последние несколько дней она словно сжалась, уменьшилась вдвое, превратилась в тень самой себя. Сухонькая, маленькая, измученная, но по-прежнему стойкая.
Несмотря ни на что.
Сил ей почти не хватало, но если бы не ее советы, я бы не справилась. Она держала нас так же, как всю жизнь делал папа. Без лишних слов, без истерик, просто тихо и уверенно помогала, направляла, поддерживала.
Даша без слов поняла меня, подошла к бабушке и маме, и поддерживая их медленно направилась к выходу с кладбища, не дожидаясь окончания похорон.
Мне же предстояло еще пережить все остальные глупые и никому не нужные традиции.
Роменский молча покачал головой, поджимая красивые губы.
6
Сколько времени я просидела за отцовским столом в его кабинете, я не знала. Где-то в глубине квартиры часы пробили шесть раз… или семь. Может, больше. За окном давно сгустилась черная, тяжелая мгла, накрывшая город плотным одеялом, но свет я так и не зажгла.
Я сидела в его кресле, закутавшись в его свитер, вдыхая знакомый запах, пропитавший ткань – легкую горчинку кофе, слабый аромат дикой вишни, что давно въелся в шерсть. В нем было тепло, но мне все равно казалось, что меня пронизывает ледяной холод.
Передо мной лежали бумаги, аккуратно разложенные в ровные стопки. Документы, цифры, расписки, подписи. Я смотрела на них, но ничего не видела. Слова расплывались перед глазами, словно лишенные смысла символы.
Я не знала, с чего начать.
Не знала, что делать дальше.
Три дня прошло с похорон, шесть дней со дня, который разбил мою жизнь на множество острых, ранящих осколков. Точнее пять дней и 16 часов. Или уже 17…. Какая на самом деле разница?
Мама так и не пришла в себя, не сказала ни слова. Ее крик при виде мертвого папы на нашей кухне был последним звуком, который я слышала от нее. С тех пор – только тишина. Глухая, тяжелая, пугающая. Она не отвечала, не реагировала, не плакала. Просто существовала.
Я закрыла глаза, чувствуя как озноб пробирает до костей.
Нужно просмотреть папины документы. Нужно понять как жить дальше. Нужно….
У меня просто нет времени на боль.
От осознания этого хотелось выть.
Я так надеялась, что после похорон смогу хотя бы немного передохнуть. Что, исполнив никому не нужные, не приносящие облегчения ритуалы, обрету хоть краткую передышку. Но этого не случилось.
Телефон продолжал звонить и после погребения. Люди выражали соболезнования, задавали вопросы, предлагали помощь, которой я не могла воспользоваться, потому что никто, кроме меня, не мог разобраться в том хаосе, что остался после папы. Мама была в абсолютно недееспособном состоянии – молчаливая, пустая, словно растворившаяся в собственной боли. Бабушка… Ее здоровье заставляло меня каждый раз вздрагивать от любого ее движения, от каждого вздоха, от малейшего изменения в голосе.
Я опустила взгляд на лежащий передо мной лист бумаги, который в полумраке кабинета казался почти белым. Мне даже не нужно было читать его содержание – за эти шесть дней он отпечатался в моей памяти так четко, что стоило закрыть глаза, и я снова видела каждую букву, каждую строку, каждый штамп. Где четким, совсем не врачебным почерком, была выведена причина смерти отца:
Острая сердечно-сосудистая недостаточность вследствие тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА).
Тромб.
Всего одно слово, за которым скрывалась мгновенная, естественная смерть. Быстрая, без предупреждений, без шансов на спасение. Смерть человека, который еще неделю назад строил планы на выходные. Человека, который каких-то шесть дней назад обнимал меня, привычным движением лохматя мои короткие, светлые волосы – такие похожие на его.
Я закрыла глаза, пытаясь не видеть перед собой этот лист, но бесполезно.
Тромб.
Какой-то крошечный сгусток крови разрушил все.
Он вычеркнул папу из нашей жизни в один миг, в одно короткое мгновение, не дав ни прощального слова, ни возможности остановить неизбежное.
Я медленно провела пальцами по сухой, шероховатой бумаге.
Официальный вердикт.
Простой, холодный медицинский термин, которым можно объяснить, что случилось с человеком.
– Лиана… – в кабинет зашла бабушка, по-старушечьи шаркая ногами, зябко кутаясь в теплую шаль. Ее голос был тихим, усталым, но в нем все еще звучала забота, эта непоколебимая сила, которая держала нас обеих на плаву. – Тебе нужно поесть.
– Не хочу, бабушка, – ответила я, машинально зажигая лампу на столе. Теплый свет разлился по комнате, вырывая из тьмы ее маленькую, сгорбленную фигуру.
Я смотрела на нее и с болью понимала: бабушка сдает с каждым днем все сильнее. Ее плечи ссутулились, лицо осунулось, морщины стали глубже, а взгляд – еще более потухшим.
Моя боль была острой, злой, жгущей, как нож в груди.
Ее боль… Она была невыносимой.
Никто из родителей не заслужил хоронить своих детей.
Бабушка села в кресло напротив меня, туда, где обычно любила сидеть я, наблюдая за работой отца. Она молчала, но я всем своим существом чувствовала, что она пытается начать тяжелый разговор.
– Тебе нужны силы, – выдохнула она наконец, глядя на меня своими когда-то такими же серыми, как у меня, глазами. Теперь они почти потеряли цвет, став блеклыми, будто выгоревшими от боли.
– Знаю, – ответила я так же ровно, не отрывая взгляда от листа с заключением. – Меня тошнит.
– Естественная реакция организма на стресс, – мягко заметила бабушка, не осуждая, не заставляя, просто напоминая. – Адреналин и кортизол. Спазмы. Ты это тоже знаешь. Но есть необходимо.
– Знаешь… – я помолчала, стараясь подобрать слова, которые не ранили бы ни ее, ни меня. – Все эмоции можно объяснить биохимическими реакциями… Но легче от этого не становится, правда?
Бабушка отрицательно покачала головой.
– Нет, не становится, – тихо сказала она.
В этой простоте, в этой обнаженной правде было что-то невыносимо тяжелое.
– Как врач, могу назначить тебе седативные препараты, – продолжила она, чуть склонив голову, – но боль они тоже не лечат, родная.
Я смотрела на нее, и в первый раз за эти дни меня пронзил настоящий, парализующий страх. Не за себя. За нее.
Она замолчала, затем на мгновение зажмурила глаза, будто собираясь с духом.
– Только время, – закончила она наконец. – У меня… – ее голос едва дрогнул, но она тут же взяла себя в руки. – Его почти не осталось.
Я напряглась, едва дыша.
– Но у тебя оно есть.
Эти слова отозвались ледяным эхом внутри меня. Бабушка не жаловалась, не драматизировала, не пыталась меня напугать. Она просто констатировала факт.
– Лиана, – продолжила она, – я стара. И я…. я не справлюсь без тебя. Твоя мама…. – она подняла глаза к высокому потолку, не зная, как сказать мне то, о чем я уже и сама догадалась.
Я тяжело опустила голову на сложенные на столе руки, сдерживая рвущиеся наружу рыдания.
– Бабуль…. Она же…. Не может быть, чтобы так….
– Ей нужно будет лечение, – ответила бабушка через силу. – Возможно довольно долгое.
Слова падали, как камни, утягивая меня все глубже в вязкую, неотвратимую правду.
– Возможно, – продолжила бабушка, – это всего лишь вопрос времени. Но человеческая психика настолько хрупка и неизведана, что никто нам с тобой никаких гарантий не даст. Клара сейчас…. Как ребенок. И присматривать за ней придется… как за ребенком.
– Бабушка…. – паника разваливалась внутри раскаленной лавой.
Она подняла руку, призывая меня к спокойствию.
– Поживу пока с вами, родная. А тебе пора брать себя в руки. В понедельник возвращайся к учебе.
У меня резко разболелась голова. Учеба… Возвращение в университет казалось сейчас делом настолько сложным, почти невозможным: ловить на себе сочувствующие взгляды преподавателей, выслушивать неуклюжие соболезнования сокурсников, видеть колючие взгляды завистников, которые только сейчас узнали, кем был мой отец. Помотала головой отгоняя головокружение.
– Дашка все телефоны оборвала, – продолжала бабуля. – Они с Леной боятся за тебя. Очень боятся. Не хотят напоминать, не хотят дергать, но волнуются.
На долю секунды на сердце стало чуть теплее, всего лишь на мгновение. Словно едва заметное дуновение теплого ветра в морозную ночь.
– Лиана, – бабушка взяла мою холодную руку в свою сухонькую ладонь. – Звонил и твой декан.
Я вздрогнула, невольно поморщившись.
– Ему что надо? – против воли слова прозвучали резко. Мне не нравилось повышенное внимание к себе, не хотелось его жалости. Я, в конце концов, не выброшенная на помойку кошка.
– Велел передать, что, если ты в понедельник не явишься на занятия – у тебя будут серьезные неприятности.
– Что? – Я резко вскинула голову, широко распахнув глаза. Это было настолько абсурдно, что на мгновение даже все тревоги отступили. – Серьезно?
– Что слышала, – проворчала бабушка, укутывая мои пальцы своими ладонями. – Пока, слава богу, слабоумием не страдаю. Передала слово в слово.
Я невольно рассмеялась. Горько. Разом от усталости, отчаяния и неожиданности.
Роменский умел вогнать в ступор, не отнять.
Невероятно! А то у меня мало проблем….
– Я пойду в понедельник на учебу, – проворчала я, до сих пор не отойдя от шока.
– Хорошо, – улыбнулась бабушка. – Пойду сделаю нам чая. Я замерзла, ты тоже вся дрожишь. Лиана, – внезапно остановилась она на пороге кабинета, задумавшись на мгновение. – Ты знаешь некую Наталью Владимирову?
Я подняла голову на бабушку и задумалась. Нет, это имя я никогда не слышала.
– Нет, – отрицательно покачала головой. – Кто это?
– Не знаю, – пожала плечами бабушка, – но все эти дни она по нескольку раз звонит на телефон твоей матери.
Я вздохнула.
– Нам сейчас много кто звонит, бабуль. Приятели, знакомые…. Я и половины не знаю… отвечаю машинально, даже в слова уже не вдумываюсь….
– Да, – согласилась бабуля, – верно. Но они хотя бы говорят с тобой, а не вешают трубку, как только ты отвечаешь на звонок.
С этими словами она вышла, плотно притворив за собой двери. Я снова закрыла глаза, положила голову на отцовский стол и накрылась с головой его свитером. Папин запах нес с собой боль и покой. Обо всем остальном буду думать позже.
7
Странное это было ощущение – возвращение в университет. Я не была на занятиях всего неделю, а чувство было, что почти год. Все те же лица, все те же голоса, запахи, шум. Все знакомое и такое далекое, словно не касающееся меня.
– Лиана! – Дашка первая заметила, что я вошла в аудиторию. – Давай к нам! – помахала она рукой, подвигаясь на скамье и освобождая место рядом.
Я натянуто улыбнулась, ловя на себе взгляды сокурсников: сочувственные, удивленные, неодобрительные.
– Много пропустила? – тихо спросила у подруг, которые сели по бокам от меня, как бы защищая собой от остальных, не давая слишком сильно давить.
– Да нет, – отмахнулась Лена, – с твоим-то мозгом наверстаешь за пару дней. А конспекты возьмешь у нас.
– Мой мозг сейчас не в состоянии даже два плюс два посчитать, – хмуро призналась я подругам. – Много сплетен ходит?
Лена промолчала, Дашка отвернулась на пару секунд.
– Ходят, – ответила она. – Было бы странно, если б их не было. К счастью, у наших гадюк с пятницы есть более интересный объект для обсуждения. Ты всего лишь дочь профессора, а тут… целый профессор в наличие. Молодой и красивый. Так что выдыхай, бобер. Позубоскалят и успокоятся.
Я невольно улыбнулась. Вот уж действительно – достойный объект. Хорошо, что никто из сокурсников, кроме Дашки и Ленки не был на похоронах.
– Лиан, – тут же спросила Лена, – вы знакомы, да?
– Он – сын папиного друга, – ответила я тихо, чтоб услышали только подруги. – Мы познакомились только накануне… – дыхание перехватило от боли.
– Лен, отвали, а? – рыкнула Дарья, сердито взглянув на подругу. – Реально уже подбешиваешь своим любопытством.
– Я материал для книги собираю, – парировала Ленка, даже глазом не моргнув. – Сами предложили, между прочим.
Она ухмыльнулась, но вскоре её лицо снова стало задумчивым.
– А вообще, дядька не в моем вкусе, – вынесла она вердикт. – Слишком холодный. Глаза… Брр. – Она передернулась. – Как посмотрит, словно льдом окутает. Расчетливый слишком.
– На горячего декана не тянет? – ехидно уточнила Дарья, скрестив руки на груди.
– Ни разу, – фыркнула Лена. – Этот катком по тебе прокатится и даже не обернётся.
Она окинула аудиторию цепким взглядом и усмехнулась:
– Забавно будет за нашими курицами наблюдать – они сегодня снова из юбок выпрыгивать будут.
Она хотела еще что-то добавить, но в это время в аудиторию вошел Шелига, и мы тут же замолчали, готовясь заполнять конспекты.
Не смотря на уверения и помощь подруг к концу третьей пары я чувствовала себя вымотанной в край. Еще никогда учеба не давалась мне так тяжело. Сказывались и усталость последних дней, и шок, который так до сих пор меня не отпустил. Но видела я и другое – многие сокурсники при виде меня недовольно поджимали губы. Кто-то мог даже отвернуться, кто-то – не ответить на приветствие. Последствия раскрытия имени отца проявили себя во всей красе.
Прав был Роменский – люди не любят чужих успехов. А теперь у всех появилась возможность приписать мои достижения влиянию папы, что они с радостью и сделали.
На четвертой паре, как и предсказывала Дашка, настойчивое внимание с меня переключилось на того, кто стоял у доски. Как только он вошел в аудиторию, я краем глаза заметила резкую перемену в атмосфере.
Девушки мгновенно выпрямились, кто-то незаметно пригладил волосы, наклонился ближе к столу, делая вид, что внимательно изучает тетрадь, но при этом приняв наиболее выгодные позы.
Парни, напротив, нахмурились. Кто-то скептически покосился на декана, кто-то сложил руки на груди с выражением «ну давай, удиви меня». Они сразу почувствовали в нем потенциального соперника.
Дарья тихо хмыкнула, Ленка спрятала довольную улыбку, с интересом наблюдая за сценкой в аудитории.
Роменский же даже бровью не повел, хотя я была уверенна – все прекрасно понял. Он скользнул глазами по студентам, на долю секунды остановив взгляд на мне. Но это было скорее констатацией факта, он просто принял к сведению, что я пришла.
Отвернулся к доске и включил проектор.
Лекция потекла своим ходом. Голос Игоря Андреевича был спокойным, размеренным, но не скучным. Он постоянно держал нас на крючке внимания, не давал расслабиться. Он не просто давал материал, он вовлекал нас в диалог, заставляя отвечать на вопросы, заставляя думать, анализировать, искать связи между фактами. Его манера преподавания была далека от монотонных заученных лекций, которые можно было просто записывать в тетрадь, не вникая в суть. Он не позволял нам быть пассивными слушателями. Вместо этого каждое его слово требовало осмысления, каждый вопрос провоцировал размышления, а каждая пауза в речи словно подталкивала к тому, чтобы задуматься и высказать свое мнение.
Я поймала себя на том, что, несмотря на усталость, не могу отвлечься, не могу позволить себе отстраниться от происходящего. Даже если бы я попыталась, мне бы не дали. Роменский легко переключал внимание с одного студента на другого, не давая спрятаться за спинами однокурсников. Его не устраивали дежурные ответы, которые можно было прочитать в учебнике. Он требовал размышлений, личного взгляда, умения аргументировать свою точку зрения.
В аудитории царила особая, напряженная тишина – не та, что возникает от скуки, а та, что рождается от сосредоточенности. Студенты слушали, следили за ходом его мыслей, пытались предугадать следующий вопрос. Я видела, как даже самые равнодушные, те, кто обычно лениво записывал лекции, теперь держали ручки в руках, готовые делать пометки, боясь упустить что-то важное.
Дарья исподтишка взглянула на меня, её губы дрогнули в едва заметной усмешке. Я поняла, что она читает меня как открытую книгу. Ей было ясно, что, несмотря на мое внутреннее сопротивление, я тоже втянулась.
– Так, – он снова обернулся к нам, – кузнечики, какой метод вы выберете для определения уровня экспрессии гена и почему?
Тишина была ему ответом. Даже заинтересованные девушки слегка втянули головы, страшась, что его взгляд упадет на них.
Он быстро обвел глазами зал.
– Романова.
Я слегка вздрогнула, не сразу поняв, что обратился он ко мне и по отцовской фамилии. Подняла голову и встретилась глазами с холодным, отстранённым взглядом темных глаз. Позади раздались приглушенные смешки – кто-то, не знаю кто, видимо радовался моему потенциальному провалу.
Злость захлестнула с головой.
– Количественная ПЦР. Я выберу количественную ПЦР, – сквозь зубы ответила ему.
– Почему? – ровно продолжил он, наваливаясь на свой стол и скрещивая руки на груди.
– Обычная ПЦР покажет только наличие или отсутствие экспрессии гена. Количественная позволяет измерить уровень экспрессии и сравнить его между разными условиями.
– Хорошо, – голос не выражал ничего, он снова отвернулся к проектору и продолжил лекцию.
Я перевела дыхание, испытывая невероятное желание повернуться к недоброжелателям и показать им фак.
– Красиво, – вдруг раздалось у меня над ухом. Лена, даже не поднимая головы от тетради, наклонилась ко мне и, пользуясь тем, что Роменский уже отвернулся, небрежно вскинула средний палец в сторону завистников.
Я не удержалась от улыбки, но всё же погрозила ей пальцем в притворном укоре.
– Пусть подавятся, – фыркнула она, пожав плечами и снова сосредотачиваясь на записях.
Прозвеневший звонок прокатился по залу волной облегчения. Несколько студентов даже выдохнули вслух, а кто-то довольно громко захлопнул тетрадь, намекая, что всё – пытка закончена.
Но Роменский, казалось, вообще не обращал внимания на реакцию аудитории. Он абсолютно неспешно повернулся к нам, словно звонок его вообще не касался.
– На следующей лекции – коллоквиум. Готовьтесь, – холодно произнёс он, глядя прямо в зал, как будто видел каждого из нас насквозь.
В аудитории раздался единодушный стон. Кто-то тихо ругнулся, а несколько студентов обменялись растерянными взглядами.
– Но… – голос с задних рядов прозвучал неуверенно, почти жалобно. – У нас же только третья лекция будет…
Ответа не последовало.
Роменский даже не посмотрел в сторону говорившего. Он просто выключил проектор, собрал бумаги и, не теряя ни секунды, направился к выходу.
Казалось, вопрос о том, справимся мы или нет, его совершенно не волновал.
– Ебушки-воробушки, – прокомментировала Лена, вздохнув, – вот вам, девочки, и красавчик.
Я обернулась к Дарье, а вот она, молча прищурив глаза, смотрела в след ушедшему Роменскому, а потом перевела глаза на меня. И в них я прочитала немой вопрос.