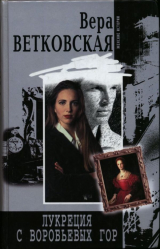
Текст книги "Лукреция с Воробьевых гор"
Автор книги: Вера Ветковская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц)
Я вздохнула. Его коллеги никого не предавали, просто статья действительно получилась слабой. Впервые я подумала, что Игоря изрядно перехвалили и тем сослужили ему плохую службу. Теперь он не в силах пережить самую невинную критику.
– Я тебе сто раз говорила, Иноземцев, что тебе нужно не поглощать один за другим толстые тома, а как можно больше писать, обязательно по нескольку страниц в день, чтобы расписаться, набить руку, – говорила я, переворачивая на сковородке рыбное филе.
– Сегодня Федор Иваныч мне то же самое посоветовал, – рассеянно бросил Игорь.
– Замечательно! Наконец-то ты прислушаешься к совету шефа. Ведь мои слова для тебя ничего не значат, – не могла удержаться я от упрека. – Ведь нельзя же с утра до вечера поглощать чужие мысли. Чтение – это не активный процесс, скорее удовольствие. Настоящая работа – мыслить, высказывать свои идеи или увековечивать их на бумаге.
К моим философствованиям Игорь относился снисходительно. Вздыхал, закрывал глаза. Сколько раз он втолковывал мне, что такое культура. Культура – основа, фундамент, который нация возводит веками, а отдельный человек – долгие годы! Этот фундамент строится по кирпичику, постепенно. Ученый не может творить на пустом месте, из ничего, будь он от природы семи пядей во лбу.
Игорю казалось, что стоит прочесть еще десяток книг, еще основательней пополнить свой умственный багаж – и диссертация польется сама собой, страница за страницей. Но проходили недели, месяцы, а на выходе были только вымученные строчки – и никакого движения вперед. Вот почему он придавал такое значение небольшой статье, выжимке из дипломной работы, обруганной, по его мнению, несправедливо.
Он так переживал, что не спал всю ночь, ворочался, несколько раз курил на кухне. С этого дня началась черная полоса в его жизни. Теперь я часто заставала его на диване наедине с безысходными мыслями.
У меня сердце разрывалось. Но чем я могла ему помочь?
Если бы я была в состоянии сама написать эту чертову диссертацию о языке и стиле англоязычной поэзии! Игорь свободно владел английским и французским. Мне языки не давались, как и научные штудии.
И все же я решила попробовать. Попросила у Игоря диктофон и через несколько дней записала его доклад о поэзии Китса. В свободные часы в библиотеке расшифровала запись. И о ужас! На бумаге все очарование исчезло, остался убогий текст. Я тупо глядела на тетрадку, не понимая, в чем дело.
А все было очень просто. Почти все научные тексты написаны сухим, казенным, каким-то кондовым языком. Тогда я попробовала переложить доклад на нормальный язык, живой, человеческий. Результат предъявила Игорю.
– Да, у тебя легкое перо, Лукреция, – снисходительно похвалил он. – Слишком бегло и легковесно для диссертации, но твоя редактура мне очень поможет. Может быть, это твоя судьба и тебе стоит поменяться с Мезенцевой.
Он даже оживился и засел за работу. Снова «утяжелил» стиль, сделал его более эпическим. А я вслед перепечатывала отработанные страницы. Через два месяца Игорь уже отнес Федору Ивановичу первую главу. Он воспринял ее как сырую, почти черновик. Но все же начало было положено.
Игорь заметно воспрянул духом, и мы продолжали работу. Вечерами он наговаривал мне на диктофон, я расшифровывала, подвергала текст беспощадной литературной обработке, а Игорь снова его портил. Правда, я отмечала, что он все чаще оставлял написанные мной куски нетронутыми, зато когда вписывал страничку или несколько строк, они вторгались грубым диссонансом в почти готовое, стройное целое.
Я сердито выговаривала ему:
– Пиши проще, Иноземцев! Ты не Толстой, чтобы позволять себе периоды в десять строк. Тебя читаешь, словно сквозь джунгли продираешься.
– Ох уж эта простота! Та самая, которая хуже воровства! – ворчал Иноземцев.
В литературе и искусстве он терпеть не мог простоту и доступность, а тяготел к сложному, изощренному, непостижимому для серой людской массы, предназначенному только для избранных. Но, пороптав, соглашался, что приходится наступать на горло собственной песне, быть доступнее и демократичнее. Ведь со временем он мечтал писать книги, которые прочли бы не десятки специалистов, а тысячи любителей поэзии и английской литературы.
Я с гордостью замечала, что муж стал относиться ко мне иначе, иногда даже прислушиваться к моему мнению.
Раньше я была только возлюбленной, подругой жизни, неотъемлемой принадлежностью его семейного очага. Теперь стала помощницей, коллегой.
Казалось, мы еще больше сблизились, спаялись и нашему союзу не страшны никакие испытания и трудности. Но вот произошло событие, похожее на крутой вираж в моей судьбе. Мы с Игорем словно свернули с полустанка в разные стороны и зашагали, удаляясь друг от друга все дальше и дальше.
Однажды на вечеринке у Лены Мезенцевой мы разговорились с нашим Мишкой Зотовым о работе и перспективах на будущее. Перспективы будоражили только Мишку, у меня их не было. На ближайшие два-три года у меня был запланирован только младенец.
В то время начинался оглушительный журналистский бум. Как грибы после дождя, появлялись новые газеты и журналы. Это было так диковинно, неправдоподобно. Нам казалось, что полдюжины знакомых газет и столько же журналов – это на века. Я с удовольствием читала в библиотеке эти вновь возникшие издания и с грустью думала, что проживут они недолго: цены на бумагу росли, а дотации сокращались.
Мы удивились, когда наш Мишка попал в одну из этих редакций: то ли в «Вести», то ли в «Новые вести». Оказалось, он случайно набрел на свое предназначение и теперь ни о чем другом говорить не мог, только о своей работе:
– Сейчас у нас пока восемь полос, но скоро будет двенадцать, появятся новые разделы – искусство, литература, светская хроника.
И Мишка нас всех по очереди уговаривал писать рецензии на новые книги и спектакли, а также сплетни об актерах, художниках, прочих знаменитостях – этот товар шел особенно ходко. Но мы уклонялись, дело было слишком непривычное.
– А ты еще не закисла в своей библиотеке? – бесцеремонно спрашивал Мишка. – Неужели не надоело быть мужней женой и домохозяйкой?
Меня это почему-то очень задело, но я отвечала беспечно:
– Нет, меня это вполне устраивает. Никогда еще я столько не читала, как на своей нынешней службе. Вдобавок мне и деньги за это платят.
Но Мишка не поверил и вручил мне маленькую серую книжечку:
– Это Дмитрий Новиков. Наш выпускник, только старше нас года на три. Прочитай, напиши рецензию. Получишь сто рублей.
– Сто рублей? – не поверила я.
Уже в метро начала читать книжку. Понравилось. Что-то лирическое, тонкое, исповедальное. Это моя литература. Дома похвасталась мужу. Он брезгливо повертел книжку в руках:
– Представляю, что может сочинить Димка. Море соплей, смешанных со скупой мужской слезой. Старомодный язык. Трогательные воспоминания о счастливом детстве. Кому это нужно?
Я стала защищать автора. Ему всего лет двадцать пять. И в эти годы уже первая книга, пускай и не без грехов. Я давно заметила, что мой муж не способен радоваться успехам ближних. Скорее они приводят его в дурное расположение духа. А Новиков был слишком уж ближним, учился с Игорем в одной школе, потом в университете, даже жил где-то неподалеку.
Несмотря на убийственную характеристику, которую, как оплеуху, отвесил Новикову Игорь, я решила попробовать себя в жанре рецензии. Сначала перечитала критику в «Литературном обозрении» и толстых журналах, пришла к выводу, что не боги горшки обжигают, – и приступила.
Свою первую рецензию я писала целую неделю. Все, что думала о Новикове, изложила на десяти страницах, потом сократила до пяти, потом до двух. Показала свое изделие удивленному Игорю. Он-то был уверен, что я увлеченно строчу пересказ его третьей главы.
– Сто рублей! – похвалилась я, постучав пальцем по рецензии.
– Алчность тебя погубит, – пророчил муж, пробегая глазами рецензию. – Бойко, бойко!
Алчность, подумала я, как же! У меня нет осенних туфель. Аська предлагает замечательные югославские сапожки, а у родителей просить не хочется. Игорю я никогда не говорила о своих нуждах. Он воспринимал эти бабьи жалобы болезненно, как намеки на то, что он не дает на хозяйство ни рубля, а стипендию тратит на книги и карманные расходы.
Я даже мысленно никогда не упрекала Игоря, но в последнее время все чаще испытывала затруднения с деньгами. Мой муж был выше каких-то грошовых расчетов, он никогда не думал о деньгах, потому что они у него всегда были. И об одежде он никогда не думал, о его гардеробе пеклась Полина Сергеевна.
Как-то так сложилось, что на пропитание уходила моя зарплата да еще то, что подбрасывали папа и Лев Платонович. Хорошо, что сестра время от времени одаривала меня обновками, а то бы я ходила в лохмотьях.
Через неделю я оттащила Мишке рецензию. Я не перехвалила Новикова. Но отметила, что у него, по крайней мере, свой собственный, хотя пока еще слабый голос. Он не топает по проторенным дорогам, вслед за мэтрами литературы, а скромно идет своей узкой тропинкой параллельно магистралям – Бунину, Зайцеву, Шмелеву.
– Это ты здорово придумала – про тропинку и магистрали, – изумился Мишка.
– Куда мне! Это я у кого-то украла. Кажется, Анна Ахматова это сказала о каком-то молодом поэте, – честно призналась я.
– Молодец! – неуверенно похвалил Мишка.
– Да ты не беспокойся, Миш! Читатели вашей газеты все равно об этом ни за что не догадаются.
Мишка назвал меня ехидной, но потом подумал и согласился.
– Считай, что сто рублей у тебя в кармане! – заверил он.
Через неделю я с трепетом переступила порог редакции, а когда Мишка протянул мне еще пахнувшую типографской краской газету, едва не грохнулась в обморок. У меня в минуты сильного волнения всегда так – спазм в груди, искры в глазах, не хватает воздуха.
– Ты ведь в первый раз напечаталась? Поздравляю, значит, потеряла невинность, – захихикал Мишка. – Это нужно отметить.
И он увлек меня, полуживую, в одну из комнат редакции, где уже собралась большая компания. Пили чай, обсуждали дела. Бюрократизм их еще не успел заесть. Все в молодежном отделе были не старше тридцати. Поминутно кто-то влетал, проблемы решались на ходу, табачный дым стелился густым туманом. Жизнь здесь кипела и била ключом.
Мишка представил меня как дебютантку, и тут же на столе появилось вино, черный хлеб, консервы и шоколад.
Все как будто были рады, что нашелся повод для застолья. Я просидела с ними три часа, завороженно слушала, как будто живой воды напилась.
– Бросай свою библиотеку и переходи к нам! – вдруг предложил Мишка. – Знаешь, сколько будешь получать? С гонорарами набежит…
И он назвал сумму, втрое превышающую мою библиотечную зарплату. Но дело было не в деньгах. Они уже успели меня отравить, эти молодые газетчики. Я поняла, что мне хочется окунуться в самую гущу жизни, которая становилась все более интересной и захватывающей. А вместо этого я сидела в тихой библиотечной заводи и общалась исключительно с людьми науки, полностью погруженными в прошлое.
Я пришла домой, очарованная новыми знакомыми и потрясенная открывшимися передо мной перспективами. Супруг отметил только, что я вернулась немного навеселе. Он был очень недоволен тем, что работа над третьей главой застопорилась из-за какой-то дурацкой рецензии.
– Кто бы мог подумать, Игоряша! Новиков недоволен моей рецензией, – сообщила я с порога. – Я его так расхвалила, сравнила с Буниным. Но он не хочет быть тропинкой, бегущей параллельно широким магистралям. Он даже проселочной дорогой или большаком быть не желает, потому что видит себя не иначе как центральным проспектом.
Игорь расхохотался:
– Узнаю Димку. У него сатанинская гордыня. Собирай материал, Лорик. Через два-три года, когда мы пристроим тебя в аспирантуру, напишешь диссертацию на тему «Уровень самомнения у писателей». Богатейшая тема.
Я рухнула на диван, согнав с него Игоря, и попросила принести мне чашку крепкого горячего чая. Он возмутился: жена является неизвестно откуда, явно в подпитии, ложится отдыхать вместо того, чтобы позаботиться об ужине, да еще требует напитки в постель. Поворчал, но все-таки отправился на кухню ставить чайник. Я знала, что он не сможет справиться с завариванием, но не было сил встать. Наконец Игорь принес требуемое.
– Так и знала – ополоски! – расстроилась я. – Тебе уже почти четверть века, Иноземцев, а ты даже чай не умеешь заваривать, не говоря уж о том, чтобы приготовить себе какую-нибудь еду.
– Ты что, с цепи сорвалась? – обиделся он, сел за стол и демонстративно углубился в книгу.
Я, напившись кипятку, совершенно успокоилась и сказала ему задумчиво и мирно:
– Никогда я не буду писать диссертацию, Игоряша, по той причине, что питаю глубочайшее отвращение к научным разысканиям. Не мое это дело. Мишка приглашает меня в газету. И знаешь, мне очень, очень хочется согласиться.
Он вздохнул, перелистнул страницу:
– Полагаю, тебе лучше лечь и хорошенько выспаться. А утром все дурные мысли улетучатся вместе с винными парами. Моя жена – борзописец. Такое даже в кошмарном сне не может присниться.
– Кошмарные сны часто сбываются, – сказала я ему вместо «спокойной ночи», а затем отвернулась к стене, чтобы остаться наедине с собой и подумать.
Думала я все последующие дни, чуть голову не сломала. Поняла только одно: жить по-старому не смогу. Библиотека уже казалась клеткой, куда меня против воли заперли. Друзья Игоря, аспиранты и преподаватели, внушали отвращение. Их бесконечные разговоры о диссертациях, статьях, монографиях и освобождающихся ставках на кафедре стали непереносимыми. Их мирок казался затхлым, далеким от жизни. Я понимала, что это минутное и несправедливое ощущение, оно должно скоро пройти и пройдет. Но для этого я должна изменить свою жизнь.
Игорь всю неделю ходил мрачнее тучи, уговаривал меня не совершать безрассудных поступков. Я обещала, что и впредь буду помогать ему с диссертацией. Наша семейная жизнь ничуть не пострадает, если я поменяю работу. Но мужу это казалось катастрофой.
В воскресенье я поехала навестить своих и посоветоваться, хотя, признаться, в душе все решила. Редко мы теперь собирались все вместе за обеденным столом. Люсю я тоже уговорила приехать. И вот, оглядев по очереди всех Игумновых, а они, тоже уставившись на меня, ждали, я торжественно сообщила о своем решении.
– Наконец-то! Наконец-то извилины зашевелились в твоей пустой голове! – радостно вскричала сестрица.
Папа тоже был за перемены, только газета почему-то пугала его. Мама была решительно против, потому что это не нравилось моему мужу. Она до сих пор не могла поверить в счастье, которое выпало на мою долю, – стать женой такого выдающегося человека. Работать вместе с ним, оберегать его от трудностей быта – вот, по ее мнению, в чем была моя судьба.
Но я уже не была в этом уверена. Как не была уверена в гениальности мужа и его большом будущем. Я еще не рассказывала своим о трудностях с Игоревой диссертацией, о его пошатнувшейся репутации на кафедре. Но когда-нибудь придется рассказать. Люся уже спрашивала: когда же защита?
Вечером я возвращалась в Измайлово, предчувствуя, какая неприятная мне предстоит миссия – сообщить мужу о своем окончательном решении: завтра я подаю заявление об уходе.
Игорь выслушал, стараясь реагировать спокойно и доброжелательно, но я-то видела, с каким трудом ему это удавалось.
– Я уверен, что это скоропалительное и немудрое решение, но ты вправе сама распоряжаться собой. – Он пожал плечами, углубился в книгу и больше не произнес ни слова.
Через две недели я не без трепета вступила на свое новое поприще.
Множество новых газет и журналов оккупировали здание бывшего Министерства сельского хозяйства. В этих обшарпанных комнатах сиживали сотни чиновников, десятилетиями разорявших нашу деревню. Но грянул гром, реорганизации, сокращения, и паразитов разогнали. Надолго ли?
Долго я не могла привыкнуть к легкой, беззаботной атмосфере нашего молодежного коллектива. Утром впархивал в нашу комнату Шурка Борисов и кричал:
– Птички мои, здравствуйте!
Должность у Шурки была устрашающая – политический обозреватель. Ему не было равных в умных разговорах и обильных возлияниях на коллективных тусовках. А эти возлияния у нас как-то стихийно организовывались чуть ли не каждый день.
Первое время я больше всего уставала от разговоров и общения. Мне так интересны были мои новые коллеги. Я жадно набросилась на диковинных, необычных людей. У меня появились новые приятельницы. Валя Машкова, например. Эта маленькая хрупкая девушка работала в отделе промышленности, писала о коррупции, злоупотреблениях и всяческих махинациях на крупных предприятиях. И даже получала письма с угрозами. Я бы померла со страху.
Моя должность требовала не столько мужества, сколько терпения. Я прочитывала несколько десятков писем в день, ко мне направляли всех жалобщиков, ищущих справедливости в редакциях и чиновничьих кабинетах. Вначале я выслушивала всех, и всем хотелось помочь. Но это было невозможно. Тем более, что большинство ходоков давно превратились в матерых профессионалов, писавших жалобы на соседей, родню, правительство и даже на погоду.
Первые недели с непривычки газета выкачивала из меня все силы. Я едва домой приползала и ложилась как труп на диван. На столе у Игоря появился серый налет пыли. Можно было пальцем написать любое слово. На кухне повсюду мозолили глаза грязные тарелки и кастрюли. Игорь не умел мыть посуду. Однажды субботним утром я оглядела свою квартиру – и застонала от ужаса и отвращения. На уборку и стирку не было сил.
Как я завидовала Люське! Сестрица так ловко устроилась в жизни, что не ведала хозяйственных забот. Вначале совместное проживание со свекровью так ее пугало, что она даже откладывала свадьбу. Но вскоре Люся сумела наладить с Володиной мамой самые добрые отношения и теперь возвращалась домой в чисто убранную квартиру, а когда, съев приготовленный к ее приходу ужин, порывалась вымыть посуду, то свекровь грудью защищала свои владения:
– Ты устала, Люсенька, целый день на заводе, поди отдохни, деточка.
И Люська неохотно подчинялась. По праздникам дарила старушке подарки – байковый халат, толстый роман типа «Поющие в терновнике». Хотя бы раз в неделю – цветы. Да я бы такой свекрови каждый день дарила! Правда, мне грешно жаловаться: папа старался приезжать почаще, выяснив предварительно, когда у Игоря лекции или семинары. Иногда нам удавалось провести с ним вместе целый вечер. Папа приводил в порядок мое запущенное хозяйство и осторожно выспрашивал:
– Как Игорь? Вы еще не помирились?
– А мы и не ругались. Но он продолжает играть в молчанку. Молчит и молчит. Но он оттает, я уверена.
Но папу что-то очень тревожило, эта тревога была мне непонятна. Целых три года мы прожили с Игорем так дружно и безоблачно, что размолвка из-за пустяка казалась маловероятной.
И действительно, он стал оттаивать на глазах, снова приходить ко мне на кухню по утрам. Мы завтракали вместе и успевали пообщаться, прежде чем разойтись по своим делам. То ли у меня открылось второе дыхание, то ли я втянулась в газетную текучку, но уставала уже меньше. По вечерам готовила ужин, Игорь сидел рядом в кресле.
Я поклялась, что буду работать ночами, но третью главу диссертации мы сдадим в срок. Правда, печатать согласилась наша редакционная машинистка. Игорь слегка нахмурился: он не любил отдавать свои работы в чужие руки. Но что поделать, перепечатку я бы не потянула.
Пыталась ему рассказывать о своих новых друзьях, о газете. Он слушал вежливо, но вскоре переводил разговор на другое, чаще всего на свое. Мои игры в журналистику казались ему несерьезными, а его работа – самой важной на свете, без которой человечество едва ли обойдется.
Меня удивило, как легко стали вспыхивать маленькие ссоры. Наверное, потому, что раньше я с благоговением слушала, а теперь стала возражать и высказывать свое собственное мнение. Я чуть ли не насильно заставляла мужа читать нашу газету, ждала его отзывов о своих первых публикациях. Он или отмалчивался, или небрежно бросал:
– Вы строчите однодневки, которые невзыскательный читатель утром поглощает, чтобы забыть к вечеру.
– А вы создаете исключительно нетленки? – вдруг вскипела я от обиды. – Что останется от твоего профессора? Учебник его устарел, от монографий и статей мухи дохнут.
Я собиралась продолжить список его коллег и друзей-аспирантов, но тут в глазах у Игоря промелькнул страх. Он панически боялся кафедральных обсуждений, потому что не выносил самой невинной критики в свой адрес. Болезненно воспринимал нападки на свой клан, ведь он был частью этого клана.
Это была одна из тайных черточек характера Игоря, которую тетушка Варвара Сергеевна считала признаком тонкой организации и душевной изысканности. А я – просто слабостью и изнеженностью. Отныне Игорь и дома не чувствовал себя в безопасности, все время ожидая от меня удара.
Я старалась его щадить до поры до времени. Сам же он нимало не заботился о том, обижают ли, задевают ли меня его брезгливые реплики. Я отмечала эту жестокость у многих тонких, чувствительных натур.
Под рубрикой «Литература и искусство» у нас появлялись не только рецензии, но и целые литературные обзоры Ивана Зернова, которые Иноземцев тут же окрестил «взгляд и нечто».
Я с наслаждением читала эти обзоры. Иван легко, как в пасьянсе, раскладывал десятки имен, очень убедительно предсказывая зарождение новых направлений, появление ярких звезд на небосклоне литературы. Игорь тоже с любопытством углублялся в статьи Зернова, но приговор его оставался таким же суровым и несправедливым:
– Легковесно, сыро, неубедительно. Мало чутья, вкуса, культурного кругозора.
А по-моему, это было написано блестяще, легко, остроумно. Так, что даже обыкновенный, средний человек, никогда не читающий толстые журналы, поневоле приобщался к текущей литературе. К тому же мы стали первопроходцами! В других газетах подобные рубрики появились только полгода спустя. Но у них не было Вани Зернова.
Я не любила спорить. Да и невозможно было убедить в чем-то моего Иноземцева. Меня неприятно поразило, что он не в силах без раздражения выносить похвалы кому-то другому. Это не зависть, говорила я себе, это просто болезненная реакция на хронические неудачи, обрушившиеся на него в последнее время.
Однажды меня осенила идея: начать вести дневник.
Из этого разговора с самой собою я хотела понять, что же, собственно, происходит… Серьезного, внимательного собеседника у меня не было – дневник мог бы мне заменить его.
Да, что происходит?
Я вышла замуж за человека, о котором мечтала всю свою жизнь, который, казалось, гораздо выше меня и умнее, и я надеялась с его помощью, во-первых, вырасти духовно, во-вторых, стать счастливой.
Но через три года нашей совместной жизни что-то застопорилось в наших отношениях, и я никакими усилиями не могла пробить эту пробку, чтобы досыта напиться из чистого источника любви, распрямиться, почувствовать себя личностью.
Что касается счастья – тут все было гораздо сложнее.
Счастье, как лисий хвост перед носом охотника, мелькало где-то в чаще деревьев, заманивая меня куда-то в глушь. Казалось, еще два шага – и вот оно, счастье. Казалось, поедем вместе куда-нибудь отдохнуть – и наступит полное блаженство, все накопившееся за будни непонимание растворится в нем, как соль в воде. Еще мнилось: угожу свекрови, налажу с ней отношения, помогу ей сделать генеральную уборку в квартире или еще что-нибудь – и придет счастье. Свекровь оценит мои усилия, скажет Игорю:
– Знаешь, сын, тебе здорово повезло с женой!
И это будет счастье.
Еще чудилось: научусь делать Игоревы любимые голубцы, как его бабушка, – и оно придет, как миленькое; осчастливленный Игорь наконец догадается, что я – именно то, что ему нужно: и Марселя Пруста читаю, и хозяйка отменная…
Но счастье снова мелькало где-то далеко в перелеске, а я уже не знала, что делать. Деревья, за которыми оно скрывалось, бежали впереди меня, как будто у них, а не у меня, были душа и ноги, и все по-прежнему оставалось трудным, непонятным.
Игорь часто давал мне понять, что я работаю в основном на злобу дня, тогда как он сам, человек творческий, пишет на потребу вечности.
Дневник – это, в общем, творческий акт.
Итак, дневник.
Сперва следовало решить, вести ли его тайно или все-таки сообщить о своем намерении Игорю, чтобы он знал, что отныне наша жизнь находится под контролем моего творческого мировидения. В этом случае мой муж, размышляла я, поневоле заставит себя как-то подтянуться, хотя бы только затем, чтобы не выглядеть смешным в моих записках.
Но на самом деле я вовсе не из этих соображений решила сказать Игорю о дневнике: просто я так глупо устроена, что вечно выбалтываю ему свои тайны, стоит им только завестись.
Словом, улучив благоприятный момент – Игорь в этот день находился в исключительно благодушном настроении, – я подступила к нему со своим признанием:
– Игорь, я решила вести дневник.
– Кого вести? – не расслышал Игорь.
– Дневник.
– И куда же ты его поведешь? – иронически справился он.
Подобными филологическими шуточками он умел поставить меня в тупик. Надо было отвечать, и по возможности остроумно, чтобы Игорю было интересно продолжить со мною разговор.
– Я буду его вести… в будущее, – как прилежная ученица попыталась сострить я и сразу же получила по носу:
– Какое там будущее! Будущее может окончиться завтра!
И тут Игорь уселся на своего любимого конька, заговорив на тему Страшного суда, который не за дверями.
– И все же, пока Страшный суд не грянул, буду вести дневник, – произнесла я достаточно твердо.
Игорь в сердечном сокрушении всплеснул руками:
– Милая! Я все ждал, проступят ли в тебе черты уездной барышни… И вот – дождался!
– Пушкин вел дневник, – возразила я. – И Гоголь…
– А также герои Гоголя, – находчиво подхватил Игорь, – и плод трудов одного из них получил название «Записки сумасшедшего»!
– А «Дневник» Достоевского! – не столько надеясь убедить Игоря в своей правоте, сколько понимая, что ему необходима эта дискуссия, возразила я.
– А дневник жены Достоевского! – ядовито заметил Игорь. – «Федя нынче проснулся с флюсом…», «Я починила все его панталоны…». Могу еще процитировать кое-что…
– Не надо, – отказалась я. – От писателя ничего не убыло из-за рассказов его жены, даже наоборот, все это очень тепло, человечно…
– Мария ты моя Башкирцева…
Игорь балагурил, но я слышала в его голосе нотки сомнения и даже страха: он знал, что у меня довольно меткое перо и достаточно острая наблюдательность, и, наверное, боялся взгляда не с берега любви, а из тиши препараторского кабинета, в котором все чувства отступают при трезвом поблескивании скальпеля и начинается исследование жизни как таковой.
И я решила, что буду писать без особенных художественных претензий, не слишком заботясь о языке и стиле, писать просто и аккуратно, по возможности стараясь точно воспроизвести событие за событием, факт за фактом, не давая ему никакой личной оценки.
Бумага, как сеть, пропустит всю влагу чувств сквозь свои незаметные невооруженным глазом ячейки, а то, что останется на ней – о, это будет богатый улов!..
Так думала я, принимаясь за свой дневник.
Теперь, по прошествии некоторого времени, я вспоминаю свои мечты о «богатом улове» с горькой улыбкой…
…Я выловила из реки жизни все то, что обычно достают неопытные рыбаки – а может, вода была отравленной? – консервные банки, изношенные башмаки, целлулоидного пупса, велосипедное колесо и так далее и тому подобное…
А вот куда ушла рыба? Куда ушло все высокое, прекрасное, подлинное, что было – ведь было же – в наших отношениях?..
Вот один из первых запротоколированных мною эпизодов нашей жизни.
Я попросила Игоря принести из магазина, что в двух шагах от нашего дома, картошку.
Игорь не сказал «нет».
Игорь не сказал «да».
Игорь произнес величественное мужское слово: «Сейчас».
Он произнес его, не шелохнувшись на своем диване, не отрывая взгляда от статьи Григория Померанца[6] в новой «Литературке».
Многие женщины знают, что скрыто в слове «сейчас», рассеянно брошенном мужчиной, их в дрожь бросает от этого «сейчас», иные от него бьются в истерике, иные бросаются на мужей с кулаками, потому что знают – «сейчас» может растянуться на часы, дни, месяцы.
Но мне истерика не грозила.
Я решила терпеливо записывать, сколько раз на мою просьбу (кстати, сама я картошку почти не ем, в основном ее употребляет Игорь – в жареном виде) мой муж ответит «сейчас». Причем я не стала повышать голоса, чтобы заставить его сойти с дивана, а только, как попугай или кукушка в часах, время от времени повторяла просьбу.
На третий день Игорь, опять обнаружив в своей тарелке в качестве гарнира к бифштексу зеленый горошек, поинтересовался:
– А картошечки нету?
– А картошечки нету, – отрезала я.
– Неужели так трудно принести из магазина пару килограмм картошки? – с упреком произнес Игорь.
– Вместе с мясом, макаронами, майонезом, луком, хлебом это будет уже не пара килограмм, – кротко объяснила я Игорю, – я таскаю все это, но картошка – это уж, извини, твое…
– Неужели мне надо специально одеваться и выходить в магазин?
– Нет, – сказала я. – Это вовсе не обязательно. Кушай, милый, горошек…
Игорь с горестным выражением лица стал есть гарнир.
И на четвертый день он тоже увидел в тарелке горошек.
Дискуссия продолжилась.
– Послушай, – сказал он мне, – банка горошка весит столько же, сколько полкило картошки… Не лучше бы было тебе…
– Нет, не лучше, – ласково отозвалась я. – Горошек продают в ларьке возле дома, а за картошкой пилить в овощной…
Еще неделю мой муж мужественно жевал горошек, а на восьмой день, после того как я подала ему на обед то же самое, молча вскочил из-за стола, с шумом отвязал от вешалки тележку на колесах и загромыхал с нею к лифту.
Этот затянувшийся эпизод наконец закончился.
Далее на страницах своего дневника я почти дословно воспроизвела речь Игоря по случаю нежелания вынести мусорное ведро. Она смахивает на юмореску, но, честное слово, все это было сказано им на самом деле.
«Во-первых, ведро с мусором почти пустое! Во-вторых, это связано с лишним риском: на лестнице можно поскользнуться на картофельных очистках, упасть и что-нибудь себе сломать. В-третьих, все элементы мусора в ведре еще не схватились, не спаялись между собою – такое ведро высыпать труднее. И вообще, выносить такое легкое ведро – удар по самолюбию мужчины. Есть еще причина, которая удерживает меня от вынесения ведра, она связана с воспитательной мерой – чем чаще я буду выносить ведро, тем толще, неэкономней ты будешь чистить картошку, зная, что полное очистков ведро я вот-вот вынесу… А вдруг в ведре по рассеянности окажется какая-нибудь важная бумага, которую еще не поздно разыскать среди мусора! К тому же жене полезно двигаться, пусть она сама его выносит. От чучела слышу.








