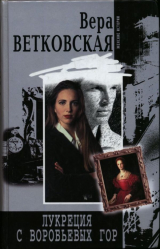
Текст книги "Лукреция с Воробьевых гор"
Автор книги: Вера Ветковская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)
До сих пор мне встречались два типа врачей. Первый тип – «невменяемые» – с равнодушными глазами, безнадежно уставшие от чужих страданий и надоедливых больных. Гораздо реже встречаются врачи по призванию, несмотря ни на что верные клятве Гиппократа. Они еще способны на сострадание. Они способны на жертвы и бескорыстие.
Горячие и холодные. «Теплых» врачей не видела. Говорят, с развитием рынка у нас появляются новые типы – откровенные дельцы от медицины, беззастенчиво выкачивающие деньги из состоятельных пациентов. К какой категории отнести Родиона, я еще не могла решить. Начинал он участковым врачом в районной поликлинике. Вот уже десять лет работает в ведомственной больнице и консультирует в частной клинике. Из этих скупых сведений было ясно, что врач он хороший.
Насколько он сердечен с пациентами, не бралась судить. Елей он не источал, но с ним было надежно и спокойно. Никто, ни один человек не действовал на меня так благотворно, даже Володька. Я с каждым днем все больше прилеплялась к Родиону. Но вот почему он ко мне ездит, зачем я ему – этого понять не могла. А спросить пока не решалась.
До встречи с ним я почти пять месяцев молчала как рыба, зато теперь не умолкала часами. Родион слушал мою болтовню с явным удовольствием, просил больше рассказывать о себе, об университете, друзьях, Касимове. Наконец добрались и до личной жизни.
– Первый мой муж был ученый человек, страшно ученый. Прочел несколько библиотек – и все как с гуся вода…
Тут Родион впервые за время нашего знакомства рассмеялся:
– Не хотел бы я попасть к вам на язычок, Лариса.
– Да, Родион Петрович, я долго преклонялась перед мужем. Разочарование было очень болезненным, когда я поняла, что можно прочесть тысячи книг и остаться совершенно никчемным человеком. Впрочем, Игорь может стать хорошим педагогом, если умерит свои амбиции. Когда я стала высказывать мужу свое мнение на этот счет, наши отношения испортились. Мужчинам нужно поклонение. Они не выносят, когда жены видят их насквозь.
И все-таки я умолчала о ребенке. Это было слишком больно. И об отце я Родиону долго не рассказывала. Старалась его рассмешить. У него была обаятельная улыбка: чуть-чуть смущенная и грустная. Ради этой улыбки я не щадила своих мужей.
– Мой второй муж оказался самым примитивным бандитом с большой дороги. Я-то думала, он бизнесмен, купец, поднимает нашу торговлю с колен. Он действительно торговал, вернее, спекулировал – бензином, валютой, машинами, чем придется. Потом я узнала, что промышлял и разбоем. А я ездила в Италию, покупала платья у «Валентино» и ведать не ведала, на какие деньги. Когда заподозрила неладное, меня чуть удар не хватил. Но он поклялся, что крови на нем нет, так, пощипали слегка двух жирных индюков, с них не убудет…
Родион вдруг искоса взглянул на меня, пристально, изучающе, словно пытался что-то вспомнить. Я поняла этот взгляд по-своему. Пускай знает обо мне все и ужасается в душе. Я сама ужасаюсь, оглядываясь в свое прошлое. Не стоит меня окутывать сиреневым туманом. Скоро сиреневый туман рассеется, и мой благородный король от меня сбежит. Кстати, надо бы погадать на него. Лена замечательно гадает на королей.
– Я своего Карася вспоминаю с юмором, – продолжала я, даже не заметив, как увлеклась воспоминаниями. – Когда-то он был простым, добрым парнем, не обремененным, правда, интеллектом и образованием. Я за него вышла от отчаяния, так измучил меня Игорь. Думала, отдохну с моим Иванушкой-дурачком…
Мы помолчали немного, и вдруг Родион невпопад спросил:
– Когда вы были в Италии, Лариса?
– В последний раз полтора года назад.
– И мы с дочкой путешествовали по Италии позапрошлым летом. Может быть, я видел вас там, случайно, мельком?
Он все мучается вопросом, где мог встречаться со мной. Я-то уверена, что никогда его не видела прежде, иначе обязательно запомнила бы. И в Италии мы были в разное время: я в сентябре, он – в мае.
– Меня сейчас словно осенило, – признался Родион, и его лицо и вправду просияло вдохновением и помолодело. – Ваш облик связан в памяти с ярким солнечным днем, знойным, слепящим, не российским.
Тут у меня мелькнула смутная догадка, но мы уже подошли к машине. Родион распахнул передо мной дверцу.
– Солнечный день – это потому, что я рыжая, – засмеялась я. – Ассоциации бывают самыми причудливыми.
Свою догадку высказывать не стала. По дороге мы говорили о другом. О том, что через несколько дней нужно забрать Лапу из «санатория».
– Вы хорошо подумали, Лариса? Может быть, все-таки устроить ее к нашей приятельнице. Она согласна, – осторожно убеждал меня Родион.
Он все еще немного сомневался во мне. Думал, минутный порыв пройдет, и собака станет мне обузой.
– Поймите, Родион Петрович, это не акт милосердия и благотворительности. Мы с Лапой родственные души. Она мне нужна. Может быть, даже больше, чем я ей.
Он удивленно на меня посмотрел. Наверное, только я сама да еще мои родные знали, что я – калека. Окружающие этого не замечали. Наоборот, в их представлении я была вполне благополучной скучающей дамой. Впрочем, Родион Петрович пока оставался для меня загадкой. Многое бы дала за то, чтобы узнать, что он обо мне думает.
– Я не спешу ее забирать, пускай заживет задняя лапка. – Я поспешно перевела разговор на будничное, любимый мой прием. – Не так уж весело она скачет на трех лапах, как обещал Айболит. Ей больно, неловко, она все еще не может понять, что лап осталось только три, да и то на заднюю больно наступать. Но со временем привыкнет.
У подъезда мы простились. Родион спешил на дежурство. Попросил позволения позвонить завтра: на Крымском новая выставка, не соглашусь ли я вывести его в свет. Я поежилась. Давно не была в свете, в толпе, на сборищах. Но Крымский – это ведь не толпа. Обещала подумать.
Что на меня нашло, не знаю, но весь вечер приводила себя в порядок. Сделала маску из моркови с оливковым маслом, втирала бальзам в волосы, а то они потускнели. Решила, что неплохо бы поправиться на два-три килограмма.
А если бы он внезапно исчез? Не позвонил больше, не явился на глаза, спросила я себя и пожала плечами. Ну, повспоминала бы его неделю-другую и забыла.
Признаться, тогда еще я больше думала о Лапе, о нашем с ней житье-бытье, чем о Родионе. Он казался мне случайной птицей, залетевшей в мой сад. Я еще не приросла к нему душой, хотя с ним бывало так уютно и надежно. Но он постепенно приучал меня к жизни, заставлял чаще, чем раньше, заглядывать в зеркало, вспоминать о том, что я – женщина.
В первый раз не застав меня дома, Володя так перепугался, что принялся названивать в милицию и ближайшую поликлинику. Мысли на него накатили самые страшные: я могла выйти из дому в невменяемом состоянии и замерзнуть где-нибудь на скамейке в пустом сквере. Хорошего же мнения был обо мне мой заботливый зять!
В милиции ему сообщили, что трупов в эту ночь не обнаружено. И тут заскрежетал ключ в замке и появилась я – невредимая, совершенно трезвая, но главное – какая-то деловитая и ожившая. Превращение произошло слишком уж быстро, но Володька недолго пребывал в растерянности.
В отличие от Люси, он полагал, что все к лучшему. Происшествие, конечно, странное, и мое желание взять больную собаку не очень ему нравилось, но могло быть и хуже.
– Так! Значит, одну заднюю лапу ей ампутировали. А если и вторая не заживет? – приставала ко мне Люська.
– Ну тогда. Тогда… – Я растерянно разводила руками.
– Не каркай! – сердито обрывал жену Володя. – Обойдется. Она будет весело скакать на трех лапах, как обещал Айболит.
Жизнерадостный ветеринар как будто стал членом нашей семьи. Вновь и вновь я рассказывала Люське и зятю о нем, о его блистательных диагнозах – если выживет, то будет жить. Мои рассказы обрастали все новыми подробностями и выдумками. Ко мне возвращалось воображение и чувство юмора. Володька-зять считал, что это верный признак полного выздоровления.
У Люси было другое мнение. И мама, как обычно, с ней соглашалась. Их беспокоили мои странности. Не только собака. Однажды Люся застала у меня Иду Генриховну. У сестрицы даже лицо вытянулось, как будто она увидела перед собой живую мумию Шамаханской царицы.
У нас с Идой перед ее приходом была оживленнейшая беседа о прошлом. Моя сестра всегда жила только настоящим и грезила будущим. Поэтому с ее приходом разговор увял. Для приличия обсудили погоду, и через несколько минут Генриховна поспешила уйти.
– Кто это? – изумленно спросила Люся.
Изумление было несколько наигранным. Это меня немного рассердило.
– Всего лишь моя новая подруга. Ида Генриховна, замечательная женщина.
– Экзотическая старушка, – пробормотала сестра.
Услышав в моих словах вызов, она ретировалась и не вступила в дискуссию. Меня это тоже задевало: как не совсем здорового человека они меня явно щадили и опекали. И делали это так неуклюже, что я поминутно ощущала себя ненормальной, с которой ближние обращаются соответственно.
Тут появился Володя. Он по дороге заглянул в магазин. Все еще по привычке заботился о моем пропитании. Володя уже встречался с Генриховной и подолгу с ней беседовал, находя старушку интересной, забавной, но, во всяком случае, не умалишенной.
– Это характер. Даже в семьдесят чувствуется, какой была эта женщина, – с одобрением заметил он. – Кокетлива, экстравагантна, непредсказуема.
– Но при этом доброе сердце, редчайшая преданность и надежность, – добавила я.
Ида лет сорок проработала в цирке. Сначала в разных номерах: ассистировала дрессировщикам, фокусникам и жонглерам. Когда постарела, перешла в администраторы. Но и выйдя на пенсию, без дела не сидела. Кроме кружка в Доме культуры, у нее вечно какая-то общественная работа.
– Подумать только! Лет десять назад родственники умоляли ее уехать в Германию. Там она получала бы хорошую пенсию, жила бы спокойно и обеспеченно рядом с близкими. Но она отказалась наотрез, потому что не смогла бросить свою собаку и кошку!
Историю жизни Иды я уже рассказывала, и не раз – Родиону, Лене, Володьке, теперь сестре, и сама не переставала удивляться поступкам этой своеобразной женщины.
– Ты как будто восхищаешься тем, что твоя Ида из-за собаки изуродовала свою старость, – заметила здравомыслящая сестрица. – А для меня это неоспоримое доказательство, что она чокнутая.
И Люся, положив себе на тарелку целую гору салата, уселась на любимого конька. Она часто сетовала на низкий культурный уровень и нецивилизованность нашего совкового бытия, который проявлялся и в отсутствии профилактики душевных заболеваний. У нас каждый второй с поврежденной душой.
– В том числе и политики, общественные деятели, люди, которые управляют сотнями, тысячами чужих жизней, – возмущалась Люся.
– Среди политиков особенно много психопатов и поврежденных, – заметил Володя, наливая нам чай.
– В цивилизованных странах у каждого свой домашний врач и личный психолог, снимающий чрезмерные напряжения и стрессы, – с удовольствием рассказывала нам Люся. Она обожала описывать цивилизованный рай во всех проявлениях, от экономики до быта, и с отвращением сравнивать его с нашей совковой помойкой.
– Почему же и там полно психов, на твоем процветающем Западе? – с невинным видом поинтересовался Володя. – Что ни день – то сообщение о страшных убийствах, вредных чудачествах. И целая армия психологов бессильна…
Сестрица несколько замешкалась с ответом. Я воспользовалась паузой, чтобы подать голос. Раньше сестра меня безнаказанно шпыняла, и я не смела возражать. Но теперь мы с Володькой составляли мощную оппозицию и, случалось, одерживали победу над деспотом.
– Тебе, как и многим обывателям, Ида кажется ненормальной. Не спорь, это так. Но объясни, по каким критериям вы делите людей на нормальных и ненормальных?
В моем голосе поневоле прорывалось возмущение – терпеть не могу снобов, особенно если для чувства превосходства над другими нет никаких оснований.
– Да, какие критерии, голубушка? – поддержал меня Володька.
Он тоже терпеть не мог Люськино высокомерие и всегда выступал против деления человечества на орлов и мошек, героев и неудачников. Для Люси это деление было очевидным. Она пила чай и посмеивалась над нами.
– Какие критерии? Одного взгляда достаточно, чтобы понять: у твоей бабульки Шапокляк давно поехала крыша. И почему это тебя так задевает? Дружи с кем хочешь, – снисходительно позволила мне сестра.
Прихватив свою чашку, она удалилась к телевизору, в знак того, что ее утомила эта бессмысленная дискуссия. К тому же Люся никогда не пропускала новостей.
– Интересно, какой будешь ты в семьдесят пять лет? – крикнула я ей вдогонку. – Уверена, сытые, слишком нормальные обыватели станут подхихикивать над смешной нелепой старушенцией.
Люська вернулась, чтобы поставить меня на место:
– Я буду благообразной, деловитой, чистенькой старушкой с ясным умом. Если доживу, конечно.
Какая самоуверенность! Мы с Володей переглянулись, как два заговорщика, и он тихо сказал:
– Интересно, как бы она определила Родиона? Нормальный он или не очень?
Володя как-то застал у меня нового знакомого, и я их познакомила. После этого зять почему-то совершенно успокоился за мое будущее. Родион ему понравился: надежный, спокойный и мудрый. По-видимому, много переживший. Да еще доктор.
Меня насмешило, что зять сразу же увидел в нас пару. Причем очень гармоничную. «Это то, что тебе нужно», – сразу же заявил он. А я даже не видела в Родионе поклонника. Так, прибился случайный человек. Наверное, очень одинокий, стосковавшийся по общению, одуревший от своих унылых клиентов, разучившихся говорить о чем-либо, кроме болячек.
– Боюсь, что она и Родиона сочтет типом подозрительным, – тоже вполголоса отвечала я Володьке. – Во-первых, потому, что он мой приятель. Во-вторых, нормальный здравомыслящий мужик не остановил бы машину и не согласился отвезти к ветеринару раненую дворовую собачонку.
Вернулась Люся с пустой чашкой. Озабоченная, брови сдвинуты. Новости преподнесли ей что-то неприятное, не соответствующее ее представлениям о правильном ходе вещей. Но и про нас она не забыла:
– Сплетничаете за моей спиной, перемываете мне кости? Интриганы несчастные! Кстати, кто такой Родион? Я ясно слышала это имя. Еще один новый друг? Боже упаси! Наверное, бомж или неприкаянный сосед, пьющий, трижды разведенный, с утра выклянчивающий десятку на опохмелку.
– Все узнаешь в свое время, – с таинственным видом пообещал Володя. – Тебя ожидает приятный сюрприз.
Давно в разгаре весна, апрель. За это время Родион дважды возил меня в консерваторию, и каждую неделю мы бывали с ним на выставках. Я перестала бояться выходов в свет, на люди. Пустые музейные залы действовали на меня благотворно, успокаивали и понемногу приучали к жизни.
На этот раз на Крымском не было особо выдающейся выставки, просто экспонировались молодые художники. Мы обошли несколько залов. Устали ноги, а глаза выхватили из хаоса и пестроты только два-три полотна. Мы сели отдохнуть на желтый плюшевый диван, и я с легким разочарованием произнесла:
– Знаете, что меня больше всего угнетает? Обилие перепевов чужого. Пускай будет маленький, слабый, но свой голос.
– Так было всегда. Представьте себе, что все эти художники, почти две дюжины, вдруг заговорили своими, звучными, неподражаемыми голосами – да мы бы оглохли!
Родион, в отличие от меня, никогда не разочаровывался, но и не восхищался. Он все воспринимал спокойно, как должное. Иногда защищал от моих нападок какого-нибудь живописца, впавшего в модернистский маразм: каждый самовыражается как может. Слегка посмеивался над моими традиционными вкусами. Я любила Маковского, Родион его, кажется, не любил. Когда ему что-то нравилось, у него теплели глаза. Это я давно заметила.
– Вот пожалуйста, полюбуйтесь!
Прямо напротив нашего дивана висела картина, почти точно повторявшая знаменитый «Черный квадрат». И вдруг на меня ни с того ни с сего нахлынули воспоминания. Давным-давно, семь-восемь лет назад, мы с Игорем были в этих же залах на выставке Малевича. Стояли, обнявшись, возле «Черного квадрата», и я озадаченно просила:
– Иноземцев, объясни мне, пожалуйста, смысл этого шедевра. Я люблю Малевича-импрессиониста. Я люблю его безликих крестьян. Не могу без слез умиления видеть «Марфу и Ваньку». Но квадрата не понимаю.
Игорь смеялся – а кто его понимает? Это всего лишь символ мыслительной абстракции.
– Абстрактное мышление, которое в упор не видит реальности, на этом полотне празднует громкую победу над бедной языческой чувственностью, – торжественно провозгласил он. – Малевич словно воплотил в своем квадрате все многообразие интеллектуальных комбинаций и логических экспериментов, акций и новаций. Но при этом убил все живое – краски, запахи, эмоции.
– Это точно, убил! – согласилась я.
Я улыбнулась воспоминанию. Оно не принесло с собой боли, как это было раньше. Слегка пощипала за сердце тоска, но легкая, сладкая. Тоска о моей молодости, в которой было немало счастливых дней.
В этот день я поняла, что моя первая большая любовь перестала мучить меня. Образ Игоря потускнел и уплыл далеко в прошлое, в сиреневый туман воспоминаний. Все дурное, тяжелое забылось. Хорошее осталось. В сущности, мой первый муж очень много дал мне. Научил читать умные, серьезные книги, думать, высказывать свои мысли.
Тогда я не понимала, почему вдруг прошлое раз и навсегда покинуло меня. Потому что появилось настоящее. Мы сидели с Родионом на скамейке в скверике возле выставочного зала и разговаривали. Он был рядом со мной каждый день. Когда мы прощались, наступала неприятная пустота.
Я прожила одна несколько лет и уже привыкла к одиночеству. Ведь бытовое сожительство с Толяном тоже было одиночеством. В этот день я впервые осознала, что отныне не одна. Как-то незаметно рухнула последняя стенка между нами. Теперь я могла говорить с Родионом обо всем – о потерянном ребенке, о своем первом несчастливом замужестве, о нелепом браке с Карасевым. Я даже рассказала, нимало не смущаясь, зачем выбежала из дому в тот вечер, когда мы с ним столкнулись на дороге.
– А я впервые в жизни очутился в этом районе, на этой самой дороге, – вспоминал Родион, и в глазах его при этом мелькнуло удивление. – Старый институтский приятель уже несколько лет уговаривал заехать, посидеть, вспомнить молодость. Я отнекивался, откладывал встречу. Наконец он просто обиделся. А я скрепя сердце собрался и поехал…
– А почему вы все-таки остановились? – Мне этот вопрос давно не давал покоя. – Представляю, стоит на дороге растрепанная женщина, явно не в себе, проклинает кого-то, размахивает кулаком. Никто ведь не останавливался, кроме вас.
Мы с ним по-прежнему были на «вы» и почему-то не испытывали потребности поторопиться и перебежать на «ты». Хотя душевная близость и притяжение росли с каждым днем. Наше «вы» было не пустым, а каким-то теплым, интимным и глубоким.
– Я не мог не остановиться, – объяснил он тихо, чуть наклонившись к моему уху. – У вас даже в темноте горели глаза, Лариса. Как вы там кричали: «Негодяи, когда-нибудь и вы будете лежать на обочине и напрасно ждать помощи…» Эти слова меня едва не убили. В глазах потемнело. И как назло, лекарства оставил дома…
– Психопатка несчастная! Неужели я что-то подобное вопила? Ничего не помню. Но почему вас так больно ударили эти слова?
Я знала, что Родион вдовец. О смерти жены он не рассказывал, а я не спрашивала. По себе знала, что с такими вопросами лучше не соваться, душу не бередить. А тут он вдруг помолчал немного, собрался с силами и рассказал. Пять лет назад, когда он был на дежурстве в больнице, его жена, брат и невестка возвращались на машине с дачи… Вернувшись вечером, он надеялся застать их дома, но не застал.
Шофер задремал за рулем, и его тяжелый «КамАЗ» наехал на «Жигули», подмял под себя, расплющил, как божью коровку. Когда приехала «скорая», три тела лежали рядышком на обочине, накрытые брезентом, а рядом сидел и плакал водитель грузовика, молодой парень.
Услышав это, я даже застонала от ужаса. Как будто это меня накрыли с головой тем самым брезентом, тяжелым, душным, дышать нечем. Какая же я дура! Действительно, словом можно убить.
Вернувшись, я долго сидела на кухне, не снимая плаща. Смотрела в окно, думала. Лапа, устроившись у моих ног, выжидала чего-то, ловила мой взгляд. Я еще не научилась ее понимать. Очень странная собака. Говорю ей:
– Лапа, идем гулять.
У нее в глазах ужас. Убегает и прячется. Приходилось брать ее на руки и выносить во двор. Бедняга панически боялась улицы, боялась, что я ее оставлю. У нее снова появился дом, и она не хотела его потерять. Сколько я ее ни уговаривала, она упорно не верила в прочность своего нынешнего бытия. И правильно делала. Откуда нам знать, что может случиться завтра?
– Это ощущение бессмысленности и непредсказуемости жизни меня тоже сводило с ума, – говорю я Лапе. – Я чуть не рехнулась. Но теперь, кажется, у меня под ногами не зыбучие пески, а твердая земля. И у тебя все наладится. Привыкнешь, успокоишься, перестанешь бояться улицы.
Игорь когда-то говорил мне вместо признания в любви: любовь – страсть, любовь – влечение – все это вздор, который быстро проходит. Истинная любовь – это когда встречаются двое нужных друг другу людей и узнают друг друга. Ведь могут и не узнать, сплошь и рядом такое бывает, вот что страшно.
Свои мысли вслух я высказала Лапе. Теперь у меня появилось домашнее существо, готовое слушать меня с утра до вечера. А я могла отныне не опасаться за свой рассудок и беседовать не с собой, а со своей собакой.
– Он-то мне нужен, очень нужен, в этом уже нет сомнений, – бормотала я, завязывая морские узлы на шарфике. – Но вот нужна ли я ему? Очень сомневаюсь. Ведь я обуза, камень на шее. Кому угодно могу искалечить жизнь. А Родю мне жалко.
Выпуклые Лапины глаза увлажнились от избытка чувств – преданности и любви. Для Лапы я была центром ее крохотного мироздания, не предпоследней, а последней надеждой. Какая тяжкая и ответственная миссия. И пожалуй, единственный для меня смысл жизни – стать центром вселенной для кого-то нужного, родного, мне предназначенного.
Аська звонила чуть ли не каждый день, все выспрашивала – выведывала, как дела, не устроилась ли я на работу. Интуиция у нее мощная. Кажется, она что-то заподозрила и не успокоится, пока не выведет меня на чистую воду.
– Ничего нового, – отвечала я бесцветным голосом. – Хожу гулять с Лапой, читаю. Пообщаться? Нет, не хочу. Как-нибудь в другой раз. Пока.
Аська немного успокоилась и даже повеселела, убедившись, что у меня все по-прежнему плохо. По ее мнению, если одинокая женщина заводит кота или собаку, на ней можно поставить крест. Главный Аськин недостаток с годами усугублялся. Она уже не жила, а ревниво и беспокойно наблюдала, как живут другие. Что они покупают, куда ездят? Эти наблюдения доставляли ей все больше мук.
– Откуда, откуда у них такие деньги? – возмущенно вопрошала она, когда ее одноклассник купил трехкомнатную квартиру на Соколе. – Ты знаешь, сколько стоит такая квартира?! А одна моя приятельница, зачуханная в прошлом баба, теперь отдыхает на Канарах…
Когда-то она очень уважала моего Карасева, даже допуская, что он зарабатывает или добывает средства не совсем праведными и законными путями. Мужик должен приносить в дом деньги – таково было ее убеждение. Подруга не скрывала, что считает меня везунком. Мне совершенно сказочно, немыслимо, незаслуженно повезло с мужьями. Но я так и не сумела извлечь из этих браков максимум выгоды, легкомысленно упустив и Иноземцева, и Толика.
У меня было достаточно времени убедиться, что девяносто процентов женщин завистливы. Но Аська завидовала всякой ерунде, например ей не давали покоя мои шубы. Она уговаривала меня продать одну, подешевле и в рассрочку. Подразумевалось, что жизнь моя все равно кончена, а с Лапой гулять можно и в китайском пуховичке.
Завистливая подруга всегда норовит вонзить тебе булавку в самое больное место. Один ребенок у Аськи уже был, а теперь она ждала второго. Если я по глупости снимала телефонную трубку, она душила меня рассказами о своем счастливом материнстве.
Я-то знала, что дети для нее обуза. Своего малыша она постоянно сплавляла матери, а от второго хотела избавиться, но муж не позволил. Ангел Артурчик взбунтовался и пригрозил разводом, если она посмеет убить ребеночка. И Аська испугалась.
– Черт бы побрал таких подруг! – со слезами на глазах жаловалась я Лапе после очередного разговора с Аськой. – Неужели она не понимает, что это бестактно, безжалостно – говорить со мной об этом. Да нет, конечно, она понимает и умышленно сыплет соль на раны.
Мне было жаль не столько себя, сколько бедного папу. Мы с Люсей очень виноваты перед ним. Папа так мечтал о внуках и умер, не дождавшись их. Аська надолго выбивала меня из колеи, в которую я с таким трудом въехала. Я плакала и давала себе слово порвать с ней навсегда.
Но в тот чудный апрельский денек я вдруг поняла – довольно. Я стала нечувствительна к изощренным Аськиным пыткам. Уделила ей ровно пять минут и положила трубку. Мне некогда. Через час приедет Родион, а я еще не все подготовила для приема гостя. На плите у меня кипел грибной суп: Родя вегетарианец.
– Лапа, вспоминай, что-то я давно загадала сделать и все забываю! – приказала я своей рыжей, озадаченно застыв на середине комнаты.
Она заметалась у моих ног, залаяла, по-своему демонстрируя готовность жизнь за меня положить. И тут меня осенило. Я выдвинула из-под стола картонные коробки, так и не распакованные после переезда. Развязала веревки, выложила прямо на пол стопки книг и альбомов. И вскоре держала в руках то, что искала. Каталог галереи Уффици. Давно я не видела Лукрецию.
На этот раз сердце не заныло от недобрых воспоминаний и тоски. Я с удовольствием полюбовалась знатной дамой только как произведением искусства. При чем тут моя юность, первая любовь, несбывшиеся надежды на счастье?
Я оставила каталог открытым на столе и побежала на кухню проведать суп. Потом быстро переоделась. Заглянула в зеркало и решила не краситься. Никаких ухищрений! И тут раздался звонок, я бросилась к двери. Откуда что взялось? Еще три месяца назад я была бесчувственным, опустившимся созданием. Почти поставила на себе крест. И вдруг! Это ликование в душе при мысли, что сейчас его увижу.
Открывая дверь, я пыталась надеть маску сдержанной благопристойности, но ничего не вышло. А ведь раньше я отлично умела притворяться. На этот раз моя глупая, радостная физиономия меня выдала. Глаза так и светились. А Лапа от счастья едва не выпрыгнула из своей рыжей шкурки. Она, как самый чуткий барометр, определяла мое настроение.
– А я суп сварила! – выпалила я с порога, едва успев поздороваться.
– Я догадался об этом еще на лестничной площадке. Чудный запах, – ответил он глуховатым, негромким голосом.
Этот голос уже стал сниться мне по ночам. И короткий внимательный взгляд, который он бросал на меня при встрече. Словно хотел еще раз убедиться, что я все-таки существую в действительности, что я не приснилась ему.
– Может быть, не буду раздеваться? Давайте посидим где-нибудь в уютном ресторанчике, – неуверенно предложил он.
– А как же мой супчик, грибной? – обиженно вскричала я. – Нет-нет, только дома, не люблю я ресторанов, где вокруг сплошь чужие жующие физиономии…
Карасев обожал проводить вечера в ресторанах. Они стали неотъемлемой частью той жизни, в которую он окунулся с головой. А у меня с детства осталась привязанность к домашним, интимным застольям. Как часто мы ругались с ним, когда он тащил меня на публику, а я упиралась. С тех пор дала слово, что до конца жизни не переступлю порог ни одного ресторана.
Я принялась накрывать на стол, а Родиона отправила в комнату, чтобы не путался под ногами. Он ушел и затих там. Телевизор не включил. Он не признавал телевидения, даже новости узнавал из газет.
А я достала из шкафа новую скатерть, Люськин подарок. Первым делом поставила на стол вазу с цветами. В этот раз Родион принес подснежники. Подумать только – еще сегодня они росли в лесу! Я вспомнила целые поляны голубоватых подснежников у нас под Касимовом и загрустила. Бабушка умерла, дом продали, и Касимов для меня утрачен навсегда. Люся с Володей купили небольшую дачку под Звенигородом, куда я уже не раз наведывалась. Конечно, замечательно – река, лес. Но все же не то. Почему-то не то, что настоящая деревня.
Я уже расставила тарелки и раздумывала, не перелить ли суп в изящную, больше похожую на вазу супницу из сервиза, когда вошел Родион. Молча протянул мне каталог с видом человека, потрясенного каким-то неожиданным открытием. А я с досадой покачала головой:
– Как жаль! Я ведь хотела преподнести вам сюрприз. Но в суете забыла спрятать альбом…
– Я не виноват. Он лежал на столе… – оправдывался Родион.
– Знаете, есть такая игра «в ассоциации». Я ее когда-то в молодости очень любила. Мы собирались в маленькой общежитской комнатке и загадывали, как карту, кого-нибудь из знакомых. А тот, кому выпало водить, должен был этого человека отгадать. Для этого он задавал вопросы – на какую реку, какую погоду, растение, книгу похож этот человек? Ему отвечали – на тихую, многоводную речку в средней полосе России, на ясную золотую осень, на березу.
Родион кивал. Он все понял. Когда недели две назад он спросил, не могли ли мы случайно столкнуться в Италии, у меня забрезжила отдаленная догадка. А затем, когда он сказал, что мой облик ассоциируется у него с ярким солнечным днем, не нашим русским, а южным, жгучим, я почти перестала сомневаться.
– Я запомнил это лицо. И, глядя на портрет, почему-то вспомнил крестьянок Аргунова и Веницианова. Может быть, знатоки живописи снисходительно посмеются над моим дурным вкусом, но я представил эту даму в сарафане и кокошнике.
– И пускай их смеются. Но я тоже легко представляю ее в сарафане. Такой и была какая-нибудь Марфа Ивановна, жена родовитого боярина, – согласилась я.
Весь вечер мы вспоминали Италию и говорили о живописи. В детстве Родион учился в художественной школе, мечтал поступить в Суриковское. Но родители считали это поприще слишком зыбким и заставили его стать врачом. Он не жалел об этом. В лучшем случае он стал бы иллюстратором средней руки и терзался бы своей бездарностью.
Я слушала его и не верила. Просто Родион был слишком требовательным к себе. Но и представить его художником не могла – настолько он был лишен тщеславия, самоуверенности и какой-то чудинки – необходимой черты характера настоящего художника.
Впрочем, не настолько хорошо я знала этого человека, чтобы с уверенностью о нем судить. Родион оставался для меня загадкой. И в тот вечер он меня снова удивил, озадачил и смутил. Уже надев плащ и стоя на пороге, вдруг предложил:








