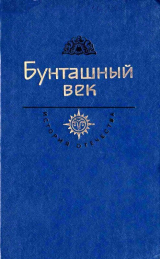
Текст книги "Бунташный век. Век XVII (Век XVII)"
Автор книги: Василий Шукшин
Соавторы: Григорий Котошихин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 37 страниц)
Что же касается самого Степана Разина, то его величие вовсе не в том, что он в своих воззрениях якобы вышел далеко за рамки традиционных крестьянских и казацких представлений, намного опередив время. В таком случае он просто оказался бы непонятым народом. Его величие в том, что, проникнувшись чаяниями и настроениями масс, он даже в тех условиях сумел своими действиями всколыхнуть их, возглавить и добиться грандиозных военных успехов.
Была ли борьба крестьян абсолютно бесперспективной? Могли ли они победить? И если да, то к чему бы это привело? Конечно, вопрос «что было бы, если бы…» неправомерен, потому что история имеет дело с тем, что было, а не с тем, что могло бы быть. Но в такой постановке вопроса нет и необходимости. Ведь истории известны случаи победного исхода крестьянских войн, известно также, чем это кончалось: феодальным перерождением руководителей движения, становившихся новыми феодалами. Да и в ходе самих крестьянских войн в России иногда обнаруживаются тенденции такого перерождения. Все дело в том, что крестьяне в лучшем случае представляли, против чего они борются, позитивный же идеал у них практически отсутствовал, они не могли в своих воззрениях выйти за рамки существующего строя, противопоставить ему другой. Поэтому победа крестьянской войны могла привести к значительному ослаблению феодальной эксплуатации, но потом все возвращалось «на круги своя».
Так в чем же тогда смысл крестьянских войн? В чем их историческое значение?
На этот вопрос отвечает в романе В. Шукшина скованный цепями Степан Разин: «Я дал волю… Берите!» И трезво мыслящий его бывший друг никак не может его понять.
А дело в том, что крестьянские войны совершали переворот в сознании людей. Они давали возможность почувствовать вкус другой, вольной жизни и тем самым способствовали вызреванию в крестьянской психологии черт антифеодального характера, стимулировали и активизировали энергию классового сопротивления народных масс. Воспоминания о них и об их руководителях многим поколениям крестьян давали заветную надежду на свободу и силы для сопротивления. В этом их главный результат, их значение.
Классовая борьба, достигавшая своего апогея в ходе крестьянских войн, вынуждала господствующий класс совершенствовать методы своего господства, проводить преобразования государственного строя, то есть вводить в действие еще остававшиеся ресурсы феодальной системы, а значит, быстрее их исчерпывать и приближать ее конец. Так классовая борьба вообще и крестьянские войны в частности ускоряли ход исторического процесса.
Огромные внешнеполитические задачи, стоявшие перед Россией, необходимость создания современной армии, а значит, и промышленности, засилье иностранного купеческого капитала в русской внешней торговле и на внутреннем рынке, грозившее России потерей экономической независимости, обострение социальных противоречий, сила народного гнева, потрясшего страну, – все это заставляло господствующий класс серьезно задуматься над положением в государстве, искать пути к его усилению и укреплению своего классового господства. Появляется все больше людей, осознававших необходимость проведения преобразований и использования для преодоления отсталости страны достижений далеко ушедших вперед передовых европейских стран. Шел не всегда гладкий, часто весьма болезненный процесс преодоления веками внедрявшегося церковью в сознание людей представления о национальной исключительности, национального высокомерия и ограниченности.
«Все собрались в дорогу» – так охарактеризовал состояние русского общества накануне петровских преобразований С. М. Соловьев.
В самом начале этих «сборов в дорогу» застает Россию сочинение Г. Котошихина.
Григорий Карпович Котошихин был подьячим Посольского приказа, выполнял различные дипломатические поручения, бывал в посольствах при переговорах с иностранными державами, а в 1661 году ездил в Стокгольм гонцом с письмом царя на имя шведского короля. В 1664 году он бежал в Польшу, с которой Россия в то время находилась в состоянии войны. Но еще раньше, в 1663 году, он установил отношения со шведским дипломатом, жившим в Москве, и снабжал его, за определенную плату, конечно, секретными сведениями, знакомил его с секретной дипломатической перепиской, то есть стал тайным шведским агентом. Боязнь разоблачения, вероятно, и заставила его бежать за границу. Нет никаких оснований как-то облагораживать его поступок, выискивать какие-то идейные соображения, руководившие им, как это делали некоторые историки, относившие Г. Котошихина к числу людей, которых «тошнило» от современной им московской действительности, и этим отчасти объяснявшие причину его бегства из России.
Сам Котошихин объяснял свой побег за границу нежеланием писать по принуждению князя Ю. А. Долгорукого донос на Я. К. Черкасского, к войскам которого он был прикомандирован для ведения канцелярских дел.
В Польше Г. Котошихин пытался предложить свои услуги польскому правительству. Когда из этого ничего не вышло, он перебрался в Пруссию, затем в Любек и, наконец, в начале 1666 года оказался в Швеции, где был определен на службу чиновником государственного архива. Но служба его продолжалась недолго. В августе 1667 года он совершил преступление – непреднамеренно, в пьяной драке убил своего квартирного хозяина, приревновавшего его к своей жене, и в ноябре того же года по приговору суда был казнен. Известно, что его скелет долгое время служил учебным пособием в Упсальском университете.
В Швеции Г. Котошихин и написал по заказу шведского правительства свое сочинение о России, подлинную рукопись которого в 1838 году обнаружил в библиотеке Упсальского университета историк С. В. Соловьев. В 1840 году оно впервые было издано в России, а затем трижды переиздавалось – в 1859, 1884 и 1906 годах. Годы, когда сочинение Котошихина увидело свет, были временем острой идейной борьбы в русском обществе. Славянофилы и западники, революционеры-демократы и представители лагеря защитников крепостничества и самодержавия пытались обосновать свое видение будущего России, свое понимание ее прошлого. Интересы политической борьбы порождали и отношение к сочинению Котошихина: одни отказывались доверять его сведениям, другие охотно пользовались ими.
Откликнулся на это издание и В. Г. Белинский. На страницах журнала «Отечественные записки» он приветствовал выход в свет этого сочинения, дал ему высокую оценку и широко использовал материал, содержавшийся в нем, для доказательства необходимости и благотворности для России петровских реформ. Относительно достоверности и ценности сообщаемых Г. Котошихиным сведений можно привести отзыв известного русского историка П. М. Строева. «Чтение сочинения Котошихина, – писал он, – доставило мне несказанное наслаждение. Будучи коротко знаком с этим периодом по оставшимся делам тогдашних приказов, особенно Посольского, могу сказать, не обинуясь, что эта книга сколько любопытна, столько же и верна, и даже очень верна… Котошихин был человек, как видно, умный и при том добросовестный писатель; лжи умышленной я не заметил нигде…» Другой историк, А. И. Маркевич, автор единственного специального исследования о Г. Котошихине и его сочинении, в результате внимательной проверки его сведений другими источниками пришел к следующему выводу: «Правдивостью дышит его повествование о России; относится он к ней отрицательно, охотно отмечает недостатки ее государственного и общественного строя, но делает это спокойно, без озлобления, просто… и никогда не опускается до клеветы; Котошихин легко мог ошибиться, но не солгать».
И все же сочинение Г. Котошихина не свободно от тенденциозности. Выполняя заказ, он должен был подстраиваться под общий враждебный тон тогдашних правителей Швеции по отношению к России.
Стремясь удивить иностранного читателя необычным, он описывает преимущественно негативные стороны государственного и частного быта, сосредоточивает внимание на отживавших свой век и уходивших в прошлое обычаях и обрядах, как бы не замечая того нового, что появлялось в это время. Он подробно описывает архаичный обычай местничества, доживавший последние годы. С сарказмом Г. Котошихин рисует боярскую думу, на заседании которой бояре сидят, «брады свои уставя», на вопросы царя по своему невежеству не в состоянии ответить, дельного совета дать не могут, «потому что царь жалует многих в бояре не по разуму их, но по великой породе», при этом «забывая», что отнюдь не эти высокородные и спесивые невежды определяли лицо высшего государственного органа, что и в думе, и в окружении царя было много действительно талантливых и образованных государственных деятелей, осознававших необходимость преобразований и стремившихся их проводить. Говоря о невежестве русских, он как бы «забывает», что именно в эти годы в Москве появляются первые школы, в которых преподавались греческий язык и латынь, что знание иностранных языков, и прежде всего польского, становится распространенным явлением в кругах знати. Описывая мельчайшие подробности архаичных патриархальных обычаев придворной жизни со всеми их нелепостями, он «забывает», например, упомянуть о том, что в это время уже предпринимались попытки создания придворного театра, который начнет действовать уже через пять лет.
Г. Котошихин не выдумывает, он пишет правду, но… не всю правду. И это обстоятельство должен иметь в виду современный читатель его сочинения.
Следует также отметить, что Г. Котошихин, зная глубоко свое время, не являлся, однако, историком. Поэтому все его экскурсы в прошлое (весьма немногочисленные) требуют проверки и уточнений.
Г. Котошихин писал не литературное произведение, не памфлет, а деловую записку, предназначенную для практического использования. Его заказчики заинтересованы были в получении не только подробных, но и объективных сведений о России. Он прекрасно знал московские порядки того времени, хорошо разбирался в русской действительности, и это выгодно отличает его сочинение от многочисленных сочинений о России иностранных авторов, которые просто многого не понимали в том, о чем писали. А поскольку его сочинение предназначалось иностранному читателю, почти не знавшему России, то он должен был обращать внимание на такие детали русской жизни, которые были для русского человека совершенно обычными и потому оказывались обойденными в сочинениях русских авторов.
Сочинение Г. Котошихина энциклопедично по своему содержанию. В нем читатель найдет сведения о самых разнообразных сторонах жизни русского общества XVII века – от придворного быта до сословной структуры, политического устройства и состояния экономики страны. Не все эти стороны получили одинаковое освещение. Особенно подробно Г. Котошихин пишет о том, что хорошо знает: дает яркую картину придворного быта и жизни верхов московского общества, нравов этой среды, дает единственное в своем роде подробное и систематическое описание системы центральных органов управления Русского государства и их функционирования, системы местных органов власти, детально описывает хорошо знакомые ему порядки и обычаи в сфере дипломатических отношений, порядки в области суда и т. д. Вероятно, его заказчиков очень интересовали вопросы о состоянии вооруженных сил России, ее торговли, но эти стороны дела Г. Котошихин представлял хуже, а выдумывать ничего не хотел, и потому эти разделы его сочинения менее подробны, чем другие.
Прямой, непосредственной связи сочинения Г. Котошихина с романом В. Шукшина нет, оно было написано за несколько лет до восстания Степана Разина. Тем не менее внутренняя связь есть. Ведь оно дает читателю возможность представить тот общий фон, на котором происходят события, описанные в романе В. Шукшина. В этом сочинении перед нами предстает та сила, которая противостояла народным массам во время Крестьянской войны – феодальное государство; здесь мы видим тот сонм толпящихся у казенной кормушки бояр, дворян, приказных людей, «побивать» которых призывал Степан Разин. Этим и оправдано соседство сочинения Г. Котошихина с романом о Степане Разине.
В данной книге это сочинение печатается с четвертого издания (1906 г.) с некоторыми сокращениями, но по современным правилам издания текстов XVI–XVII веков: отсутствующие в современном алфавите знаки заменяются соответствующими им современными буквами (i – и, ѳ – ф, ѣ – е), конечное ъ отбрасывается; внесены коррективы в расстановку знаков препинания. Написание слов дается в строгом соответствии с оригиналом. Сочинение написано языком деловой письменности, близким к разговорному языку того времени и вполне доступным современному читателю. Это делает ненужным его перевод на современный язык. Такой перевод привел бы к некоторому искажению текста и лишил бы читателя возможности услышать живой голос человека семнадцатого века и ощутить «аромат эпохи».
В романе В. Шукшина и сочинении Г. Котошихина, вошедших в этот том, жизнь Русского государства, исторические события второй половины семнадцатого века рассматриваются с различных точек зрения, в них поднимаются разные пласты жизни русского общества, и это помогает создать достаточно цельное представление о той России, которую принято называть старой, средневековой, допетровской. Но уже последние десятилетия семнадцатого века отмечены нарастанием новых явлений в различных сферах жизни, создаются не только материальные и политические предпосылки грандиозных преобразований начала следующего столетия, но и разрабатываются проекты их, намечаются и отчасти разведываются пути их осуществления. Россия на пороге другой эпохи – эпохи петровских реформ.
В. С. ШУЛЬГИН,
лауреат Государственной премии СССР


Василий Шукшин
Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ
Роман

ЧАСТЬ I
ВОЛЬНЫЕ КАЗАКИ
 аждыи год, в первую неделю великого поста, православная церковь на разные голоса кляла:
аждыи год, в первую неделю великого поста, православная церковь на разные голоса кляла:
«Вор и изменник, и крестопреступник, и душегубец Стенька Разин забыл святую соборную церковь и православную христианскую веру, великому государю изменил, и многия пакости и кровопролития и убийства во граде Астрахане и в иных низовых градех учинил, и всех купно православных, которые к ево коварству не пристали, побил, потом и сам вскоре исчезе, и со единомышленники своими да будет проклят! Яко и прокляты новые еретики: архимандрит Кассиан, Ивашка Максимов, Некрас Рукавов, Волк Курицын, Митя Коноглев, Гришка Отрепьев, изменник и вор Тимошка Акиндинов, бывший протопоп Аввакум…»
Тяжко бухали по морозцу стылые колокола. Вздрагивала, качалась тишина; пугались воробьи на дорогах. Над полями белыми, над сугробами плыли торжественные скорбные звуки, ниспосланные людям людьми же. Голоса в храмах божьих рассказывали притихшим – нечто ужасное, дерзкое:
«…Страх господа бога вседержителя презревший, и час смертный и день забывший, и воздаяние будущее злотворцем во ничто же вменивший, церковь святую возмутивший и обругавший, и к великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичу, всея Великая и Малыя и Белыя Россия самодержцу, крестное целование и клятву преступивший, иго работы отвергший…»
Над холмами терпеливыми, над жильем гудела литая медная музыка, столь же прекрасная, тревожная, сколь и привычная. И слушали русские люди, и крестились. Но иди пойми душу – что там: беда и ужас или потаенная гордость и боль за «презревшего час смертный»? Молчали.
«…Народ христиано-российский возмутивший, и многие невежи обольстивший, и лестно рать воздвигший, отцы на сыны, и сыны на отцы, браты на браты возмутивший, души купно с телесы бесчисленного множества христианского народа погубивший, и премногому невинному кровопролитию вине бывший, и на все государство Московское, зломышленник, враг и крестопреступник, разбойник, душегубец, человекоубиец, кровопиец, новый вор и изменник донской казак Стенька Разин, с наставники и зломышленники такового зла, с перво своими советники, его волею к злодейству его приставшими, лукавое начинание его ведущими пособники, яко Дафан и Авирон, да будут прокляты. Анафема!»
Такую-то – величально-смертную – грянули державные голоса с подголосками атаману Разину, живому еще, еще до того, как московский топор изрубил его на площади, принародно.
1
Золотыми днями, в августе 1669 года, Степан Разин привел свою ватагу с моря к устью Волги и стал у острова Четырех Бугров.
Опасный, затяжной, изнурительный, но на редкость удачливый поход в Персию – позади. Разницы приползли чуть живые; не они первые, не они последние «сбегали на Хволынь», но такими богатыми явились оттуда только они. Там, в Персии, за «зипуны» остались казачьи жизни, и много. И самая, может быть, дорогая – Сереги Кривого, любимого друга Степана, его побратима. Но зато струги донцов ломились от всякого добра, которое молодцы «наторговали» у «косоглазых» саблей, мужеством и вероломством. Казаки опухли от соленой воды, много было хворых. Всех 1200 человек (без пленных). Надо теперь набраться сил – отдохнуть, наесться… И казаки снова было взялись за оружие, но оно не понадобилось. Вчера налетели на учуг митрополита астраханского Иосифа – побрали рыбу соленую, икру, вязигу, хлеб, сколько было… А было – мало. Взяли также лодки, невода, котлы, топоры, багры. Оружие потому не понадобилось, что работные люди с учуга все почти разбежались, а те, что остались, не думали сопротивляться. И атаман не велел никого трогать. Он еще оставил на учуге разную церковную утварь, иконы в дорогих окладах – чтоб в Астрахани наперед знали его доброту и склонность к миру. Надо было как-то пройти домой, на Дон. А перед своим походом в Персию разницы крепко насолили астраханцам. Не столько астраханцам, сколько астраханским воеводам.
Два пути домой: Волгой через Астрахань и через Терки рекой Кумой. Там и там – государевы стрельцы, коим, может быть, уже велено переловить казаков, поотнять у них добро и разоружить. А после – припугнуть и распустить по домам, и не такой оравой сразу. Как быть? И добро отдавать жалко, и разоружаться… Да и почему отдавать-то?! Все добыто кровью, лишениями вон какими… И – все отдать?
2
…Круг шумел.
С бочонка, поставленного на попа, огрызался во все стороны крупный казак, голый по пояс.
– Ты что, в гости к куму собрался?! – кричали ему. – Дак и то не кажный кум дармовшинников-то любит, другой угостит, чем ворота запирают.
– Мне воевода не кум, а вот эта штука у меня – не ухват! – гордо отвечал казак с бочонка, показывая саблю. – Сам могу кого хошь угостить.
– Он у нас казак ухватистый: как ухватит бабу за титьки, так кричит: «Чур на одного!» Ох и жадный же!
Кругом засмеялись.
– Кондрат, а Кондрат!.. – Вперед выступил старый сухой казак с большим крючковатым носом. – Ты чего это разоряешься, што воевода тебе не кум? Как это проверить?
– Проверить-то? – оживился Кондрат. – А давай вытянем твой язык: еслив он будет короче твово же носа, – воевода мне кум. Руби мне тада голову. Но я же не дурак, штоб голову свою занапраслину подставлять: я знаю, што язык у тебя три раза с половиной вокруг шеи оборачивается, а нос, еслив его подрубить с одной стороны, только до затылка…
– Будет зубоскалить! – Кондрата спихнул с бочонка казак в есаульской одежде, серьезный, рассудительный.
– Братцы! – начал он; вокруг притихли. – Горло драть – голова не болит. Давай думать, как быть. Две дороги домой: Кумой и Волгой. Обои закрыты. Там и там надо пробиваться силой. Добром нас никакой дурак не пропустит. А раз такое дело, давай решим: где легче? В Астрахани нас давно поджидают. Там теперь, я думаю, две очереди годовальщиков-стрельцов собралось: новые пришли, и старых на нас держут. Тыщ с пять, а то и больше. Нас – тыща с небольшим. Да хворых вон сколь! Это – одно. Терки – там тоже стрельцы…
Степан сидел на камне, несколько в стороне от бочонка. Рядом с ним – кто стоял, кто сидел – есаулы, сотники: Иван Черноярец, Ярославов Михайло, Фрол Минаев, Лазарь Тимофеев и другие. Степан слушал Сукнина безучастно; казалось, мысли его были далеко отсюда. Так казалось – не слушает. Не слушая, он, однако, хорошо все слышал. Неожиданно резко и громко он спросил:
– Как сам-то думаешь, Федор?
– На Терки, батька. Там не сладко, а все легче. Здесь мы все головы покладем без толку, не пройдем. А Терки, даст бог, возьмем, зазимуем… Есть куда приткнуться.
– Тьфу! – взорвался опять сухой жилистый старик Кузьма Хороший, по прозвищу Стырь (руль). – Ты, Федор, вроде и казаком сроду не был! Там не пройдем, здесь не пустют… А где нас шибко-то пускали? Где это нас так прямо со слезами просили: «Идите, казачки, пошарпайте нас!» Подскажи мне такой городишко, я туда без штанов побегу…
– Не путайся, Стырь, – жестко сказал серьезный есаул.
– Ты мне рот не затыкай! – обозлился и Стырь.
– Чего хочешь-то?
– Ничего. А сдается мне, кое-кто тут зря саблюку себе навесил.
– Дак вить это – кому как, Стырь, – ехидно заметил Кондрат, стоявший рядом со стариком. – Доведись до тебя, она те вовсе без надобности: ты своим языком не токмо Астрахань, а и Москву на карачки поставишь. Не обижайся – шибко уж он у тебя длинный. Покажи, а? – Кондрат изобразил на лице серьезное любопытство. – А то болтают, што он у тя не простой, а вроде на ем шерсть…
– Язык – это што! – сказал Стырь и потянул саблю из ножен. – Я лучше тебе вот эту ляльку покажу…
– Хватит! – зыкнул Черноярец, первый есаул. – Кобели. Обои языкастые. Дело говорить, а они тут…
– Но у его все равно длинней, – ввернул напоследок Кондрат и отошел на всякий случай от старика.
– Говори, Федор, – велел Степан. – Говори, чего начал-то.
– К Теркам надо, братцы! Верное дело. Пропадем мы тут. А уж там…
– Добро-то куда там деваем?! – спросили громко.
– Перезимуем, а по весне…
– Не надо! – закричали многие. – Два года дома не были!
– Я уж забыл, как баба пахнет.
Молоком, как…
Стырь отстегнул саблю и бросил ее на землю.
– Сами вы бабы все тут! – сказал зло и горестно.
– К Яику пошли! – раздавались голоса. – Отымем Яик – с ногаями торговлишку заведем! У нас теперь с татарвой раздора нет.
– Домо-ой!! – орало множество. Шумно стало.
– Да как домой-то?! Ка-ак? Верхом на палочке?!
– Мы войско а ли – так себе?! Пробьемся! А не пробьемся – сгинем, невелика жаль. Мы первые, што ль?
– Не взять нам теперь Яика! – надрывался Федор. – Ослабли мы! Дай бог Терки одолеть!.. – Но ему было не перекричать.
– Братцы! – На бочонок, рядом с Федором, взобрался невысокий, кудлатый, широченный в плечах казак. – Пошлем к царю с топором и плахой – казни али милуй. Помилует! Ермака царь Иван миловал же…
– Царь помилует! Догонит да ишо раз помилует!
– А я думаю…
– Пробиваться!! – стояли упорные, вроде Стыря. – Какого тут дьявола думать! Дьяки думные нашлись…
Степан все стегал камышинкой по носку сапога. Поднял голову, когда крикнули о царе. Посмотрел на кудлатого… То ли хотел запомнить, кто первый выскочил «с топором и плахой», какой умник.
– Батька, скажи ради Христа, – повернулся Иван Черноярец к Степану. – А то до вечера галдеть будем.
Степан поднялся, глядя перед собой, пошел в круг. Шел тяжеловатой крепкой походкой. Ноги – чуть враскорячку. Шаг неподатливый. Но, видно, стоек мужик на земле, не сразу сшибешь. Еще в облике атамана – надменность, не пустая надменность, не смешная, а разящая той же тяжелой силой, коей напитана вся его фигура.
Поутихли. Смолкли вовсе.
Степан подошел к бочонку… С бочонка спрыгнули Федор и кудлатый казак.
– Стырь! – позвал Степан. – Иди ко мне. Любо слушать мне твои речи, казак. Иди, хочу послушать.
Стырь подобрал саблю и затараторил сразу, еще не доходя до бочонка:
– Тимофеич! Рассуди сам: допустим, мы бы с твоим отцом, царство ему небесное, стали тада в Воронеже думать да гадать: ийтить нам на Дон али нет? – не видать бы нам Дона как своих ушей. Нет же! Стали, стряхнулись – и пошли. И стали казаками! И казаков породили. А тут я не вижу ни одного казака – бабы! Да то ли мы воевать разучились? То ли мясников-стрельцов испужались? Пошто сперло-то нас? Казаки…
– Хорошо говоришь, – похвалил Степан. Сшиб на бок бочонок, указал старику: – Ну-ка – с него, чтоб слышней было.
Стырь не понял.
– Как это?
– Лезь на бочонок, говори. Но так же складно.
– Неспособно… Зачем свалил-то?
– Спробуй так. Выйдет?
Стырь в неописуемых персидских шароварах, с кривой турецкой сабелькой полез на крутобокий пороховой бочонок. Под смех и выкрики взобрался с грехом пополам, посмотрел на атамана…
– Говори, – велел тот. Непонятно, что он затеял.
– А я и говорю, пошто я не вижу здесь казаков? – сполошные какие-то…
Бочонок крутнулся; Стырь затанцевал на нем, замахал руками.
– Говори! – велел Степан, сам тоже улыбаясь. – Говори, старый!
– Да не могу!.. Он крутится, как эта… как жана виноватая…
– Вприсядку, Стырь! – кричали с круга.
– Не подкачай, ядрена мать! Языком упирайся!..
Стырь не удержался, спрыгнул с бочонка.
– Не можешь? – громко – нарочно громко – спросил Степан.
– Давай я поставлю его на попа…
– Вот, Стырь, ты и говорить мастак, а не можешь – не крепко под тобой. Я не хочу так…
Степан поставил бочонок на попа, поднялся на него.
– Мне тоже домой охота! Только домой прийтить надо хозяевами, а не псами битыми. – Атаман говорил короткими, лающими фразами – насколько хватало воздуха на раз: помолчав, опять кидал резкое, емкое слово.
Получалось напористо, непререкаемо. Много тут – в манере держаться и говорить перед кругом – тоже исходило от силы Степана, истинно властной, мощной, но много тут было искусства, опыта. Он знал, как надо говорить, даже если не всегда знал, что надо говорить.
– Чтоб не крутились мы на Дону, как Стырь на бочке. Надо пройтить, как есть – с оружием и добром. Пробиваться – сила невелика, браты, мало нас, пристали. Хворых много. А и пробьемся – не дадут больше подняться. Доконают. Сила наша там, на Дону, мы ее соберем. Но пройтить надо целыми. Будем пока стоять здесь – отдохнем. Наедимся вволю. Тем времем проведаем, какие пироги пекут в Астрахани. Разболокайтесь; добудьте рыбы… Здесь в ямах ее много. Дозору – глядеть!
Круг стал расходиться. Разболокались, разворачивали невода. Летело на землю дорогое персидское платье… Ходили по нему. Сладостно жмурились, подставляя ласковому родному солнышку исхудалые бока. Парами забредали в воду, растягивая невода. Охали, ахали, весело матерились. Там и здесь запылали костры; подвешивали на треногах большие артельные котлы.
Больных снесли со стругов на бережок, поклали рядком. Они тоже радовались солнышку, праздничной суматохе, какая началась на острове. Пленных тоже свели на берег, они разбрелись по острову, помогали казакам: собирали дрова, носили воду, разводили костры.
Атаману растянули шелковый шатер. Туда к нему собрались есаулы: что-то недоговаривал атаман, казалось, таил что-то. Им хотелось бы понять, что он таит.
Степан терпеливо, но опять не до конца и неопределенно говорил, и злился, что много говорит. Он ничего не таил, он не знал, что делать.
– С царем ругаться нам не с руки, – говорил он, стараясь не глядеть на есаулов. – Несдобруем. Куда!.. Вы подумайте своей головой!
– Как же пройдем-то? Кого ждать будем? Пока воеводы придут?
– Их обмануть надо. Ходил раньше Ванька Кондырев к шаху за зипунами – пропустили. И мы так же: был грех, теперь смирные, домой хочем – вот и все.
– Не оказались бы они хитрей нас – пропустют, а в Астрахани побьют, – заметил осторожный, опытный Фрол Минаев.
– Не посмеют – Дон подымется. И с гетманом у царя неладно. Нет, не побьют. Только самим на рожон теперь негоже лезть. Приспичит – станицу к царю пошлем: повинную голову меч не секет. Будем торчать как бельмо на глазу, силу, какая есть, сберегем. А сунемся – побьют. – Степан посмотрел на есаулов. – Понятно говорю? Я сам не знаю, чего делать. Надо подождать.
Помолчали есаулы в раздумье. Они, правда, не знали, что делать. Но догадывались, что Степан что-то приберегает, что-то он знает, не хочет сказать пока.
– Держать нас у себя за спиной – это только дурак додумается, – взялся опять за слово Степан. – Я не слыхал, что воеводы астраханские такие уж лопоухие. А с князем Львовым у нас уговор: выручать друг дружку на случай беды…
– Откуда у вас дружба такая повелась? – с любопытством спросил Ларька Тимофеев, умный и жестокий есаул с неожиданно синими ласковыми глазами. – Не побратим ли?
Он весь какой-то – вечно на усмешечке, этот Ларька, на подковырках, но Степана любит, как бабу, ревнует, и не хочет этого показать, и злится всерьез, и требует от Степана, чтобы он всегда знал, куда идти и что делать, и чтобы поступал немилосердно. Случается – атамана затрясет неудержимая ярость, – Ларька тут как тут: готов подсказать и показать, на кого обрушить атаману свой гнев. Но зато первый же и прячется, когда атаман отойдет и мается. Степан не любит его за это, но ценит за преданность.
Степан ответил не сразу, с неохотой… Не хотел разглашать лишний раз свой тайный сговор со Львовым, вторым астраханским воеводой, но что-то, видно, надо говорить, как-то надо успокоить… Несколько подумал, поднял глаза на Ларьку.
– А кто нас тогда через Астрахань на Яик пропустил? Дева непорочная? Она в этих делах не помощница. Случись теперь беда с нами, я выдам Львова, он знает. Что он, сам себе лиходей?
– Как же он тебе теперь поможет?
Степан, как видно, и про это думал один.
– Будет петь в уши Прозоровскому: «Пропусти Стеньку, ну его к черту! Он будет день ото дня силу копить здесь – нам неспокойно». По-другому ему нельзя. Надо с им только как-нибудь стренуться…
– А ну-ка царь им велит? – допрашивал Ларька. – Тогда как? Што же он, поперек царской воли пойдет?
– Мы с царем пока не цапались – зачем ему? И говорю вам: с Украиной у их плохие дела. Иван Серко всегда придет на подмогу нам. А сойдись мы с Сериком, хитрый Дорошенко к нам качнется. Он всегда себе дружков искал – кто посильней. Царь повыше нас сидит – на престоле, должен это видеть. Он и видит – не дурак, правда что… – Степан помолчал опять, посмотрел на Черноярца. – Иван, пошли на Дон двух-трех побашковитей, пускай с Паншина вниз пройдут, скажут: плохо нам. Кто полегче на ногу, пускай собираются да идут к нам – Волгой ли, через Терки ли – как способней. К гребенским тоже пошли – тоже пускай идут, кому охота. А как подвалют со всех сторон… я не знаю, как запоют тогда воеводы. Вот. Я им подпою. Посылай, Иван. Придут, не придут – пусть шум будет: мы без шуму не собираемся. А шумом-то и этих, – Степан кивнул в сторону Астрахани, – припужнем: небось сговорчивей будут.
– К гребенским послал, – откликнулся Иван.
– Ну, добре. Прибери на Дон теперь. Пойдем, Фрол, сторожевых глянем. – Степан вышагнул из шатра. Надоело говорить. И говорить надоело, и в душу опять лезут, дергают.







